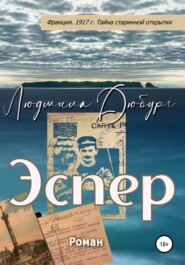
Полная версия:
Эспер
Мужчины не подозревали о мыслях друг друга, но если бы некая мистическая сила вдруг заставила их произнести мысли вслух, наверняка это было бы комично! К сожалению, или к счастью, особенность человеческой породы – умение мыслить – становится величайшим недостатком в момент, когда другая человеческая особенность – умение говорить – вступает в схватку с первым. И тогда – либо выдаст, либо прикроет.
Так размышлял Эспер, выйдя от Кюссе, радуясь, что разговор получился дружеским, не очень долгим, что есть какие-то маломальские перспективы в будущем, которого вообще-то нет, зато есть настоящее, то самое настоящее, ожидающее его на вокзале Сен-Лазар. Не сейчас, а через несколько часов. То есть в будущем, но это ближайшее будущее, и оно уж точно будет.
– Разрешите идти? – отчеканил сержант Эспер Якушев, номер 11366, чуть не проронив: «Мартина. Такая моя, родинушка…»
– Разрешаю, разрешаю, – снисходительно улыбнулся штабной офицер полковник Кюссе, сдержав тайное: «Мари, ma petite chérie, моя малышка».
* * *Проснувшись, Мартина нашла записку: «Вокзал Сен-Лазар. Жду. Едем в Мезон-Лаффит, ко мне, к нам». Внизу Эспер пририсовал солдатика, стоящего под вокзальными часами. Из глаз льются огромные, как чашки, слезы. Обе руки приложены к груди, где находится сердце. Но его там нет. Оно в руках девушки, одетой в форму медсестры. И подпись: «Твой Эспер. 1917 г., 6 мая». На часах указано время свидания.
Да… Иногда для выражения чувств не обязательно складывать поэмы. Достаточно взять в руки карандаш и сделать крошечный рисунок, который, несмотря на карикатурность, будет излучать столько любви и нежности, что и через столетия вызовет ревнивые вздохи у романтичных девушек: «Эх… где бы найти такого Эспера».
Мартина вышла из госпиталя немного раньше обычного и, волнуясь, направилась к месту встречи. Их отношения развивались настолько стремительно, что она несколько раз останавливалась: «Нет! Он не придет! Нет!» Но ночной знакомый ждал: в толпе людей под часами выделялась его высокая фигура. Встретились! Это была красивая пара – статные, темноволосые, одетые в соответствии с модой и временем. На нем – военная форма, на ней – шляпка, светлая юбка и такой же светлый жакет. Обычно за такими парочками охотились фотографы, делая из наиболее удачных снимков любовные открытки. Изображения дополнялись розочками, ангелочками и слащавыми подписями: «Мое счастье, искренне ваш».
– Месье! Мадемуазель! Фото на память? Oh! Charmante! – Подбежавший к Мартине и Эсперу фотограф, выхватив опытным взглядом пару в гуще людей, сыпал комплиментами и, не давая времени на размышления, устанавливал аппаратуру.
– С удовольствием! – неожиданно для себя сказал Эспер, слегка приобняв смущенную девушку.
Вокзальная площадь повеселела – это выглянуло капризное парижское солнце. Нежаркое, весеннее, скупое. В парке госпиталя Мишле раздались звуки мандолины, и Василий Смирнов еще успел услышать начало знакомой песни. Силясь вспомнить слова, он так и умер счастливым, к величайшему разочарованию врачей, опровергнув их прогнозы. Его тело положили рядом с Жилем Матте, опять бок о бок, в мертвецкую, о которой все пациенты знали, но никогда не говорили.
В эту самую минуту во французском Безансоне заплакала маленькая девочка, крошка Люлю, а в далекой России тяжело вздохнула пожилая женщина. Николай Калинников достал иконку своего святого, помолился, Этьен Ардэн доел остатки рагу, со вновь вспыхнувшим желанием поглядев на Камиллу. Дмитрий Орлов из Самарской губернии, поглаживая заживающий шрам на шее, в который уж раз читал мартовский номер «Ле пти паризьен» об отречении царя, изредка переспрашивая незнакомые французские слова. Генералы – русские, французские, немецкие и прочие – строчили донесения, рапорты, разрабатывали хитроумные планы, солдаты готовились к бунту. В мире шла война. А двое смеющихся людей позировали для фотографии на память.
«Отличный снимок. Отнесу месье Деле на бульвар Сабастополь», – прикидывал фотограф, надеясь удачно продать фото. Оно и в самом деле подходило для печати любовных открыток, символизирующих полное и вечное счастье. Правда, на его скоротечность указывали вокзальные часы за спиной у влюбленных, и это могло не понравиться месье Деле. Застывшие на изображении стрелки демонстрировали обреченность мгновенья, пусть и радостного, но уже прошлого. Кто знает, что будет в будущем? Поразмыслив, фотограф решил заретушировать цифры на часах, пририсовав цветочный вензель и подписав внизу: «Два сердца – одна любовь».
Месье Деле фото понравилось, но с тиражом решили повременить. На мужчине была военная форма, а это могло не понравиться уже кое-кому рангом выше. Не то время, не тот фон и, главное, не тот сюжет – солдат должен показывать храбрость, а не впадать в сантименты.
Фото так и осталось в единственном экземпляре, чтобы даже через сто лет восхитить: красивая пара! Молодая женщина держит руки за спиной, ее юбка слегка приподнялась от порыва ветра. Мужчина сохраняет выправку, стоит прямо, обнимает подругу, повернув лицо в ее сторону. Вокзальные часы, обрамленные пририсованными цветочками, показывают время: 14:30.
Видимо, ретушь стерлась. А может, и фотограф передумал, оставив все, как есть: 14:30, майский день 1917 года.
* * *Людей в поезде было немного, им удалось найти места. Мартина села напротив, тут же вытащив книжку: русско-французский медицинский словарь. Она старательно повторяла слова, фразы, иногда переспрашивая Эспера:
– Поч-ка… Лек-кие… Печен… Гляз…
– Посмотри на меня, покажи твои гляза, – смеясь, Эспер взял руки Мартины в свои, захлопнув книгу. – Я их целый день не видел. А про гляз Николая ты мне рассказала.
Со слов Мартины он уже знал, что консультация с офтальмологом прошла успешно, слепым Николай не останется, хотя на полное восстановление зрения надеяться не стоит. В большей степени пострадало лицо, врачам челюстно-лицевой хирургии придется потрудиться, чтобы вернуть пациента к нормальной жизни.
– Да-да, с ним все в порядке. – Мартина Кастель вдруг признала, что если бы не тот изувеченный солдат, быть может, никогда она не встретила бы другого русского. Ей, воспитанной в строгой католической семье, будущий избранник рисовался иным: веселым, крепким, надежным и понятным. В Эспере чувствовалась глубина, но одновременно какая-то неуловимая, на грани легкомыслия, слабость. Такие не предают, не способны осознанно ранить, такие будут бороться за кого-то из последних сил, но в критический момент легко отступят от самих себя, не потратив и малой доли тех самых сил. Не придавая собственной жизни особой ценности, живут ярко, но сгорают быстро.
Она с удовольствием осматривала дом, находя его очень уютным. Здесь всего было много: книг, безделушек, салфеточек, подушек и подушечек, фотографий в рамочках и альбомах, портретов в тяжелых рамах, зеркал, картин. В кружевном затейливом убранстве, как ни странно, ощущалась гармония, каждая мелочь дополняла другую. Казалось, убери пару статуэток, и дом обидится. Мартина это сразу поняла, принявшись знакомиться с портретами домочадцев.
– Твоя сестра? Красавица! А это ты? С братом? О, какие милые! Твоя мама в Ницце? А это кто? Такой строгий, с усами? Папа? Брат? – она перебирала фотографии, подметив сходство между членами многочисленной семьи Якушевых. Эспер отвечал неохотно, не вдаваясь в подробности. Мартина, почувствовав его смятение, захлопнула альбом и подбежала к роялю.
– Здесь много пиль, – сказала по-русски и, найдя под крышкой войлочную тряпочку, тут же принялась протирать пыль. Клавиши откликнулись недовольно, в воздухе повис до-диез, он же ре-бемоль первой октавы, которому требовалось время на успокоение.
– Да, пили здесь частенько, – засмеялся Эспер, – а теперь только пыль осталась. Он объяснил разницу между «пили» и «пыли», Мартина залилась смехом.
Растрепанная, с тряпкой в руках, простая и доступная, она стояла рядом со старым расстроенным роялем. …Вот сейчас прибегут их дети с улицы, скажут, что проголодались, усядутся, будут пинать друг друга под столом, мама сделает замечание, а папа даст по легкому щелчку каждому. И позже, спустя годы, эта реально-ирреальная картина представлялась Эсперу в малейших деталях. Отчетливо – до боли и слез. Он приблизился к Мартине, обнял ее, тряпка выпала. У них совсем не было времени на пыль.
1917 год, начало октября. Париж«Испанская матрона», как шутливо называл подругу Эспер, выправку имела горделивую, но в обиходе была проста, душевна, щедра. Видеться им приходилось лишь в короткие увольнительные, нечасто, зато письма и открытки летели навстречу друг другу регулярно, пересекаясь в тех же почтовых отделениях, может, даже лежали совсем рядышком, скучая и ожидая, когда их возьмут в руки, поглядят, поцелуют, перечитают.
Мартина – Эсперу:
«Мой дорогой, не мучайся по поводу того, что ты мне не писал. У меня же десять твоих открыток! Знаю прекрасно, что у вас не всегда есть время. И знаю, что ты меня не забываешь. Ты тоже знай, что моя любовь – навсегда, и я тебя люблю все сильнее и сильнее. За этой открыткой последуют мое письмо и дневник. Была рада побывать у наших друзей Этьена и Камиллы, они нас любят. Стараюсь не скучать, но ты тоже не грусти, еще пять дней, и мы будем вместе. Обнимаю тебя, до скорого, время пройдет быстро. Твоя…» – аккуратным почерком выводила Мартина адрес Monsieur Espère Yiakoucheff, отправляя короткое послание в первую особую дивизию, санитарный взвод номер один, город Шомон, департамент Верхняя Марна, где располагались части французской армии, в состав которых входили первая и третья бригады Русского экспедиционного корпуса.
Она всегда тщательно выбирала изображение. Трокадеро, бульвары, фонтаны, опера, мосты! Все-таки мост – еще раз об этом! – самое великое изобретение человека, подтверждающее, что не все потеряно, что заложено в человеческой природе стремление к соединению. От нее летел привет с «Le Pont»[47] Александра Третьего, а в ответ следовало приветствие от Аркольского моста, написанное стремительным почерком.
Эспер – Мартине:
«Мой обожаемый волчонок! Я крепко спал всю дорогу и был удивлен, проснувшись на Восточном вокзале. Впереди – три дня в Париже! Скоро встретимся! Очень хотел бы, чтобы твой костюм был готов к моему приезду. Постарайся также надеть маленький корсаж, чтобы я увидел тебя всю такую красивую в дни моей увольнительной. Я – счастливый мужчина, потому что у меня есть такая женщина, как ты. Ты знаешь мою радость, когда я с тобой, в нашем доме. Не грущу, так как рассчитываю…».
Было так много всего, на что хотелось бы рассчитывать, что он решил закончить без уточнений. Лишь по привычке пририсовал смешную картинку: ретивый конь мчится к девушке в форме сестры милосердия. Вместо лица у нее – улыбающаяся мордочка какого-то зверька с торчащими из-под косынки ушками. Открытка была отправлена по адресу: Париж, улица Фобур Сент Оноре, 24-бис, где с августа 1917 года разместился добровольческий госпиталь русского Красного Креста. Эспер надеялся, что Мартина успеет прочитать его письмо до долгожданной встречи в Мезон-Лаффит. Редкие свидания приносили обоим тепло, спокойствие, хрупкую надежду на будущее.
…Полночь. Она еще раз обошла палаты. Больные уже спали или переговаривались шепотом, готовясь ко сну. Николая Калинникова уже давно выписали, еще тогда, когда госпиталь был на Елисейских полях. Он так радовался! Недавно прислал фотографию: франтоватый парень в военной форме стоит, слегка скрестив ноги, приосанившись, опершись рукой на стул. На лице видны рубцы, нос приплюснут, под нижним веком правого глаза – тонкий шрам. Светлые волосы, разделенные аккуратным пробором, зачесаны набок. Николай улыбается. Внизу под портретом надпись: «Merci». Из короткого письма Мартина узнала, что их подопечный остался во Франции, усиленно учит французский, с девушкой познакомился, влюблен, и она ему отвечает взаимностью. Начал писать стихи. Мартина вспомнила про Николая, проходя мимо Шарля Дельно, молодого парня, поступившего недавно с многочисленными лицевыми ранами: нижней губы, скул, подбородка.
– Вы не спите, – она погладила влажный лоб, ощутив ладонью мокрые от слез глаза Шарля. Тот всхлипнул, пытаясь отвернуться, но малейшее движение причиняло боль, и раненый застонал.
– С лица вода не пить, – сказала по-русски фразу, которой успокаивался Николай Калинников. Шарль, не понимая, не слушая, еле шевеля губами, тихо прошептал, то ли спрашивая, то ли утверждая:
– Я никогда не смогу поцеловать женщину.
– Конечно, сможешь! Женщина сама тебя поцелует! – с этими словами она наклонилась к Шарлю, осторожно, почти воздушно, поцеловав его в воспаленные сухие губы. Шарль затих, успокоился. Уснул.
Закончив обход, вошла в перевязочную и, секунду помешкав, закрылась изнутри. Потом достала из платяного шкафа небольшое зеркальце, поставила на стол, закрепив между толстыми медицинскими справочниками, и начала раздеваться. Развязала косынку, дав наконец свободу своим пышным вьющимся волосам. Расстегнула сзади платье и, сняв через голову, аккуратно повесила на спинку кровати. Под платьем была белая батистовая рубашка на тонких, постоянно сползающих бретельках. Чуть помешкав, сняла и ее, оставшись в недлинных, тоже белых, штанишках на резиновом поясе с пуговицами посередине и плотном бюстгальтере телесного цвета, гармонично оттенявшим матовость кожи. Белье украшали легкие кружева, совсем немного, без излишеств, воланов и пышных складок. Проверив на всякий случай, что дверь точно закрыта на ключ, Мартина, глядя на себя в зеркало, спустила бретельки бюстгальтера, обнажив небольшие упругие груди. Провела пальцами по шее, остановившись на крошечной родинке справа, погладила плечи, закрыла глаза. Завтра! Завтра!
Затем достала из другого платяного шкафа сумку, вытащила пакет, развернула. В нем лежал тот самый костюм, в котором так хотел увидеть ее Эспер. Волнения были напрасны: модистка, мадам Ферран, сдержав обещание, сделала все прекрасно и вовремя. Мартина надела юбку – укороченную, а не длинную, как носили до войны. Мадам Ферран – просто прелесть! Юбка сидела великолепно – точно по фигуре, облегая бедра, чуть расширяясь к низу. Теперь корсаж! При мысли о корсаже она улыбнулась. Боже мой! Эспер! «Постарайся также надеть маленький корсаж…», – вспомнила письмо, полученное сегодня утром. О чем он думает! Познания друга в тонкостях женской моды говорили о многом, Мартина догадывалась о его богатом любовном опыте, но ее это не смущало, напротив – влекло еще больше.
Плотно облегающий светлый корсаж на пуговицах спереди и широком поясе чудесно контрастировал с жакетом – приталенным, темно-коричневого цвета, в тон юбки. А чулки? В госпитале она носила носочки, но в сумке лежали совсем новые чулки и porte-jarretelles[48]. Уф-ф! Как много одежды! Конечно, уже чуть меньше, чем ранее, но неужели однажды наступит день, когда женщина сможет двигаться, дышать легко, свободно и, бросившись в объятья любимого мужчины, не бояться, что у нее где-нибудь лопнет шнурок или порвется подвязка? И об этом тоже думала Мартина, разглядывая в зеркале красивую стройную шатенку в костюме «от мадам Ферран», скрывающем столько тайн и милых хитростей, которые очень скоро будут разгаданы. Надо лишь дождаться следующего дня. И ночи.
Еще раз перечитала короткое письмо, догадываясь о том, на что рассчитывал Эспер. Затем снова переоделась в больничную форму, решив перед сном обойти палаты, проверить форточки – больные иногда забывали их закрывать. Так и есть – окно в одной из комнат осталось приоткрытым, с улицы доносился смех, кому-то явно не хотелось спать в эту не по-осеннему теплую парижскую ночь октября 1917 года. Завтра уже наступило.
* * *Через несколько часов они встретились на вокзале Сен-Лазар, как и договаривались. Увидев ее, сияющую, полную жизни, Эспер восхитился – Мартина была невероятно хороша в своем новеньком костюме! У него никогда не будет другой такой женщины. Эта мысль вызвала сильнейший приступ счастья и непонятной боли, будто он заранее приготовился к чему-то далекому и неизбежному. Эспер обнял, прижал ее к себе, уткнувшись в пышные курчавые волосы, затем, слегка отпустив, с едва слышным стоном, сжал ее руки. Теплые, домашние, уютные – одновременно нежные и сильные.
– Мартина, ты мне обещаешь, – начал он, оторвавшись, поднеся ладони к губам.
– Да! – она улыбнулась, проведя пальцем по щегольским, совсем не военным, усикам Эспера. – У тебя уси…
– Ы! У-сы! Усики! Ты знаешь, о чем я?
– Нет!
– Тогда почему обещаешь?
– Потому что ты просишь.
– Но ты догадываешься?
– Да! – повторила Мартина.
«Ты мне обещала, что я тебя не потеряю», – подумал он по-русски, потом по-французски и снова по-русски. «Бог троицу любит», – Эспер совсем успокоился.
Они поспешили к поезду и через два часа были в Мезон-Лаффит. Дом обрадовался! Привычно заскрипел половицами, захлопал ставнями, согрел теплом зажженного камина, и лишь только ре-бемоль, он же до-диез, рассердился, когда Мартина стирала с него «пиль».
Им по-прежнему было не до пыли. После ужина, наспех приготовленного и почти нетронутого, долго лежали они в ночной тиши, обнявшись, тихо переговариваясь, пока не уснули.
За завтраком следующего дня Эспер объявил, что его командируют на остров д'Экс в звании адъютанта-переводчика.
– Остров д'Экс? В Атлантике? Но что ты там будешь делать? Там же только форты и тюрьмы! – Мартина засыпала вопросами.
Эспер отвечал скупо, сказал лишь, что это временно, что он там нужен. Очень много всего случилось за последние месяцы.
– Но зачем? – допытывалась она.
– Ты сама ответила, – нехотя пояснил он. – Острова всегда были надежным местом для тюрем. Там есть форт…
– Не понимаю. Форты – это же не тюрьма?!
– Как посмотреть… Все зависит от времени. Сегодня форт – это тюрьма.
– Эспер, о чем ты? Кто? Кого туда отправляют?
Вместо ответа он положил свою руку на ее пальчики – смуглые, изящные и крепкие. Приподнял мизинец, потянул к себе и поцеловал.
– Форт Льедо. Место ссылки для солдат из русских бригад. Для них война кончилась. Что будет, трудно сказать… Думаю, увидимся не раньше чем через месяц, в конце ноября, ближе к Рождеству. Если дадут увольнительную.
Спустя неделю после их последней встречи в Мезон-Лаффит Мартина получила две открытки. На одной – вид острова д'Экс с моря. За мощной фортификационной стеной, растянувшейся вдоль берега, виднеются лишь верхушки деревьев и крыши редких домов. От изображения повеяло холодом, пронизывающим ветром Атлантики, и Мартина невольно поежилась, представив на миг своего любимого на этом островке, окутанном тайнами и легендами о знаменитых узниках. Перед ней мелькнула картина: они с Сесиль смотрят парад на Елисейских полях. «Это же русские! – кричит Сесиль. – Смотри! Бежим женихов выбирать! Какие красавцы!». Гордые, улыбающиеся.
На глаза навернулись слезы. Что же случилось? Что они сделали? Каково им там, на этом затерянном крохотном кусочке земли Франции? Той Франции, которую они прибыли защищать.
Мысли путались. Ей даже подумалось, что, возможно, война близится к концу, и русские бригады готовят к отправке на родину. Тогда почему остров? Закрытый форт? Эспер ничего не писал, и она принялась рассматривать вторую открытку, которая ей понравилась гораздо больше. Это был портрет девушки в нарядном платье с развевающимся шлейфом и кокетливой шляпкой на курчавых волосах. На обороте Эспер нарисовал фигурку стоящего на берегу океана солдатика в наполеоновской треуголке. Внизу подпись: «Где ты, моя святая Мартина?»[49]
1917 год близился к концу, а испытания все еще продолжались.
2018 год, май. Франция. Сен-Манде, рынок почтовых открытокСреда. Продавцы раскладывают свой товар, обмениваются новостями, традиционно расцеловываются – они не виделись ровно неделю. Что-то изменилось в мире? Да ничего особенного! Где-то избрали президента, а где-то еще только готовятся. И что? Ход истории повернется в другую сторону? Может быть. Что с того? Те, у кого в коробках и коробочках лежат старые, выцветшие от времени свидетельства ушедшей эпохи, снисходительно, с философской мудростью относятся ко всем искусственным катаклизмам.
– Привет, Жерар! Comment ça va? Как дела? – обращаюсь к своему знакомому.
Жизнерадостный Жерар отвечает, что он в полном порядке, и «са ва» у него всегда отлично. Подмигивает с заговорщическим видом, говоря, что раздобыл письма, адресованные некой мадам Балофф, по его мнению, урожденной русской.
– Oui, oui, – заранее радуется Жерар, предлагая порыться в стопке писем под указателем «Аркашон», где, судя по всему, сто лет назад жила мадам Балофф. Бегло просматриваю тексты, написанные красивым, прямо-таки изящным почерком:
«Дорогая подруга! Сегодня грустная погода, как и день, которым я подписываюсь. Идет дождь, мы идем в Люксембургский сад. Вчера было очень жарко, я даже заболела от жары и усталости. Париж – не город, где отдыхают, уверяю тебя!»
Дождь кончился, и через два дня летит другое письмо: «Дорогая, любимая подруга! Еще несколько слов, чтобы сказать: веселюсь от усталости! Вчерашняя прогулка в Булонский лес была восхитительна, а вечером мы увидели знаменитого Coquelin[50], который, как известно, душа Сирано де Бержерака. Зал был полон! Надеюсь, ты в форме. Через неделю будем ближе к тебе».
И еще несколько дней спустя: «Два дня мы посвятили визитам в музеи: Лувр и Клюни. Были в Пантеоне и магазинчиках Лувра, где все, что красиво, очень дорого. Восхищаюсь этим богатством, бережно хранимым! Привет, Нотр Дам! Ты хорошо держишься, старина! В Клюни встретили мадемуазель Мари Тильбоше, она шлет тебе тысячи любезных пожеланий. Сегодня – отдых! Булонский лес, если погода сохранится, потом ужин и театр – будем смотреть „Федру“. Вечером я без сил! Преимущество в том, что сплю хорошо и на следующий день могу заново начать прогулки по Парижу. Думаю о тебе и шлю тысячи поцелуев. P. S. Да, забыла сказать, что мы недавно простились с нашей дорогой мадам Велеман. Еще одна подруга ушла. Круг сжимается. Это ужасно…»
Путешествие подошло к концу, о чем автор с грустью сообщает мадам Балофф: «Дорогая, уже восемнадцать дней в Париже. Как же быстро прошло время. Мы не всегда ладили, Марта и я. И все равно я счастлива быть с теми, кого люблю. Наслаждаемся Парижем, гуляем каждый день. Но время… Как же быстро летит время…»
Как же быстро летит время…
Две подружки переписываются. Что необычного? Ничего. Темы вечные. За исключением, пожалуй, даты отправления: апрель 1906 года! Жерар по-прежнему хочет удивить, предлагая вытянуть что-нибудь наугад. Соглашаюсь, тяну, и вот уже в руках открытка «Площадь наций. Триумф Республики». На изображении – знаменитая скульптурная композиция, в центре которой стоит Марианна, символ Франции. Вместо личного послания автор приводит фразу из газеты «Фигаро»: «Жюль Далу[51] придал своей Республике такое достоинство, такое спокойствие, что сегодня, ожив и услышав крики бастующих, она бы развернулась и бросилась прочь!»
Это было написано не вчера, а 20 ноября 1899 года, на следующий день после инаугурации бронзовой статуи. Через сто десять лет после французской революции! И что же?! Марианна, спокойная и величественная, по-прежнему возвышается на Площади Наций, привыкнув к протестам вечно недовольных парижан.
Читая послания того времени, не покидает мысль: где война? Траншеи, страх, жертвы, атаки, гнев, разочарование, усталость, боль? Где весь этот ужас? Наконец, патриотизм – где? Допустим, что цензура в тот период была жесткой, и рассказывать близким обо всех испытаниях, выпавших на долю миллионов мужчин, приходилось осторожно, лишь намекая. Зато какие романтические слова, какие чувства и чувственность выплескивали, не стесняясь и не опасаясь, эти несчастные, грязные, больные люди в ожидании прижать к себе любимых, обнять, расцеловать их. Неужели черная полоса служит своеобразным ориентиром, указывающим на то, что душа человеческая сбивается с курса?
Жерар выслушивает запутанный вопрос, послушно кивает головой и предлагает найти ответ, сделав еще одну попытку в tombola[52]. Договариваемся на три открытки. Закрываю глаза, вытаскиваю: Булонский лес, 6 марта 1921 года. «Дорогие родители! Как всегда, с большим опозданием. Но теперь это простительно, так как дьявол муж отнимает много времени. Вместе с тем очень волновалась за тебя, мама, узнав, что ты болела. Надеюсь, сейчас уже лучше? Это все твоя грязная работа, она тебя губит. Послушай, оставь ты этих солдат, поехали с нами в Африку? По крайней мере, не будет проблем с сушкой белья…»
Дата второй открытки впечатлила: 8 января 1907 года. «Выезд президента республики». Арман Фальер, 66-летний глава Третьей республики, дефилирует в конном шествии, его приветствует толпа парижан. Дамы – в длинных платьях, мужчины – в длиннополых пиджаках и шляпах. Фото для изображения было сделано в солнечный день, Париж радовался официальной церемонии. Переворачиваем открытку: на обороте тоже не грустили, правда, по другому поводу: «Дорогая Мари, вы хорошо повеселились в субботу? Нормально вернулись со своим апашем[53]? Я пришла домой утром, без десяти семь, мама волновалась. Люси забыла ей напомнить, что мы уйдем на вечер. С дружеским приветом! Передайте мои наилучшие пожелания мадам Сартори. Ваша подружка Мари».

