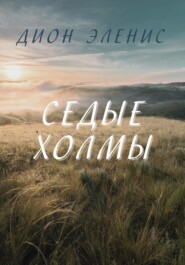скачать книгу бесплатно
Седые холмы
Дион Эленис
Дорога уводит машину всё дальше от города, ныряет в лощины, где притаились крошечные хутора с их приземистыми домами, и за каждым поворотом являет новые чудеса…После долгих лет, проведённых возле умирающей матери, Катя Грекова начинает новую жизнь и открывает для себя доселе неизведанные горизонты. Устроившись в редакцию газеты, она обретает друзей, и вместе с ними отправляется в маленькое путешествие, которое становится для неё большой дорогой перемен. Кате предстоит столкнуться с чередой событий, которые испытают её на прочность, заставив глубже заглянуть внутрь себя, разобраться в своих чувствах и эмоциях, одержать победу над страхами и получить в награду то, о чём она так давно мечтала.
Дион Эленис
Седые холмы
Пролог
Ко времени этого путешествия Кате Грековой исполнилось тридцать. И во всей её взрослой жизни не было ни одного по?настоящему счастливого мгновения. Из близких – только сестра и отец, да и тот давно жил своей жизнью, сойдясь после смерти матери девочек с её подругой, а судьбой дочерей интересовался крайне редко. Отношения с младшей сестрой у Кати были сложными. Она на дух не переносила её мужа. Жили они в двушке, доставшейся им от покойной бабушки. Атмосфера в квартире царила крайне напряжённая – какая только может быть между двумя родными людьми, питавшими взаимные претензии друг к дружке. Обитая в разных комнатах, одна порой не знала, чем живёт другая, а в местах общего пользования старались лишний раз не сталкиваться. Зато Катя по?настоящему любила племянника, с которым проводила почти всё свободное время. Задорный мальчуган частенько заглядывал в гости к тётке в соседнюю комнату, чтобы та с ним поиграла или рассказала очередную сказку, коих Катя в силу своего филологического образования знала бесчисленное множество.
Друзей у Кати не было. Она провела много времени в одиночестве, пока ухаживала за больной матерью. Сама того не желая, она сделалась столь робкой, что в разговорах, даже самых незначащих, вечно смущалась и с трудом подбирала слова.
Всю свою жизнь она подспудно ждала чего?то вроде этой поездки. Ухаживая за лежачей матерью, перекладывая её с бока на бок, чтобы у той не образовались пролежни (хотя они всё равно появлялись и к общим трудностям добавлялось их лечение), таская подносы с бульоном или кашей, перебарывая брезгливость, чтобы приступить к стирке, Катя жила одной лишь верой: что?то обязательно произойдёт и её жизнь изменится.
Когда мамы не стало, Катя устроилась корректором в редакцию газеты. Вычитывая тексты, она всё надеялась и ждала перемен. Но ничего не происходило. Пока однажды ей не предложили побыть журналистом на замену вместо ушедших в отпуск журналистов. По заданию редактора она написала несколько простеньких заметок. И, надо сказать, с поставленной задачей справилась. Причем настолько хорошо, что редакторы стали просить написать её что?то для газеты снова. Даже после того, как из отпусков вернулись журналисты. Вскоре девушку стали отправлять на пресс?конференции, брифинги, интервью и другие редакционные задания. Катя стала вхожа на мероприятия высокого ранга и была знакома практически с каждым представителем медиасферы города: от фотографов таблоидных изданий до руководителей пресс?служб разных ведомств.
Но она по?прежнему оставалась одинокой.
Пока однажды не познакомилась со мной и моим другом – журналистом?историком Сергеем Белянским. Это случилось на одном из рабочих мероприятий, кажется, посвящённом визиту высокопоставленного федерального чиновника в города. Атмосфера, как водится на таких «слётах», была суетливой, нервозной – каждый из маститых репортёров или как минимум считавший себя таковым норовил опередить своего коллегу, выуживая у столичного спикера эксклюзив. И только Катя держалась в стороне – тихо, робко, незаметно. Как?то само собой получилось, что мы с Серёгой буквально за руку её вывели из толпы на пресс?подходе, чтобы она смогла задать вопросы в самый последний момент. Позже Катя призналась тогда, что жутко стеснялась и всё ждала удобного момента, чтобы открыть рот, в то время как бойкие коллеги, взявшие чиновника в плотное кольцо, засыпали вопросами. Она была безумно благодарна нам за помощь. Так мы и сдружились.
Поэтому, когда возникла идея устроить самостоятельный пресс?тур по городам Волгоградской области, Катя, не раздумывая, согласилась.
Ещё на этапе формирования экспедиционной группы выяснилось, что в путешествие готовы отправиться всего лишь трое, включая Катю. Хотя изначально своё желание выражали вдвое больше. Нам повезло, что с нами остался настоящий знаток всех тонкостей местного туризма – Сергей Белянский. Он давно занимался краеведческой журналистикой. Благодаря своему каналу на популярном видеохостинге Сергей к своим тридцати годам удостоился по меньшей мере дюжины профессиональных наград.
К слову, компания подобралась что надо: творческие, любознательные одногодки. Оставалось дело за малым – раздобыть автотранспорт. Ни у меня, ни у Серёги личной машины не было. Решение этого вопроса, к нашему удивлению, взяла на себя Катя.
***
– Я не дам тебе свою тачку, – объявил муж сестры.
– Нашу, – возразила Катя, – эта машина моя и Леры. Нам она досталась от матери.
– Не позволяй ей брать машину, – сказал муж сестры, обращаясь к жене. – Какого это фига она ломанётся на ней хрен знает куда с какими-то типами, которых мы даже не знаем?
– Ну, ты же ездишь на нашей с Лерой машине со своими дружками, которых мы тоже не знаем, – упорствовала Катя. – И непонятно куда вы ездите и чем там занимаетесь.
– Катя! – одёрнула её сестра. – Прекрати. Мы уже выяснили, что в тот раз Валера действительно был на рыбалке. А не у какой?то там…
– Хах, – ухмыльнулась Катя, покачав головой и осуждающе посмотрев на сестру, – как же легко тебя надурить.
Лера нахмурила брови.
– А если заболеет Слава и нужно будет поехать к врачу? Если мы захотим поехать к матери Валеры в деревню?
– Мне нужна машина, и я её возьму.
– Да что ты говоришь – поглядите-ка на неё, какая смелая, – не уступал муж сестры. – Мы даже не знаем, куда и с кем ты собралась. Я не могу дать тебе свою тачку.
– Это и моя машина тоже.
– У тебя даже прав нет – ты не умеешь ею управлять…
– Ну и что. За рулём буду не я.
– Тем более. Какой?то хрен сядет за руль машины, которой занимаюсь только я.
– Да-да, – вторила супругу Лера. – Вся машина на Валере. А ты хочешь доверить её какому-то левому чуваку. Ты её не возьмешь.
– Верно, – кивнул муж сестры. – Тачка нужна нам самим.
Лера самую малость улыбнулась.
– И потом, Кать, я никогда себе не прощу, если мы дадим тебе машину и что-нибудь случится. С какой стати мы должны доверять твоим друзьям? Машина стоит огромных денег.
– Вообще-то, они – журналисты. Люди приличные и аккуратные.
– Ну да, конечно – это должно нас успокоить, – парировала Лера. – То, что ты их знаешь, ещё не означает, что Валера должен давать тебе свою машину.
– Это наша с тобой машина, а не его.
– И вообще, Кать, я поступаю, как сказала бы мама, справедливо. Она мне доверяла и уж точно не позволила бы отпускать тебя неведомо куда на её машине. Я уверена, что она согласилась бы со мной.
– К тому же, – внезапно муж сестры отыскал решающий аргумент, – где гарантии, что твои друзья не разобьют нашу единственную тачку?
***
Ранним пятничным утром, едва лучи июньского солнца брызнули на спящий город, я и Белянский стояли у подъезда Катиного дома. Запищал домофон, тяжелая серая дверь распахнулась – из неё вышла Катя. На ней было ситцевое платье, поверх которого она накинула джинсовку, а на плече болтался белый рюкзачок с минимумом вещей, которые пригодятся в пути. Нервно озираясь по сторонам, Катя торопливо подошла к нам и протянула Сергею ключи от машины. Дрожа при мысли, что сестра или её муж как раз сейчас могли проснуться и обнаружить пропажу, она представляла себе, как они в ярости выскочат на балкон и закричат с седьмого этажа: «Воровка! Ты украла у нас машину!»
Катя велела мне и Сергею скорее садиться в салон белой «Субару». Бросив рюкзаки с вещами в багажник, все трое расселись по своим местам: я разместился на заднем сидении, Сергей – за руль, а Катя – возле него.
– Поехали, поехали, – подгоняла она.
– Мы что – угоняем эту машину? – Белянский неторопливо вставлял ключ в замок зажигания.
– Так и есть, – спокойным, совершенно будничным тоном произнесла Катя, глядя прямо перед собой.
Сергей посмотрел на неё изумлённым взглядом. Я подался вперёд с заднего сиденья, вопросительно глянув на Катю.
– Чтоооо? – развела она руками. – Это наша с сестрой машина. Всё законно. Просто она не хотела с мужем отдавать её и пришлось пойти на хитрость. Стащила с полки в прихожей ключи, пока они спят.
– Вот так, Аксёнов, – Сергей обратился ко мне через зеркало дальнего вида, – кажется, что знаешь человека хорошо, а он возьми – да и выкинь что?нибудь экстраординарное.
– Ох уж эти женщины, – отвечал я отражению Сергея в зеркале.
– Ты имел ввиду, что они слегка сумасшедшие?
– Нет, не это. Женщины, у которых есть цель, очень быстро умеют находить решения даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях, ? заключил я.
– Ты прав, Даня, – согласился со мной Белянский.
– Господа, – вмешалась Катя, – извините, что прерываю вашу дискуссию, но, может быть, вы закончите философствовать и мы поедем уже?
Белянский повернул ключ зажигания – загудел мотор. Он снял с ручника машину, повернул руль вправо, и мы, тронувшись в места, поехали прочь со двора.
Глава I
Порт пяти морей
Электронные часы на приборной панели показывали ровно шесть тридцать утра, когда наш автомобиль на последнем городском светофоре свернул на московскую трассу и взял курс в северо?западном направлении. Позади оставались сонные дома большого города, между которых на пустые улицы падали косые лучи восходящего солнца. Катя улыбалась им, думая о том, что впервые за долгие годы, растраченные впустую, она наконец-то решилась на путешествие – пусть недалёкое и короткое, но на машине, хоть и взятой без разрешения, что в глазах сестры и зятя будет равноценно угону.
В голове она строила планы: посетить как можно больше городов региона за три коротких дня; переночевать у местных жителей, которые с радостью сдадут комнатку на трёх человек. Остальное время – в пути.
Катя представляла череду мгновений, увлекающих её за собой по немыслимо новой дороге в новые места. Путешествие само по себе было её свершением, цель не представлялась никак. Скорее всего, её не было вовсе. Единственное, чего хотела Катя и она это чётко понимала – насладиться каждым поворотом. Она любовалась трассой, деревьями вдоль дороги, маленькими хуторами, раскинутыми по бескрайней равнине и их приземистыми домами, дразнила себя мыслью, что может попросить Сергея остановить машину, где вздумает, и осесть там навсегда; уйти за деревья в манящие поля, где созревает рожь, и бродить там до изнеможения или уехать в донские степи, гоняться там за бабочками среди зарослей шалфея и донника, следовать вдоль быстрой реки, наблюдая как в водорослях играет чехонь, а с приближением темноты забрести в рыбацкую деревушку и найти там ночлег.
Между тем наш автомобиль довольно далеко отъехал от города и теперь мы ждали поворота – волшебную нить, которая приведёт нас к первой точке маршрута. За окном мелькнул синий указатель «Карповка». Рулевой Белянский лихо свернул с трассы влево и устремился в сторону небольшого населённого пункта.
– Карповская слобода, – объявил он, – появилась в шестидесятых годах восемнадцатого века. После того как земля была пожалована казачьему генералу Карпу Денисову. Говорят, человеком он был с весьма крутым нравом. Участвовал в боях против бунтовщиков самого Емельяна Пугачёва под Царицыном[1 - Прежнее название Волгограда с 1589-го по 1925 годы.]. Именем Денисова и была названа слобода. И не только: вон, смотрите, – Белянский кивнул в сторону извилистой водяной ленты, разрезающей посёлок напополам, через неё был перекинут мостик, по которому проехал наш автомобиль, – это речка Карповка. Кстати, она впадает в водохранилище Волго-Донского канала – до него мы ещё доберёмся. Водохранилищу тоже дали название по фамилии Денисова – Карповское.
– Любопытно, знает ли о нём хоть кто-то из местных жителей? – произнёс я, глядя в окно, за которым проплывали грязные заколоченные ларьки и порванные, выгоревшие на солнце плакаты: видимо, когда-то, очень давно, здесь проходила сельская ярмарка.
О старой слободе здесь уже мало что напоминало: вместо старых деревянных крестьянских изб и помещичьих домиков нас встречали добротные кирпичные строения современных жителей. Лишь изредка попадали старинные домишки с резными окнами и мезонинами.
– Можно проверить ради эксперимента, – предложила Катя. – Только у кого? Улицы совсем пустые. Будто вымерли все.
Белая «Субару» остановилась у ворот церкви. Как потом выяснилось, это центральное место в Карповке. Белокаменное сооружение высилось у самого берега речки, а её длинный бирюзовый шпиль был виден даже с трассы. И хотя на улицах, пока мы ехали, встретить никого не удалось, зато церковный двор был полон людей.
Из ворот вышел мужичок лет семидесяти в клетчатой рубашке с длинными рукавами, серых брюках и коричневых потёртых сандалиях. Решив, что это типичный представитель коренного населения и уж точно может знать историю посёлка, мы поспешили к нему.
– Отец, – обратился к нему Сергей, – будь добр, подскажи как доехать до Пятиморска?
(Сергей как никто другой из нас знал путь, но для коммуникабельности решил притвориться заблудившимся туристом).
Старик оглядел его с ног до головы, затем перекинул взгляд на Катю – та улыбнулась, потом посмотрел на меня и в завершение обвёл глазами машину. Очевидно, поняв, что никакой угрозы для него наша компания не представляет, он заговорил:
– А чего же добрым людям и не подсказать.
Он подробно рассказал, как выехать с посёлка на трассу, как проехать по ней ещё несколько километров до тех пор, пока не покажется православный крест и стела с указанием «Пятиморск».
– Спасибо большущее, отец, – поблагодарил старика Сергей. – Сам давно тут живёшь?
– С самого рождения, – отвечал тот, – вся наша семья по отцу из Карповки. Одно время обитал в городе, но душа всё равно рвалась обратно, в родные края.
– А сколько лет посёлку? – спросил я.
– Да уж больше двухсот шестидесяти. Здешние земли принадлежали генералу одному. Карпу Денисову. Слыхали такого?
Белянский улыбнулся и помотал головой. Катя опустила глаза, а я деликатно промолчал.
– Да откуда же вам его знать – эх, молодёжь, – хмыкнул мужчина. – Так вот, в стародавние времена Карповку населяли крепостные крестьяне. Они тоже были пожалованы Денисову. Когда-то в слободе было сто сембдесят дворов. Вот. А сейчас, дай бог, тыща триста человек живёт. И это вместе с хутором Дмитриевкой.
– Ого! – воскликнула Катя. – А по пустынным улицам так не скажешь.
– Так вы же когда приехали, – рассмеялся наш собеседник, – вы бы ещё в ночи сюда пригнали. Все же спят ещё.
– А сам чего же в такую рань подскочил? – заметил Сергей.
– Как чего? В церковь, ясно же. В храм лучше всего с утреца пораньше сходить, помолиться, попросить…
– И церковь, поди, старинная? – уточнила Катя.
– А как же – самая что ни на есть старинная. Хотя, – старик подмигнул, – с печальной судьбой.
– Большевики, – догадался я.
– Ага, – кивнул дед, – они самые. Только до сих пор в толк не могу взять: ну, революция, Ленин, коммунизм – церкви?то чего было трогать? Мешали они что ли?..
– Риторический вопрос, отец, – произнёс Сергей.
– Ась? – смутился наш собеседник, очевидно, услышав диковинные для сельского жителя изречения.
– Так чего же сталось с церковью? – теряла терпение Катя.
– В советское время здесь был то клуб, то госпиталь для раненных бойцов в Сталинградскую битву, – перечислял старик, – после войны устроили склад для зерна и овощей. Часть церкви разобрали, чтобы выложить дамбу через реку. Сильно тогда пострадала и колокольня.
– Но восстановили же, вернули людям божий дом, – заметил Сергей, глядя на церковь, и величественно подняв руку вверх словно древнеримский оратор на ростре.
– Ты думаешь, что всё так быстро произошло, – осуждающе ответил ему старик.
Он посмотрел на церковный купол, освещённый восходящим солнцем, и казалось, будто от него расходятся потоки лучистой энергии.
– Целых шестнадцать лет, – чуть слышно заговорил старик, – долгих шестнадцать лет. Её строили заново. Отстраивали. Я тогда как раз вернулся в Карповку. Как сейчас помню – две тысячи седьмой год был. Всем миром строили церковь. И вот, – он развёл руками, словно представляя нам возрождённый храм.
Катя, с детства приученная к православным традициям, всегда любила Бога. И в церкви, что у дома, молитвы читала с таким усердием, что не замечала ни посторонних звуков, ни времени. Она с благоговением смотрела на храм в Карповке, слушая рассказ мужчины. Кате подумалось, что она могла бы жить в каком?нибудь из этих домов, что напротив церкви. Каждое утро ходить в неё и молиться, благодаря Господа за каждый посланный ей день и за те испытания, что ей довелось пережить и что сделали её только сильнее. За несколько секунд Катя прожила в Карповке целую жизнь. Каждое утро после храма она мела крыльцо дома, хозяйничала в огороде, а в саду между яблоневыми и грушевыми деревьями развешивала только что постиранное бельё; каждый вечер она накрывала в саду стол и к ней приходили друзья. Они ели птицу, овощи и фрукты, выращенные Катей, разговаривали и пели романсы. А после, когда Луна висела в чёрном небе, Катя провожала гостей и желала им доброй ночи, затем в своей уютной спальне, где были высокие потолки, сверкали натертые полы и оконные стекла, засыпала под дивную песнь соловья.
– Катя, – заставил её очнуться мой голос, – мы уезжаем.
Она перекрестилась, глядя на купола, и направилась к машине. Катя успела сделать пару шагов, как почувствовала чьё?то прикосновение. Она обернулась – перед ней стояла крохотная старушонка в белом платочке.
– Милочка, – виновата произнесла она, – подай Христа ради на еду.
Катя вытащила из сумочки бумажник, вынула из него двести рублей и вручила старушонке, которая крепко зажала их в сухоньком кулачке. Девушка посмотрела в её лицо: пожилая женщина была так похожа на покойную бабушку Кати, что та едва не бросилась ей на шею.
– Спаси Господи, милая, – произнесла старушка. – Дай Бог тебе.
– Берегите себя, – сказала Катя и побежала к машине.
– Я буду за тебя молиться, – крикнула ей вслед старушонка.