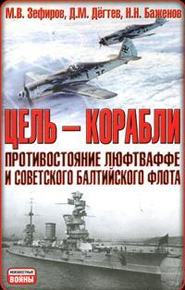скачать книгу бесплатно
14 июля штаб Балтийского флота получил сообщение о том, что якобы по Рижскому заливу следуют крупные германские конвои.
Решив наконец применить свои силы по прямому назначению, командир ОЛС контр-адмирал Дрозд направился туда с отрядом из шести эсминцев и двух сторожевиков. Однако преисполненная боевым духом «эскадра» не обнаружила ни одного судна.
Зато утром 15 июля корабли, стоявшие на якорях в бухте Кей-густи, на острове Рухну, сами были обнаружены немецким самолетом-разведчиком. Вскоре из облаков вывалились четыре Ju-88A и начали пикировать. Их заметили слишком поздно, и ни один из кораблей даже не успел сняться с якоря. Три бомбы разорвались непосредственно у борта эсминца «Страшный» капитана 3-го ранга Е. П. Збрицкого. От сотрясения на нем вышли из строя два котла и турбогенератор. Кроме того, от попавшего осколка бомбы загорелись заряды в 4-м артиллерийском погребе, но команда успела затопить его, избежав подрыва боезапаса. Погибли семь человек, и еще 22 были ранены.
Поврежденный эсминец отправился на ремонт в Таллин. Однако в 04.51 16 июля на входе в Финский залив, в 5 милях от острова Пакри, «Страшный» подорвался на мине. Носовая часть корпуса до 41-го шпангоута была полностью разрушена, просела и держалась лишь на одних листах обшивки. В корме образовались гофры по всему поперечному сечению корпуса. Носовые отсеки до 58-го шпангоута были затоплены, образовалась сильная течь в погребе № 7 и отсеке под румпельным отделением. В погребе № 4 от короткого замыкания вспыхнул пожар. Погибли 11 человек, и еще семь получили ранения. Для выравнивания дифферента пришлось затопить два кормовых погреба и правую бортовую цистерну. «Страшный» развернулся и около двух часов шел задним ходом с креном 11° и дифферентом на нос почти 3 метра. Потом он был взят на буксир и приведен сначала в Таллин, а потом 31 июля – в Кронштадт.[9 - 23 сентября эсминец поставили на ремонт на Балтийском заводе. 15.04.1942 г. восстановленный «Страшный» официально был введен в строй, однако в море до конца войны он уже больше не выходил.]
Тем временем остальные корабли ОЛС контр-адмирала Дрозда вернулись на рейд Куйвасте. А германская авиация продолжала каждый день атаковать их. Только в течение 17 июля один эсминец «Сердитый» капитан-лейтенанта А. Г. Письменного двенадцать раз подвергался нападению с воздуха, вокруг корабля взорвалось около 100
бомб, но ни одна не попала в него. На следующий день Люфтваффе выполнили 14 налетов на рейд Куйвасте. Однако добиться прямых попаданий снова не удалось.
Однако на следующий день «Сердитый» все-таки был поврежден в ходе авиаудара, нанесенного. самолетами Балтфлота. В ночь на 18 июля эсминец под флагом командующего ОЛС контр-адмирала Дрозда вместе со «Стерегущим» прикрывал сторожевые корабли «Туча» и «Снег», проводившие постановку мин. Днем оба эсминца из-за несогласованности действий флота и ВВС КБФ подверглись атаке своей же авиации. И если восемь бомб, сброшенные в 15.31 на «Стерегущий», не причинили вреда, то четыре бомбы с бомбардировщика СБ взорвались у самого борта «Сердитого». Осколки пробили борт, вывели из строя один котел, два дальномера, убили одного и ранили троих моряков.
Постоянные упражнения в бомбометании не прошли даром и для немецких пилотов, и следующий день стал последним для «Сердитого». Вечером 19 июля эсминец стоял на якоре на рейде Хельтер-маа у острова Хиума. В 17.40 по московскому времени его атаковали четыре 1и-88А из KGr.806. Корабль успел открыть огонь, поднять якорь, дать малый ход и положить руль на левый борт, но было уже поздно, и он получил два прямых попадания.
Одна бомба попала в нос эсминца. Она пробила мостик, полубак, верхнюю палубу и взорвалась на 2-й жилой палубе в районе 52-го – 55-го шпангоутов. Силой взрыва разрушило 1-е котельное отделение, от сотрясения из гнезд вылетели автоматические предохранители и аккумуляторы аварийного освещения, из-за чего все внутренние помещения погрузились в темноту.
Вторая бомба взорвалась рядом с левым бортом, из-за чего в обшивке между 50-м и 58-м шпангоутами образовалась пробоина размером 4х5 метра. Давление забортной воды вытеснило из цистерн мазут, тот загорелся, и пожар быстро охватил всю носовую надстройку и оба котельных отделения. Но самое худшее заключалось в том, что в зоне действия огня оказался артиллерийский погреб со 130-мм снарядами.
Более часа команда «Сердитого» самоотверженно боролась с пожаром, но, несмотря на помощь подошедшего к борту эсминца «Гордый», локализовать его не удалось. Огонь распространялся на корму, и тогда контр-адмирал Дрозд отдал приказ покинуть корабль. Матросы перешли на «Гордый», и едва тот успел отойти, как в 19.02
на корме «Сердитого» начали взрываться сначала снаряды в кранцах первых выстрелов орудий, а затем и глубинные бомбы в бомбосбрасывателях. Вся корма от 180-го шпангоута была полностью разрушена, и эсминец начал быстро валиться на правый борт. В 19.07 «Сердитый» затонул на глубине 7 метров, при этом его левый борт остался над водой.
Дабы как-то снизить активность Люфтваффе, командование ВВС КБФ решило нанести удар по аэродрому в районе Вентспилса. По данным авиаразведки, именно оттуда взлетали бомбардировщики, совершавшие регулярные налеты на корабли. В последней декаде июля эта задача была поставлена перед группой флотских истребителей И-153, базировавшихся на острове Сааремаа. Аэродром «в районе Вентспилса» был атакован «Чайками», а потом и штурмовиками Ил-2, однако никакого «снижения активности» не наблюдалось.
Вероятно, все дело было в том, что на самом деле на аэродроме Виндау, а именно так немцы называли Вентспилс, тогда базировались только Bf-109E из Erg.Gr./JG54. Основные же ударные силы авиационного командования «Остзее» – Ju-88A из KGr.806 – действовали с других баз: 1-я эскадрилья – с финского аэродрома Хель-синки-Мальми, а 2-я и 3-я эскадрильи – с аэродрома Проверен, расположенного в Восточной Пруссии.
24 июля в Рижском заливе близкими разрывами бомб был поврежден эсминец «Суровый», который осуществлял огневую поддержку частей 8-й армии. На следующий день истребителями Bf-109F был обстрелян эсминец «Артем», и в результате на палубах погибли шесть матросов.
Параллельно Люфтваффе продолжали минировать фарватеры на Балтике, подключая новые силы. Для решения этой задачи в конце июля была привлечены Не-111Н из II-й группы KG4 «Генерал Вефер» майора Готтлиба Вольффа (Gottlieb Wolff). В ночь на 26 июля они совершили первый вылет, сбросив в Моонзундский пролив, восточнее острова Муху, 40 донных мин LMF. Эти мины с магнитным взрывателем при общей массе 1000 кг имели боезаряд в 300 кг. Их сбрасывали без парашютов с высоты 50 метров, и они могли устанавливаться на глубинах до 300 метров.
Затем в ночь на 1 августа девятнадцать «Хейнкелей» поставили еще 38 мин LMB в районе Триги. Эти мины в отличие от предыдущих при общей массе 960 кг имели боезаряд уже в 680 кг и могли
сбрасываться как без парашюта с высоты 35 метров, так и на парашюте – с высоты 800 метров. В ночь на 5 августа бомбардировщики II./KG4 разделились. Одна эскадрилья сбросила 16 мин в Ирбен-ский пролив, южнее мыса Церель (Сырве-Сяр), а другая – столько же на подходе к Триги и на плесе около островка Кассари, находящегося около южного берега острова Хиума.
Всего же группа выполнила 55 самолето-вылетов на постановку мин. После того как 6 августа уже вся эскадра KG4 в полном составе перелетела на аэродром Коровье Село, расположенный приблизительно в 14 км южнее Пскова, ее «Хейнкели» стали регулярно привлекаться для действий против Балтийского флота.
Трудно определить, насколько эти минные постановки были эффективными, так как мины ставились не только самолетами Люфтваффе, но и надводными кораблями Кригсмарине. Можно указать лишь потери Балтийского флота, которые, предположительно, стали следствием подрывов на авиационных минах. 29 июля в проливе Соэла-Вяйн подорвался и потонул со всем экипажем тральщик ТЩ-51 «Змей». 2 августа в том же районе наскочила на мину и погибла подводная лодка С-11, и только три моряка смогли покинуть ее через торпедные аппараты. 3 августа опять же в проливе Соэла-Вяйн после подрыва на мине затонул тральщик Т-212 «Штаг».
18 августа в Моонзундском проливе подорвался на мине и затонул тральщик ТЩ-80. В тот же день около 10.00 немецкие бомбардировщики атаковали эсминец «Статный», стоявший на рейде Рогекюль в Моонзундском проливе. Корабль поднял якорь и начал маневрировать в пределах рейда, но через 15 минут подорвался на немецкой донной мине. Носовая часть корпуса до 40-го шпангоута оторвалась и, продержавшись затем на воде около десяти минут, затонула. Почти мгновенно были затоплены носовые отсеки и 1-е котельное отделение эсминца. Затем в течение двух минут заполнились водой и 2-е котельное, и 1-е машинное отделения, поскольку моряки, поспешно покидая их, не успели задраить входные люки. При взрыве погибли все, кто находился в носовой части, в том числе командир эсминца капитан 3-го ранга Н. Н. Алексеев.
Из-за сильного дифферента на нос волны в районе миделя перекатывались через верхнюю палубу. Попытка дать задний ход не удалась, и «Статный» сел носовой частью на грунт, благо глубина в этом месте около 8 метров. В 12.00 к нему подошел спасатель «Сатурн», чтобы попытаться откачать воду из затопленных отсеков, но из-за нового налета вынужден был прервать работу до наступления темноты.
За ночь насосы «Сатурна» осушили отсеки эсминца, но затем днем 19 августа, когда спасатель из-за угрозы новых авиаударов был вынужден снова отойти, вода вновь затопила их. И так продолжалось двое суток. Ситуацию ухудшила еще и погода: к вечеру 19 августа сила ветра достигла 6 баллов, а 22 августа вообще разыгрался 11-балльный шторм. Поврежденный корабль пришлось оставить, и около 14.00 22 августа «Статный» лег на левый борт и затонул.
С большой долей вероятности можно утверждать, что все эти пять кораблей погибли на минах, установленных II./KG4.
Между тем налеты на корабли Балтийского флота продолжались. Вечером 7 августа эсминец «Энгельс» капитана 3-го ранга В. П. Васильева принимал топливо на рейде Рохукюля в бухте Мухувэйн. Мазут подавался с нефтеналивной баржи «Спиноза». В 18.50 сигнальщики корабля сообщили об обнаружении трех немецких самолетов. На эсминце сразу же объявили тревогу, с грохотом поползла вверх якорная цепь. Матросы спешно сбрасывали швартовочные канаты, а те, что не успели, просто обрубили. Васильев приказал дать 12 узлов, однако было уже поздно.
Зайдя со стороны солнца, Ju-88А уже пикировали на эсминец. Вскоре в десяти метрах за кормой прогремели два мощных взрыва, вздыбивших огромные столбы воды. Третья бомба упала рядом с бортом, а четвертая попала в «Спинозу». В результате сильного сотрясения корпус эсминца между машинным и котельным отделениями переломился, вышла из строя правая турбина, кормовые орудия сместились с фундаментов, получили повреждения машинный телеграф, привод рулевой машины и магнитные компасы. Чудом никто не погиб, хотя несколько матросов вылетели за борт.
После этого поврежденный эсминец ушел в Таллин и встал в док. Ремонт «Энгельса» произвели на скорую руку: кое-как заделали палубу, переломленный корпус закрепили, приварив с каждого борта по три рельса. В итоге уже 18 августа эсминец вернулся в строй.
8 августа в 13.55 по московскому времени четыре Ju-88А из KGr.806 атаковали и добились прямых попаданий в эсминец «Карл Маркс», находившийся в бухте Хара-Лахт, около эстонского города Локса. Сброшенные ими бомбы попали в машинное и котельное отделения, взрывы пробили корпус, и, приняв большое количество воды, корабль лег на грунт. Погибли 38 матросов, и еще 47 получили ранения. Это был уже второй крупный боевой корабль Балтфлота, уничтоженный пилотами этой авиагруппы. Попутно с эсминцем затонул еще и катер МО-229. Кроме того, в этот же день ударами с воздуха были потоплены катер МО-410 и тральщик ТЩ-76 «Вал».
10 августа во время стоянки около острова Сааремаа был потоплен грузовой пароход «Бартава» тоннажем 768 брт, груженный углем. Погибли шесть человек из команды. 11 августа в Моонзундском проливе, в районе Куйвасту, «Юнкерсы» потопили минный заградитель «Суроп» и судно обеспечения «Вал». В этот же день в районе острова Вормси в результате атаки с воздуха потонул транспорт «Алтай» тоннажем 560 брт. 17 августа было тяжело повреждено гидрографическое судно «Норд».
После всех этих потерь, а также с учетом общего ухудшения обстановки на сухопутном фронте командование Балтийского флота приняло решение полностью отвести свои корабли из Моон-зудндского пролива. Последними его 27 августа покинули эсминцы «Суровый» и «Артем», пять тральщиков, три сторожевых катера и один ледокол. Все корабли ушли в сторону Таллина, но гарнизоны островов Сааремаа, Хиума и Муху еще продолжали обороняться.
Таллин
После вхождения Эстонии в 1940 г. в Советский Союз, или ее оккупации Красной Армией, тут уж кому как нравится, Таллин стал главной военно-морской базой Балтийского флота. Здесь находились основные запасы флотского имущества, склады боеприпасов, многочисленные доки и оборудованные стоянки для кораблей. На узких средневековых улочках древнего города расположились многочисленные тыловые учреждения и службы.
К июню 1941 г. противовоздушную оборону города осуществляли два полка зенитной артиллерии. 3-й ЗенАП под командованием капитана Н. И. Полунина состоял из трех дивизионов, в которых были девять батарей 76-мм орудий и одна батарея 37-мм автоматов. В 4-й ЗенАП майора Н. Ф. Рыженко также входили три дивизиона того же состава. Наблюдение за воздухом осуществляли 42 поста ВНОС, объединенные в три роты. Посты располагались в две линии к юго-западу, югу и юго-востоку от Таллина. Кроме того, в районе эстонской столицы находился 27-й отдельный батальон ВНОС Прибалтийского военного округа, имевший в своем составе четыре роты. Самые дальние посты находились в 60 км от города.
Все это обеспечивало надежное обнаружение самолетов за 8-10 минут до их появления над Таллином, за исключением северного направления. Считалось, что этого времени вполне достаточно для приведения в боевую готовность истребителей и зениток, а также для оповещения частей Балтфлота.
Еще весной 1941 г. на базу в Таллине, считавшуюся стратегическим объектом, доставили первую РЛС типа РУС-1, которая, правда, была еще весьма несовершенной. Ее установили на островке Аэгна, расположенном в 20 км севернее Таллина, для наблюдения за морским пространством. В середине июня подвезли более новую РУС-2, и, хотя осваивать ее пришлось уже в ходе начавшейся войны, круговой радиус обнаружения целей увеличился до 100–120 км. Для наблюдения за воздухом с моря была сформирована так называемая флотилия ВНОС. Она состояла из 10 вспомогательных судов, укомплектованных радиостанциями и двумя специалистами-разведчиками. Одновременно в дозоре в секторе остров Аэгна – южная часть острова Найсаар (Нарген) находились три корабля.
Кроме зенитчиков, в систему ПВО главной базы флота входил 13-й ИАП ВВС КБФ, вооруженный истребителями И-16 и И-153 «Чайка». Он базировался на аэродроме около местечка Юлемисте (Лакаборг), расположенного на берегу одноименного озера, примыкавшего к южным и юго-восточным окраинам Таллина.
Начало войны в главной базе Балтфлота прошло относительно спокойно. Мирную обстановку слегка нарушил лишь одиночный самолет-разведчик, пролетевший над городом и портом на большой высоте. Подобные полеты повторились и в последующие дни. Летчики 13-го ИАП неоднократно вылетали на перехват, однако подняться на 5000–7000 метров, а именно на такой высоте, по их утверждению, летали немцы, истребители не могли. Увиденных «призраков» летчики опознали как «Мессершмитты-110».
1 июля для усиления противовоздушной обороны в Таллин с островов Суур и Пакри был передислоцирован 202-й зенитный дивизион капитана А. А. Черного. Его орудия и поставили на защиту аэродрома флотской авиации Юлемисте. Там же расположилась и батарея зенитных автоматов лейтенанта П. Ф. Наумова.
Работа постов ВНОС в Эстонии осложнялась работой местных повстанцев из «кайтселийта». Они выводили из строя полевую радиосвязь и провода, убивали бойцов-наблюдателей. Тем не менее до середины июля обстановка в районе Таллина была довольно
спокойной, хотя все знали, что фронт стремительно приближается. Напряжение ощущалось только в порту. С началом войны объемы перевозок значительно возросли, потом появились сообщения о первых погибших кораблях и транспортах, в основном от взрывов на минах.
Спокойствие закончилось на рассвете 14 июля. Восемнадцать.11-88А и Bf-110 атаковали аэродром Юлемисте. Сначала на взлетную полосу посыпались бомбы, а затем «Мессершмитты» с малой высоты обстреляли самолеты и аэродромные сооружения. На следующий день налет повторился, причем на сей раз летчики 13-го ИАП заявили сразу о якобы семи сбитых бомбардировщиках.
2 августа Люфтваффе совершили первый налет непосредственно на сам Таллин. В это время в воздухе патрулировала пара «Чаек» (ведущий лейтенант А. В. Мурашев). Кроме того, после сообщения о приближении немецких самолетов в воздух поднялись еще 16 истребителей. Согласно донесению капитана Блинова, его группа И-153 «разогнала» звено «Юнкерсов», выпустив по ним неуправляемые реактивные снаряды РС-82,[10 - Под каждой плоскостью И-153 устанавливались по четыре направляющих для РС-82.] после чего совместно с пилотами И-16 сбила три бомбардировщика.
На следующий день двадцать. u-88 совершили второй налет на Таллин. Правда, сам город немцы не бомбили, чтобы не разрушить памятники средневековой архитектуры и не вызвать негативной реакции по отношению к себе со стороны эстонцев, бомбы сбрасывались только на позиции зенитной артиллерии, военные объекты и порт.
К концу августа 1941 г. положение на Северном и Северо-Западном фронтах было катастрофическим для Красной Армии. Линии фронта практически не существовало, и остатки войск продолжали стремительно отходить на север и северо-восток. Одни в Эстонию, а другие – к Ленинграду и Новгороду. Лишь местами оказывалось кое-какое сопротивление. В итоге уже к 10 августа дивизии Вермахта вышли на подступы к Таллину. В командование сухопутной обороной города вступил начальник ПВО Балтфлота генерал-майор береговой службы Г. С. Зашихин. Расчеты 76-мм и 85-мм зениток получили приказ в случае необходимости вести огонь прямой наводкой. С воздуха к защите базы подключился 71-й ИАП ВВС КБФ.
В самом неблагоприятном положении при этом оказался Балтийский флот. Стремительно потеряв многочисленные базы на побережье Прибалтики, корабли, вспомогательные суда и тыловые службы в беспорядке отступали к эстонской столице. Только в последний момент благодаря отчаянному сопротивлению бригад морской пехоты, стрельбе крейсеров и эсминцев, а также импровизированным укреплениям удалось остановить противника на подступах к городу. Однако ситуация была критической. Подтянув артиллерию и авиацию, немцы стали планомерно теснить русских к морю. Бомбардировщики время от времени совершали налеты на порт и рейд, где наблюдалось целое скопище кораблей.
14 августа оборона Таллина была возложена на Военный Совет КБФ, который возглавляли вице-адмирал В. Ф. Трибуц и его заместитель по сухопутной обороне командир 10-го стрелкового корпуса генерал-майор И. Ф. Николаев. Они пытались укрепить оборону, но все прекрасно понимали, что нет никакого смысла оборонять город, в то время как немцы уже вышли на подступы к Ленинграду. Оставалось только одно – спешно готовить эвакуацию.
Тем временем налеты продолжались. Так, 15 августа 18 бомбардировщиков нанесли удар по 3-й батарее 14-го зенитного дивизиона капитана И. П. Третьиченко. Десятки бомб разных калибров разорвались на позициях. После этого в течение трех-четырех часов зенитчики приводили батарею в порядок, оказывали помощь раненым и хоронили убитых.
Поскольку железная дорога Таллин – Ленинград была перерезана еще в конце июля, связь с главной базой Балтфлота осуществлялась только по морю. Конвои и одиночные суда, обходя минные поля и подвергаясь атакам авиации, подвозили боеприпасы, эвакуировали раненых и беженцев.
15 августа из Кронштадта в Таллин следовал конвой. В районе бухты Хара-Лахт он подвергся нападению немецких самолетов. Грузовой пароход «Кретинга» тоннажем 542 брт, уклоняясь от бомб, свернул с протраленной полосы и сразу же подорвался на мине и потонул. В данном случае пилоты Люфтваффе фактически потопили корабль, даже не попав в него!
20 августа в составе конвоя из Таллина в Ленинград шел грузопассажирский теплоход «Сибирь» тоннажем 3767 тонн, имевший на борту 890 раненых бойцов и 410 человек гражданского населения. Выход конвоя был зафиксирован самолетами-разведчиками, и вскоре его начала атаковать авиация. В районе острова Родшер «Сибирь» получила прямое попадание. Бомба попала в машинное отделение, в результате чего возник сильный пожар. С помощью кораблей охранения удалось снять с горящего теплохода и высадить на остров Гогланд (Сур-Сари) примерно 900 человек, в том числе 690 раненых. Остальные 209 человек погибли. После этого спасательное судно «Сигнал» повело поврежденное судно, имевший крен 30°, в Кронштадт. Однако после нового налета «Сибирь» все же затонула.
21 августа погиб грузовой пароход «Леени» тоннажем 1842 брт. Идя из Таллина в Кронштадт, в районе мыса Юминда он подвергся атаке бомбардировщиков, начал маневр уклонения и, как и «Кре-тинга» пятью днями ранее, наскочил на мину. Вместе с судном на дно ушли почти 3000 тонн различных грузов.
Утром 24 августа из Таллина в Кронштадт вышел конвой в составе санитарного транспорта «Андрей Жданов» (на его борту были 700 раненых), парохода «Аэгна», поврежденного эсминца «Энгельс», танкера № 11 и еще трех судов под охраной шести тральщиков и одного катера «МО». В районе мыса Юминда конвой сначала подвергся артиллерийскому обстрелу с берега, а затем его многократно атаковали немецкие самолеты. В 14.40 группе «Юнкерсов» удалось добиться двух прямых попаданий в транспорт «Эстиранд», на борту которого находились мобилизованные эстонцы. Поврежденный пароход отвернул от конвоя и выбросился на мель у острова Кери. Благо мелей в Финском заливе хватало, труднее было как раз найти глубоководный фарватер. Но неприятности на этом не закончились. В 17.05 «Энгельс» подорвался на мине и через 45 минут затонул. Это был уже седьмой эсминец, потерянный Балтийским флотом за два месяца войны.
Самолеты Люфтваффе продолжали регулярно появляться над конвоем, причем каждый раз звеньями по четыре бомбардировщика. Тральщики и «морской охотник» вели заградительный огонь, но скорострельность 45-мм пушек оставляла желать лучшего. Редкие одиночные разрывы не могли испугать пилотов. В 18.07 две бомбы взорвались на корме танкера № 11. Его танки были пусты, что и позволило избежать немедленной гибели. Тральщик «Ударник» и пароход «Аэгна» сняли с судна всю команду и несколько сотен пассажиров и продолжили путь на восток. Танкер же продолжал медленно тонуть и в 19.40 по московскому времени ушел под воду.
В ночь на 25 августа в Кронштадт вышел еще один конвой, включавший пять транспортов, четыре тральщика, сторожевые корабли «Ижорец» и «Чапаев» и четыре катера «МО». Самым крупным судном был пароход «Даугава», на борту которого находились 506 раненых солдат. Все утро и первую половину следующего дня тихоходные суда в основном боролись с бесконечными минными полями, выставленными германскими и финскими кораблями. После обеда в небе, как всегда, появились и самолеты.
Пилоты Люфтваффе всегда выбирали корабли покрупнее и потому и нацелились на «Даугаву». В ходе первого налета осколки бомб, разорвавшихся вблизи от бортов, повредили главную магистраль паропровода, и судно на время лишилось хода. После устранения аварии транспорт двинулся дальше. Бойцы, находившиеся на палубах, молились, чтобы поскорее снова наступила темнота или пошел дождь. Но как назло август на Балтике выдался жарким и солнечным. Сам Финский залив навевал неприятные ассоциации. Повсюду плавали обломки, мазутные пятна, глушеная рыба, время от времени попадались обломки судов и спасательные круги.
Вскоре налеты возобновились. И снова главный удар наносился по «Даугаве». Вокруг бортов парохода поднимались огромные столбы воды, валя его с борта на борт, осколки со звоном пробивали палубы и надстройки. Взрывной волной снесло за борт 50 человек, срезало правое крыло мостика, разбило все шлюпки, повредило мачты и покоробило дымовую трубу. От динамического удара вышли из строя машины, и пароход уже окончательно потерял ход. Тогда «Даугаву» взяли на буксир тральщики ТЩ-44 и ТЩ-47, которые к утру 26 августа довели ее до острова Сууркюля. Затем поврежденный пароход был отбуксирован в Кронштадт.
Между тем обстановка в самом Таллине ухудшалась с каждым днем. 20 августа немецкие танки и мотопехота вышли к главному рубежу обороны города, и корабли Балтфлота начали вести огонь по наступающим. Первым в 20.25 22 августа из своих 180-мм орудий открыл огонь легкий крейсер «Киров». На прямую наводку на рубеже обороны поставили 64 зенитки среднего и 12 малого калибра, а также счетверенные «Максимы».
23 августа над Таллином впервые был подбит немецкий самолет-разведчик. Пилот сумел совершить вынужденную посадку на остров Прангли, в 48 км северо-восточнее Таллина, где его экипаж и попал в плен. На эту победу претендовали зенитчики легкого крейсера «Киров». Однако этот успех уже никого не воодушевлял. Каждый день по расписанию рейд и порт, где скопилось свыше двухсот кораблей всех типов, атаковали мелкие группы бомбардировщиков. Главным образом это были Ju-87R и Ju-88A из KG77.
При каждом налете катера «МО» сразу ставили дымовую завесу, а зенитчики многочисленных кораблей вели заградительный огонь. Начальник штаба КБФ контр-адмирал Ю. А. Пантелеев затем вспоминал: «Ксожалению, зенитные пушки на эсминцах и лидерах с низким потолком и малой скорострельностью… В лучшем положении крейсер „Киров“, у него кроме зенитных орудий есть еще зенитные автоматы, а также современные приборы управления огнем». Однако бешеная стрельба, создававшая над гаванью десятки и сотни разрывов, все же затрудняла прицельное бомбометание.
К 25 августа немцы подтянули к Таллину дальнобойную артиллерию. В связи с усилением артиллерийских обстрелов и налетов корабли были вынуждены сниматься с якорей и под прикрытием дымовых завес на малых ходах маневрировать в тесной гавани. При этом «Кирову» для этого был придан специальный буксир.
В течение этого дня крейсер семь раз подвергался ударам авиации, но ни одна из 55 сброшенных бомб так и не попала в него. Однако в его корму угодил 152-мм артиллерийский снаряд. В палубе образовалась пробоина площадью 1,5 кв. м, были повреждены трубопроводы забортной воды и отопления, возник пожар в кубрике № 12, на юте загорелись шесть больших глубинных бомб. Были убиты 9 моряков и еще 30 ранены.
26 августа налеты на корабли продолжились. В 06.38 фугасная бомба SC50[11 - Обозначение бомб в Люфтваффе состояло из одной или двух литер, указывающих на ее тип, и цифр, соответствующих ее общей массе. Например, SC50 означало «50-кг фугасная бомба», SD250 – «250-кг осколочная бомба», PC1000 – «1000-кг бронебойная бомба».] попала в эсминец «Славный». Взорвавшись при ударе о щитовое покрытие кормового орудия главного калибра, она засыпала все вокруг осколками. Еще четыре бомбы рванули под водой в 5-10 метрах от правого борта эсминца, подняв тонны воды и ила. Водяные столбы с грохотом обрушились на борт, залив через дымовые трубы топки котлов № 3 и № 4 и машинное отделение. Находившиеся там матросы решили, что эсминец тонет, и в панике ринулись на верхнюю палубу, давя друг друга.
В 09.50 самолеты Люфтваффе снова появились над рейдом, сбросив еще 24 фугасные бомбы. Затем в период с 16.30 до 18.12 немцы произвели еще три налета на русские корабли, сбросив около 100 бомб. Одна осколочная бомба SD10 попала в кормовую часть лидера «Минск» и разорвалась на палубе, но не пробила ее, а только повредила настил. Осколками был ранен один из матросов и разбит прицел 45-мм зенитного орудия. Возник пожар, который вскоре был потушен.
Ближе к вечеру немецкие пилоты, изрядно поупражнявшись, наконец добились крупного успеха. Они потопили в бухте Копли-Лахт грузовой пароход «Луначарский» тоннажем 3618 брт, стоявший там в ожидании погрузки эвакуируемых.
На следующий день авиацией был потоплен плавучий док и разрушены склады в торговом порту Таллина. 831-я зенитная батарея лейтенанта А. Д. Давыдова вела огонь прямо с пирса, при этом бойцы в горячке боя заявили, что сбили торпедоносец, якобы заходивший для атаки! В то время как таковых в составе Люфтваффе на Балтике просто не было.
Разгром суперконвоя
26 августа 1941 г. наконец пришел долгожданный приказ из Москвы, разрешавший перебазировать флот в Кронштадт, а также эвакуировать оставшиеся войска в Ленинград. А на следующий день германская пехота уже вела бои на улицах города. Было ясно, что падение Таллина вопрос пары дней. Погрузка на суда, которая велась и ранее, с этого момента пошла стахановскими темпами. Под обстрелами и бомбежками на пароходы, лайнеры, танкеры, ледоколы, буксиры и прочие суда грузили все подряд: автомобили, зенитные орудия, снаряды, запасы одежды, шины и даже личное имущество адмиралов – серванты, посуду и мягкую мебель. При этом все это происходило в полном хаосе без какого-либо централизованного руководства.
Так, на транспортном судне «Балхаш» должен был идти госпиталь. Известие о погрузке, полученное в ночь на 28 августа, явилось для всех полной неожиданностью. «Посадка» велась неорганизованно, без единого начальника, посему каждый грузил, что хотел: сундуки, велосипеды, чемоданы и даже пиво! Раненые бойцы в количестве примерно 4000 человек хаотично расселись по всей верхней палубе, заняв каждый клочок.
Вывод людей с позиций для посадки на корабли также осуществлялся наобум, бойцы буквально штурмовали первый попавшийся пароход. Кругом царила паника и неразбериха. В 18.00 началось уничтожение заводов, складов и других ценных объектов. Зенитчики, постепенно прекращая огонь, тоже готовились к эвакуации. Для пэвэошников был специально выделен транспорт «Казахстан» тоннажем 3039 брт. На него грузились бойцы и материальная часть 17-го, 19-го, 83-го и 202-го артдивизионов.
Тем временем командующий флотом вице-адмирал Трибуц совместно со своим начальником штаба контр-адмиралом Пантелеевым разработали план перехода. Теоретически все выглядело по-детски красиво. В голове караванов должны были пойти тральщики, за ними – транспорты, переполненные бойцами, ранеными, беженцами и техникой, и последними – боевые корабли, прикрывавшие отход. Командование флота, естественно, собиралось плыть на легком крейсере «Киров». Однако сей «замысел» не брал в расчет, что большинство судов были перегружены, имели разные характеристики и, самое главное, скорость. Еще никогда в истории сражений на море не проводилось операций по проводке сразу двух сотен разнотипных кораблей.
Расстояние до Кронштадта составляло около 200 миль, причем все знали, что Финский залив между Таллином и островом Гогланд за прошедшие два месяца войны был щедро усеян минами самых разных конструкций. Их, не щадя сил, неутомимо выставляли финские и немецкие катера, а также бомбардировщики Люфтваффе. Начиная с 11 июля в районы к северо-западу, северу и северо-востоку от мыса Юминда было доставлено более 2500 мин. Фактически ближайший к южному берегу залива фарватер был «засажен» целыми полями «адских машин». Однако Трибуц принял странное решение идти как раз по нему, боясь, что в открытом море суда «потеряются» или сдадутся финнам. Кроме того, он также боялся мнимых атак линкора «Тирпиц» и немецких подводных лодок, коих в Финском заливе и в помине не было.
Организованной эвакуации не получилось. В только что оставленном Таллине немцы захватили 11 432 пленных, 293 исправных артиллерийских орудия, в том числе 144 зенитные пушки, 304 пулемета, 91 бронемашину, два бронепоезда, а также 4000 якорных мин, 3500 (!) торпед и более 1000 авиабомб всех калибров. В порту были брошены или затоплены 28 различных судов.
Шторм и усилившийся ветер сильно затруднили работу тральщиков, поэтому вице-адмирал Трибуц отдал приказ о выходе только утром 28 августа, когда погода улучшилась. Около 11.18 первая группа кораблей вышла из гавани Таллина и начала движение на восток. Всего в состав огромнейшего конвоя входили около 200 боевых, вспомогательных, транспортных и пассажирских кораблей самых разных типов и классов. В 12.50 над скоплением кораблей пролетел немецкий тактический самолет-разведчик FW-189. Таким образом, о выходе конвоя сразу стало известно немцам.
Уже в 13.20 шесть самолетов Люфтваффе, которых наблюдатели приняли за «Ю-87», атаковали корабли. Надо сразу заметить, что в советских источниках эти штурмовики неоднократно упоминаются среди самолетов, бомбивших корабли Балтфлота во время перехода из Таллина в Кронштадт, при этом даже указывается, что они были из «61-й учебно-боевой эскадрильи». Однако такой эскадрильи в Люфтваффе никогда не существовало, а в 1-м воздушном флоте на тот момент не было ни одной группы, оснащенной Ju-87. Вероятно, это были Bf-110 из ZG26 или Ju-88A из KGr.806, правда, остается открытым вопрос, как можно было принять двухмоторный самолет за одномоторный.
Как бы там ни было, но атакующие промахнулись. Несколько бомб взорвалось возле плавмастерской «Серп и Молот», не причинив этому большому кораблю тоннажем 6000 брт и длиной 107 метров серьезных повреждений.[12 - Судно было построено в 1900 г. в Англии в качестве грузового парохода. Затем было куплено Россией и 10.06.1905 г. вошло в состав флота под названием «Ангара». Затем в 1922 г. его переименовали в «Серп и Молот». Фактически это был огромный плавучий завод, где кроме собственно дымовой трубы имелась еще и труба литейно-кузнечного цеха! Плавмастерская была вооружена четырьмя 45-мм зенитками, двумя пулеметами «Максим» и двумя пулеметами ДШК.] После этого в течение нескольких часов над Финским заливом пролетали различные самолеты, но новых атак больше не последовало.
В штабе 1-го воздушного флота Люфтваффе не сразу отреагировали на новость о выходе конвоя. Поначалу там, видимо, решили, что речь, как и раньше, идет о проводке обычного небольшого конвоя. Лишь к вечеру стало ясно, что в море вышли практически все русские корабли. В это время почти все имевшиеся бомбардиров-
щики выполняли задания на сухопутном фронте, однако вскоре «восьмерка» Ju-88A из 2-й эскадрильи KG77, вылетевшая для атаки шлюзов Беломоро-Балтийского канала, сообщила по рации, что не может выполнить задание из-за неблагоприятных метеоусловий. Тогда экипажи этих «Юнкерсов» получили приказ атаковать советские корабли, находившиеся тогда западнее минного заграждения у мыса Юминда.
Самолеты появились над конвоем только в 17.55 и тут же добились первого успеха. Шедший концевым транспорт ВТ-530 «Элла» тоннажем 1523 брт получил сразу два прямых попадания. Надо отметить, что почти все суда, участвовавшие в Таллинском переходе, официально именовались военными транспортами (ВТ), имели камуфляжную окраску, на большинстве имелось вооружение. Таким образом, Люфтваффе имели полное право атаковать их, не нарушая при этом никаких международных норм.
Над «Эллой» взметнулся огромный столб дыма, в воздух взлетели обломки и куски человеческих тел. После этого потерявшее управление судно отвалило вправо и вскоре еще и наскочило на мину. После трех страшных ударов транспорт быстро перевернулся вверх килем и ушел под воду. Находившийся поблизости буксир С-101 поспешил к месту катастрофы, но сам подорвался на мине и погиб со всей командой. Тогда к тому же месту, невзирая на опасность, ринулся буксир КП-6, команде которого удалось подобрать 49 человек. Многие пассажиры находились в ужасном состоянии, наглотавшись соленой воды и мазута. Таким образом, всего на «Элле» погибло 866 человек!
После этого Ju-88A атаковали лайнер «Вирония» тоннажем 2026 брт. С его верхней палубы по пикирующим бомбардировщикам открыли огонь крупнокалиберные пулеметы. Одновременно началась пальба с находившегося поблизости эсминца «Суровый». В то же время капитан судна резко переложил руль на борт. Однако пилотов 2./KG77 это никак не смутило. Первые бомбы взорвались по бортам, окатив находившихся на палубе пассажиров водой.
В этот момент на «Виронию», ревя моторами, начал пикировать еще один «Юнкерс». На сей раз фугасная бомба попала точно в корму лайнера, пробила палубу и взорвалась в котельном отделении. Погибли и получили ранения десятки людей, а многих ударной волной сбросило за борт. Однако корабль держался на воде, и вскоре к нему подошло спасательное судно «Сатурн». Когда из воды на борт подняли всех людей, «Вирония» была взята на буксир и поплелась дальше.[13 - Через несколько часов «Вирония» подорвалась на мине и затонула.]
Немецкие бомбардировщики косвенно стали причиной гибели ледокола «Кришьянис Вальдемарс» водоизмещением 2250 тонн. Когда в 18.15 корабль со стороны атаковали два «Юнкерса», капитан переложил руль вправо, начав описывать циркуляцию. Это спасло ледокол от попаданий бомб, зато вскоре под ним взорвалась мина. Судно подбросило вверх, затем оно начало валиться на борт с одновременно увеличившимся дифферентом на нос и быстро скрылось под водой.
В 19.03 конвой снова атаковали пресловутые «Ю-87», которые на сей раз выбрали главной целью транспорт ВТ-511 – старый эстонский пароход «Алев» тоннажем 1500 брт,[14 - В 21.57 того же дня пароход «Алев» подорвался на мине и погиб, унеся с собой под воду 1276 человек. Спастись удалось лишь шестерым.] на борту которого находились 1282 человека, в том числе 843 раненых. Однако ему удалось уклониться от попаданий. Едва команда и пассажиры перевели дух, как в небе появились Ju-88A Они сбросили несколько десятков бомб, но лишь одна из них нашла свою цель, попав в мостик «Алева». В результате погиб капитан Г. Покидов, часть матросов выбросило за борт. Однако оставшиеся сумели потушить пожар и восстановить управление.[15 - Был построен в 1909 г. в Англии и спущен на воду под названием «Бромгстроу». В 1935 г. пароход купила Эстония, а в 1940 г. он, как и многие другие, пополнил советский флот.]
После этого над Финским заливом стало темнеть, и Люфтваффе вынуждены были прекратить атаки. Таким образом, в результате первой серии налетов конвой потерял два транспорта, еще два получили повреждения. Это был весьма скромный результат.
Но для русского флота ночь отнюдь не стала спасительной. При прохождении мыса Юминда корабли один за другим стали подрываться на минах. Так, в течение двух часов – с 20.36 до 22.30 – ушли в пучину эсминцы «Яков Свердлов», «Калинин», «Володарский», «Скорый» и «Артем», унеся на дно морское сотни моряков. Лидер «Минск», эсминцы «Суровый», «Гордый» и «Славный» тоже подорвались, но все же остались на плаву. Легкий же крейсер «Киров» уцелел буквально чудом, его параваны несколько раз цепляли мины, причем некоторые из них матросы попросту отталкивали шестами! В итоге один из параванов пришлось попросту отрезать сваркой.
После этого вице-адмирал Трибуц в 22.45 вынужден был дать приказ остановить движение конвоя и встать на якоря к северу от острова Вайндло. С одной стороны, это решение спасло суда от новых подрывов на минах, но с другой стороны, значительно оттянуло их прибытие в Кронштадт.
Командир KG77 оберст Ханс-Йоханн Райтель (Hans-Johann Raithel) начал получать сообщения о движении огромного русского конвоя еще днем, сначала от самолетов-разведчиков, а затем и от экипажей восьми Ju-88А из 2-й эскадрильи, доложивших о потоплении нескольких транспортов. Однако никаких указаний из штаба 1-го воздушного флота в течение дня не поступало. И лишь поздно вечером 28 августа Райтель получил приказ уничтожить конвой. Цель операции состояла в том, чтобы разгромленные в Прибалтике советские войска не добрались до Ленинграда, где они могли немедленно включиться в оборону города.
В это время основной базой штаба KG77 и трех групп эскадры по-прежнему служил аэродром около Нойхаузена,[16 - Ныне г. Гурьевск Калининградской обл.] в 10 км северо-восточнее Кенигсберга, от которого до южного побережья Финского залива в районе эстонского города Кунда по прямой было около 640 км. Однако для боевых вылетов непосредственно над линией фронта уж начинали использоваться и захваченные советские аэродромы, находившиеся на территории прибалтийских стран. К ударам по кораблям так же планировалось привлечь и другие самолеты 1-го воздушного флота, в том числе Не-111 и Bf-110.
Непосредственная подготовка к операции началась еще до рассвета 29 августа. Общее руководство осуществлял штаб авиационного командования «Остзее», располагавшийся в Риге. В 03.20 по берлинскому времени два самолета-разведчика отправились к Финскому заливу, дабы установить текущую позицию конвоя. К этому времени техники уже заканчивали подготовку «Юнкерсов» к вылету, заправляя их горючим и подвешивая бомбы.
Приблизительно через час в штабе KG77 получили радиосообщение от разведчиков, что армада русских кораблей находится примерно в 50 километрах к западу от острова Гогланд. Это означало, что до Кронштадта им предстояло идти весь следующий день. Экипажи бомбардировщиков получили приказ в первую очередь атаковать крупные транспорты с войсками, боевые корабли являлись второстепенными целями. Один за другим Ju-88A начали выруливать на старт…
Рассвело над Финским заливом в 05.25 по московскому времени. Небо было ясным и безоблачным, что не предвещало ничего хорошего. Едва рассеялась предрассветная дымка, как в небе послышался гул моторов. В 06.05 над конвоем на большой высоте прошел немецкий самолет-разведчик, уточнивший диспозицию кораблей. Вице-адмирал Трибуц понимал, что налеты Люфтваффе неизбежны. К этому времени из крупных кораблей в боеспособном состоянии остались только легкий крейсер «Киров» и эсминец «Сметливый».
Лидер «Минск», на котором после подрыва на мине вышла из строя вся навигационная аппаратура, шел в кильватер за лидером «Ленинград», используя его в качестве своеобразного поводыря. Эсминец «Свирепый» вел на буксире эсминец «Гордый», а эсминец «Суровый» сопровождал сильно поврежденный «Славный». При этом Трибуц знал, что его могут расстрелять не за потерю транспортов, а за гибель «Кирова» и эсминцев, и посему он принял простое решение: крупным кораблям в сопровождении оставшихся тральщиков на большой скорости идти прямо в Кронштадт, а пароходы и вспомогательные суда предоставить самим себе.
Первый удар немцы нанесли как раз по удирающему «Кирову». В 06.55 шесть самолетов, снова опознанных как «Ю-87», со встречного курса атаковали крейсер. В ответ ударили шрапнелью орудия главного калибра, им вторили остальные зенитки, пушки и пулеметы эсминцев. В результате пилоты штурмовиков не выдержали и неприцельно сбросили бомбы с большой высоты, естественно, ни разу не попав.
Тем временем разношерстная армада из сотен транспортов и вспомогательных судов в 05.40 также двинулась на восток. До Кронштадта оставалось еще около 150 км. После гибели пяти эсминцев и ухода остальных в компании с «Кировым» строй судов окончательно нарушился, и они двигались в полном хаосе, представляя собой фактически полигонную цель для бомбардировщиков.
Около 08.00 по московскому времени последовал первый массированный налет. Сначала жертвой Ju-88A из KG77 стал большой транспорт ВТ-523 «Казахстан», на котором плыли остатки войск
ПВО Таллина во главе с генерал-майором Зашихиным. Бомбы разрушили рулевую рубку и вызвали пожар в машинном отделении. Капитан был выброшен за борт ударной волной. Пассажиров тут же охватила паника, и многие стали в беспорядке бросаться за борт. Однако матросам вскоре удалось локализовать очаги огня, судно осталось на плаву и продолжило путь.
Вслед за этим самолеты поразили транспорт ВТ-512 «Тобол» тоннажем 2760 брт, который почти сразу же перевернулся и утонул. На его борту находились 3500 бойцов и командиров, оставшихся от разгромленных в Эстонии трех стрелковых дивизий. Большинство из них погибли вместе с «Тоболом».[17 - Построен в 1911 г. в Германии под названием «Росток». В 1934 г. его купил СССР, и с началом войны он использовался как военный транспорт ВТ-512.] Близкими разрывами бомб также был поврежден пароход «Ленинградсовет».
В 08.20 горящий «Казахстан» подвергся новой атаке. Одна бомба упала около правого борта, перебив осколками расчет одной из зениток, а вторая взорвалась на верхней палубе. Транспорт получил тяжелые повреждения и впоследствии с большим трудом был на буксире доставлен в Кронштадт 2 сентября.
Затем группа из пяти «Юнкерсов» появилась над шедшими один за другим лидерами «Ленинград» и «Минск». Разделившись, они атаковали корабли, отчаянно огрызавшиеся из 45-мм пушек. Все сброшенные бомбы упали на расстоянии 10–20 метров от их бортов, а одна – между лидерами. Поврежденный «Минск» получил дополнительные осколочные пробоины в дымовых трубах, в надстройках и наружной обшивке бортов.
В то же время один из самолетов во время пикирования был подбит и загорелся, волоча за собой шлейф черного дыма. Летчик все же смог вывести машину из пике, однако, пролетев несколько сот метров, она все же перевернулась и упала в воду, подняв огромный столб воды, огня и обломков.