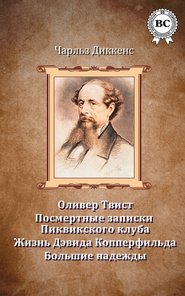
Полная версия:
Сочинения
Вечер с каждой минутой становился более унылым, ветер печально свистел в пустынном поле, словно где-то далеко великан свистом звал собаку. Мрачная картина удручающе подействовала на мистера Уинкля. Когда они шли мимо рва, он вздрогнул – ров казался огромной могилой.
Внезапно офицер свернул с тропинки, перелез через частокол, пробрался сквозь живую изгородь и очутился в пустынном поле. Там ждали два джентльмена: один – маленький, толстый, с черными волосами, другой представительный мужчина в сюртуке, обшитом тесьмой, хладнокровно восседавший на складном стуле.
– Наш противник и врач, – предположил мистер Снодграсс. – Глотните бренди.
Мистер Уинкль жадно схватил протянутую плетеную фляжку и проглотил изрядную порцию укрепляющего напитка.
– Мой друг, сэр, мистер Снодграсс, – представил приятеля мистер Уинкль, когда офицер подошел к ним.
Друг доктора Слеммера отвесил поклон и вытащил ящик, весьма похожий на тот, который нес с собой мистер Снодграсс.
– Полагаю, что нам говорить не о чем, сэр, – холодно заметил он, открывая ящик, – предложение извиниться было вами решительно отклонено.
– Не о чем, сэр, – отвечал мистер Снодграсс, которому становилось как-то не по себе.
– Приступим! – сказал офицер.
– Конечно, – согласился мистер Снодграсс.
Отмерив дистанцию, с приготовлениями покончили.
– Эти пистолеты лучше ваших, – сказал секундант противника, протягивая принесенное оружие. – Вы видели, как я их заряжал. Не возражаете?
– Что вы! – воскликнул мистер Снодграсс.
Это предложение вывело его из немаловажного затруднения, ибо сведения мистера Снодграсса о том, как заряжают пистолеты, были довольно туманны и неопределенны.
– Ну, теперь мы можем их расставить по местам, – продолжал офицер равнодушным тоном, словно дуэлянты были шахматными фигурами, а секунданты игроками.
– Конечно, конечно! – подхватил мистер Снодграсс. Он согласился бы на любое предложение, ибо ничего не смыслил в подобного рода делах.
Офицер направился к доктору Слеммеру, а мистер Снодграсс подошел к мистеру Уинклю.
– Все готово! – сказал он, протягивая мистеру Уинклю пистолет. – Дайте ваш плащ.
– Мой пакет у вас, дорогой друг? – прошептал бедный Уинкль.
– Да, все в порядке. Будьте хладнокровны и цельте ему в плечо.
Мистеру Уинклю показалось, что этот совет ничем не отличается от тех, которые неизменно дают уличные зрители малышу, ввязавшемуся в драку: «Смелей, поколоти его!» – совет превосходный, если только знаешь, как им воспользоваться. Молча мистер Уинкль снял свой плащ – этот плащ всегда приходилось долго расстегивать – и взял пистолет. Секунданты отступили в сторону, то же самое сделал джентльмен, сидевший на складном стуле, и противники начали приближаться друг к другу.
Мистер Уинкль всегда отличался крайним человеколюбием. И можно предположить, что, достигнув роковой черты, он закрыл глаза именно потому, что не хотел сознательно искалечить существо себе подобное; то обстоятельство, что глаза его были закрыты, помешало ему заметить очень странное и непонятное поведение доктора Слеммера. Сей джентльмен выступил вперед, вытаращил глаза, отступил назад, протер глаза, снова вытаращил их и, наконец, крикнул:
– Стойте, стойте!
– Что это значит? – спросил доктор Слеммер, когда его приятель и мистер Снодграсс подбежали к нему. – Это не тот.
– Не тот? – сказал секундант доктора Слеммера.
– Не тот? – сказал мистер Снодграсс.
– Не тот? – сказал джентльмен со складным стулом под мышкой.
– Конечно, не тот, – ответил маленький доктор. – Это не то лицо, которое оскорбило меня вчера вечером.
– Странная вещь! – воскликнул офицер.
– Очень! – подтвердил джентльмен со стулом. – Вопрос только в том, не должны ли мы формально считать этого джентльмена, раз он начал поединок, тем самым субъектом, который оскорбил вчера вечером нашего друга, доктора Слеммера, независимо от того, действительно ли он является этим субъектом, или нет.
Высказав такую мысль с видом весьма загадочным и мудрым, джентльмен со стулом запустил в нос большую понюшку и окинул присутствующих глубокомысленным взглядом человека, авторитетного в подобных делах.
Мистер Уинкль сразу открыл глаза, а также навострил уши, лишь только услышал, что противник призывает к прекращению враждебных действий; уловив из последующих слов противника, что, несомненно, произошла ошибка, он моментально сообразил, сколь выгодно для его репутации скрыть истинные причины, побудившие его выйти на дуэль. Поэтому он храбро выступил вперед и заявил:
– Я – не то лицо, которое вы имеете в виду. Я это знаю.
– С таком случае это оскорбление для доктора Слеммера, – решил джентльмен со стулом, – достаточное основание немедленно продолжать дуэль.
– Успокойтесь, Пейн, – перебил секундант доктора. – Отчего же, сэр, вы не сказали мне об этом сегодня утром?
– Ну конечно… конечно! – с негодованием подхватил джентльмен со стулом.
– Прошу вас, Пейн, успокойтесь, – снова вмешался секундант. – Итак, сэр, могу я повторить свой вопрос?
– Потому, сэр, – ответил мистер Уинкль, успевший обдумать ответ, – потому, сэр, что вы мне сказали, будто тот невоспитанный и пьяный субъект был одет во фрак, который я не только имею честь носить, но и сам изобрел, предложив его для членов Пиквикского клуба в Лондоне. Я считаю своим долгом защищать честь мундира – вот почему я без всяких объяснений принял вызов.
– Уважаемый сэр, – сказал маленький доктор, подходя и протягивая руку, – я высоко ценю вашу храбрость. И позвольте мне сказать, сэр, что я восхищен вашим поведением и крайне сожалею, что напрасно потревожил вас, пригласив сюда.
– О, не стоит говорить об этом, сэр! – воскликнул мистер Уинкль.
– Я польщен знакомством с вами, сэр, – продолжал маленький доктор.
– Мне доставляет величайшее наслаждение познакомиться с вами, сэр, – отвечал мистер Уинкль.
Тут доктор и мистер Уинкль пожали друг другу руку, затем мистер Уинкль пожал руку лейтенанту Теплтону (секунданту доктора), затем мистер Уинкль пожал руку джентльмену со стулом, и, наконец, мистер Уинкль пожал руку мистеру Снодграссу. Сей последний джентльмен был восхищен геройским поведением своего доблестного друга.
– Теперь, мне кажется, мы можем разойтись, – сказал лейтенант Теплтон.
– Разумеется, – согласился доктор.
– Если мистер Уинкль, – вставил джентльмен со стулом, – не считает себя оскорбленным вызовом; в противном случае, я думаю, он имеет право на удовлетворение.
Мистер Уинкль самоотверженно заявил, что считает себя полностью удовлетворенным.
– А может быть, секундант мистера Уинкля почитает себя обиженным моими замечаниями, сделанными в начале нашей встречи, – в таком случае я буду счастлив дать ему немедленно удовлетворение, – заключил джентльмен со стулом.
Мистер Снодграсс поспешил признать, что крайне обязан джентльмену за столь любезное предложение, которое должен, однако, отклонить, ибо совершенно удовлетворен всем происшедшим. Секунданты заперли свои ящики, и вся компания, покидая место поединка, была более оживлена, чем в момент прибытия сюда.
– Вы предполагаете долго прожить здесь? – спросил доктор Слеммер мистера Уинкля, когда они дружески двинулись вместе в путь.
– Думаю, уедем послезавтра, – последовал ответ.
– Вы и ваш друг доставили бы мне большое удовольствие, если бы посетили меня, и мы провели бы приятный вечерок после этой досадной ошибки. Сегодня вечером вы свободны? – спросил маленький доктор.
– У нас здесь есть друзья, – ответил мистер Уинкль, – и мне бы не хотелось расставаться с ними на вечер. Может быть, вы со своим другом присоединитесь к нам в «Быке»?
– Охотно! – согласился тот. – Не будет ли слишком поздно, если часов в десять мы зайдем на полчасика?
– Что вы! Конечно нет! Я буду счастлив познакомить вас с моими друзьями, мистером Пиквиком и мистером Тапменом.
– Вы меня крайне обяжете, – сказал доктор, нимало не подозревая, кто такой мистер Тапмен.
– Значит, вы придете? – спросил мистер Снодграсс.
– Непременно!
Тем временем они вышли на большую дорогу, обменялись сердечными приветствиями, и компания разделилась. Доктор Слеммер с друзьями направился к казармам, а мистер Уинкль, в сопровождении своего друга, мистера Снодграсса, возвратился в гостиницу.
ГЛАВА III
Новое знакомство. Рассказ странствующего актера. Досадная помеха и неприятная встреча
У мистера Пиквика возникли некоторые опасения, вызванные необычным отсутствием двух его друзей, чье таинственное поведение в течение целого утра отнюдь не давало повода к уменьшению его тревоги. Тем с большей радостью встал он, чтобы поздороваться с ними, когда они вошли, и тем с большим интересом осведомился, что могло их задержать. В ответ на его вопросы мистер Снодграсс собрался дать исторический обзор событий, только что изложенных, как вдруг запнулся, заметив, что здесь присутствуют не только мистер Тапмен и вчерашний их товарищ по пассажирской карете, но еще какой-то незнакомец, не менее странного вида. Это был изможденный человек с желтоватым лицом и глубоко запавшими глазами, которые казались еще более странными, чем создала их природа, благодаря прямым черным волосам, ниспадавшим ему на лицо. Глаза у него отличались почти неестественным блеском и пронзительной остротою, скулы торчали, а челюсти выдавались так, что наблюдатель мог бы предположить, будто каким-то сокращением мускулов он вдруг втянул щеки, если бы полуоткрытый рот и неподвижная физиономия не свидетельствовали о том, что такова была обычная его внешность. Шею он обмотал зеленым шарфом, длинные концы которого спускались ему на грудь и виднелись сквозь обтрепанные петли старого жилета. Верхней одеждой служил ему длинный черный сюртук, под которым были широкие темные панталоны и высокие сапоги, быстро приближавшиеся к стадии полного разрушения.
На этом странном субъекте остановился взгляд мистера Уинкля, и на него указал рукой мистер Пиквик, проговорив:
– Друг нашего друга. Сегодня утром мы узнали, что наш Друг связан со здешним театром, хотя и не имеет желания доводить это до всеобщего сведения, а этот джентльмен является представителем той же профессии. Когда вы вошли, он как раз собирался развлечь нас связанным с нею небольшим рассказом.
– Масса рассказов, – сказал вчерашний незнакомец в зеленом фраке, приближаясь к мистеру Уинклю и говоря тихо и конфиденциально. – Чудак – выполняет тяжелую работу – не актер – странный человек – всякие бедствия – «мрачный Джимми» – мы так его называем.
Мистер Уинкль и мистер Снодграсс вежливо приветствовали джентльмена, носившего изысканное прозвище «мрачный Джимми», и по примеру остальной компании заказали грог и уселись за стол.
– А теперь, сэр, – сказал мистер Пиквик, – не угодно ли вам будет приступить к обещанному повествованию?
Мрачный субъект вынул из кармана грязную свернутую в трубку рукопись и, обращаясь к мистеру Снодграссу, который только что извлек свою записную книжку, произнес глухим голосом, вполне соответствовавшим его внешности:
– Вы – поэт?
– Я… я… до некоторой степени, – ответил мистер Снодграсс, слегка смущенный неожиданным вопросом.
– А! Для жизни поэзия – то же, что музыка и свет для сцены; у одной отнимите мишурные ее украшения, у другой – ее иллюзии, и останется ли хоть что-нибудь ценное в жизни и на сцене, ради чего стоило бы жить и волноваться?
– Совершенно верно, сэр! – отозвался мистер Снодграсс.
– Находиться перед рампой, – продолжал мрачный субъект, – то же, что присутствовать на приеме при дворе и восхищаться шелковыми платьями пестрой толпы; находиться за рампой – значит превратиться в тех, кто создает это великолепие, – заброшенных и никому неведомых, – тех, кому предоставляется право по произволу судьбы утонуть или выплыть, умереть с голоду или жить.
– Верно! – произнес мистер Снодграсс, ибо ввалившиеся глаза мрачного субъекта устремлены были на него, и он почитал нужным что-нибудь сказать.
– Начинайте, Джимми, – сказал испанский путешественник, – как черноокая Сьюзен[106] – весь в Даунсе – нечего каркать – выскажитесь – смотрите веселей.
– Не приготовите ли вы себе еще стакан, сэр, прежде чем начать? – предложил мистер Пиквик.
Мрачный субъект последовал совету и, смешав в стакане бренди с водою, выпил не спеша половину, развернул рукопись и начал излагать, то читая, то рассказывая, нижеследующее происшествие, сообщение о котором мы находим в протоколах клуба под названием «Рассказ странствующего актера».
РАССКАЗ СТРАНСТВУЮЩЕГО АКТЕРА«Нет ничего чудесного в том, что я собираюсь рассказать, – начал мрачный субъект, – нет в этом и ничего из ряда вон выходящего. Нужда и болезнь – явления столь заурядные на многих этапах жизни, что заслуживают не больше внимания, чем принято уделять самым обыкновенным изменениям в человеческой природе. Эти заметки я набросал потому, что объектом их является человек, которого я хорошо знал в течение многих лет. Я следил, как он постепенно опускался, пока, наконец, не впал в крайнюю нищету, из которой уже не выкарабкался.
Человек, о котором я говорю, был маленький пантомимный актер и горький пьяница, как многие представители этой профессии. В лучшие дни, когда беспутная жизнь еще не лишила его сил и болезнь не изнурила, получал он хорошее жалование и, будь он осторожен и благоразумен, пожалуй, продолжал бы его получать в течение еще нескольких лет – немногих, ибо люди эти или рано умирают, или, чрезмерно расходуя энергию, теряют преждевременно физические силы, от которых всецело зависит их существование. Однако порочная его наклонность приобрела такую власть над ним, что оказалось невозможным давать ему те роли, в которых он действительно был полезен театру. Трактир имел для него притягательную силу, и с нею он не мог бороться. Запущенная болезнь и безысходная бедность должны были выпасть ему на долю неизбежно, как сама смерть, если бы он продолжал идти упорно этим путем; он и в самом деле упорствовал, и о последствиях можно догадаться. Он не мог получить ангажемент и нуждался в куске хлеба.
Каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с театральной жизнью, знает, какая орава оборванных бедняков толчется за кулисами любого большого театра, это не актеры, получившие ангажемент, – это кордебалет, статисты, акробаты словом, те, которых принимают для выступления в пантомимах или в пасхальном спектакле, а затем увольняют, пока снова не понадобятся их услуги для какой-нибудь постановки, требующей много участников. Такую же жизнь вынужден был вести этот человек; подвизаясь каждый вечер в каком-нибудь маленьком театре, он зарабатывал несколько лишних шиллингов в неделю и имел возможность удовлетворять старую наклонность. Но и этот источник вскоре для него иссяк. Безалаберность его была слишком велика, он лишился даже такого ничтожного заработка, дошел до того, что ему буквально грозила голодная смерть, и лишь изредка выпрашивал какую-нибудь мелочь взаймы у старых товарищей или добивался выступления в уличных театриках; и когда случалось ему что-нибудь заработать, деньги он тратил по-старому.
Больше года никто не знал, как ухитряется он сводить концы с концами. Приблизительно в это время я был приглашен для нескольких выступлений в одном из театров на Сарийской стороне[107] Темзы, и здесь я увидел этого человека, которого потерял было из виду, так как я разъезжал по провинции, а он прозябал где-то в закоулках Лондона. Я уже оделся, чтобы идти домой, и шел по сцене, направляясь к выходу, когда он хлопнул меня по плечу. Никогда не забуду того отталкивающего зрелища, какое представилось моим глазам, когда я оглянулся. Он был одет для выступления в пантомиме в нелепейший костюм клоуна. Призрачные фигуры в «Пляске смерти», чудовищные образы, запечатленные на холсте искуснейшим художником, не были столь жуткими. Раздувшееся его тело и сухопарые ноги – уродство их увеличивалось во сто раз от фантастического костюма, – мутные глаза, резко выделявшиеся на фоне белил, которые густым слоем покрывали его лицо, трясущаяся голова в причудливом уборе и длинные костлявые руки, натертые мелом, – все это придавало ему отвратительный и неестественный вид, о котором никакое описание не даст полного представления и который я и по сей день вспоминаю с содроганием. Голос его звучал глухо и дрожал, когда он отвел меня в сторону и отрывисто сообщил длинный перечень болезней и лишений, закончив, по обыкновению, настойчивой просьбой ссудить ничтожную сумму. Я сунул ему в руку несколько шиллингов и, уходя, слышал взрыв смеха, которым встречен был первый его трюк на сцене.
Спустя несколько дней какой-то мальчик вручил мне грязный обрывок бумаги, где было нацарапано несколько слов карандашом; меня уведомляли, что человек этот опасно заболел и просит, чтобы я зашел к нему на квартиру на такой-то улице, – не припомню сейчас ее названия, – находящейся неподалеку от театра. Я обещал исполнить просьбу, как только освобожусь, и, когда опустился занавес, отправился в свое печальное путешествие.
Было поздно, так как я играл в последней пьесе; а по случаю бенефиса представление тянулось дольше, чем обычно. Была темная холодная ночь с пронизывающим, сырым ветром, под напором которого дождь тяжело стучал в окна и стены домов. В узких и безлюдных улицах стояли лужи, а так как от резкого ветра потухло большинство немногочисленных фонарей, то прогулка эта была не только неприятной, но и весьма рискованной. Однако мне посчастливилось не сбиться с дороги и без особых затруднений отыскать дом, который был указан в записке, – угольный сарай, над которым был надстроен один этаж, где в задней комнате лежал тот, кого я разыскивал.
На лестнице меня встретила жалкая женщина, жена этого человека, и, сообщив, что он только что впал в забытье, ввела меня тихонько в комнату и поставила для меня стул у кровати. Больной лежал, повернувшись лицом к стене, и, так как на мой приход он не обращал ни малейшего внимания, у меня было время осмотреть место, куда я попал.
Он лежал на старой откидной кровати. У изголовья висела рваная клетчатая занавеска, служившая защитой от ветра, который проникал в эту убогую комнату сквозь многочисленные щели в двери, и занавеска все время развевалась. На заржавленной поломанной решетке камина тлели угли; перед ним был выдвинут старый покрытый пятнами треугольный стол, на котором стояли склянки с микстурой, треснутый стакан, какие-то мелкие домашние вещи. На полу, на импровизированной постели, спал ребенок, а возле него на стуле сидела женщина. На полке были расставлены тарелки и чашки с блюдцами; под нею висели балетные туфли и пара рапир. Больше ничего не было в комнате, кроме каких-то лохмотьев и узлов, валявшихся по углам.
Я успел рассмотреть все эти мелкие детали и заметить тяжелое дыхание и лихорадочную дрожь больного, прежде чем он обратил внимание на мое присутствие. В беспокойных попытках улечься поудобнее он свесил руку с кровати, и она коснулась моей руки. Он вздрогнул и тревожно заглянул мне в лицо.
– Джон, это мистер Хатли, – сказала его жена. – Мистер Хатли, за которым ты посылал сегодня, помнишь?
– А… – протянул больной, проводя рукою по лбу. – Хатли… Хатли… Дайте вспомнить. – В течение нескольких секунд он, казалось, старался собраться с мыслями, потом крепко схватил меня за руку и сказал: – Не бросайте меня, старина, не бросайте. Она меня убьет, я знаю, что убьет.
– Давно он в таком состоянии? – спросил я у его плачущей жены.
– Со вчерашнего вечера, – ответила она. – Джон, Джон, неужели ты меня не узнаешь?
– Не подпускайте ее ко мне! – содрогнувшись, сказал больной, когда она склонилась к нему. – Уведите её, я не могу её видеть. – В смертельном испуге он не спускал с нее дикого взора, потом стал шептать мне на ухо: – Я колотил её, Джем… вчера её побил, да и раньше бил не раз. Я морил голодом и ее и мальчика, а теперь, когда я слаб и беспомощен, она меня убьет за это, Джем… знаю, что убьет. Вы бы убедились в этом, если бы видели, как она плакала. Не подпускайте ее ко мне!
Он разжал руку и в изнеможении откинулся на подушку.
Я слишком хорошо понимал, что это значит. Если бы хоть на секунду возникли у меня какие-нибудь сомнения, один взгляд, брошенный на бледную и изможденную женщину, объяснил бы мне истинное положение вещей.
– Отойдите лучше, – сказал я этой несчастной. – Ему вы помочь не можете. Пожалуй, он успокоится, если не будет вас видеть.
Она отошла. Через несколько секунд он открыл глаза и тревожно осмотрелся по сторонам.
– Она ушла? – взволнованно осведомился он.
– Да, да, – ответил я. – Она вас не обидит.
– А я вам говорю, Джем, что она обижает меня, – тихо сказал он. – Глаза у нее такие, что меня охватывает смертельный страх, я чуть с ума не схожу. Всю прошлую ночь ее большие, широко раскрытые глаза и бледное лицо преследовали меня, я отворачивался, они были передо мною, и каждый раз, когда я просыпался, она сидела у кровати и смотрела на меня. – Он притянул меня к себе и прошептал глухо и тревожно: – Джем, должно быть, это злой дух… дьявол. Тише! Я это знаю. Будь она женщиной, она бы давным-давно умерла. Ни одна женщина не вынесла бы того, что вынесла она.
С болью в сердце подумал я о том, как жесток и черств был этот человек в течение многих лет, если могла им овладеть такая мысль. Мне нечего было ему ответить, да и кто мог бы принести надежду или утешение жалкому существу, находившемуся передо мной?
Я просидел у него больше двух часов, а он все время метался, тихонько вскрикивая от боли или волненья, тревожно размахивая руками и ворочаясь с боку на бок. Наконец, он погрузился в то полубессознательное состояние, когда память в смятении переходит от картины к картине и с места на место, ускользая от контроля разума, но не освободившись от неописуемого ощущения испытываемых страданий. Убедившись в этом на основании бессвязного бреда и зная, что в ближайшее время лихорадка вряд ли усилится, я расстался с ним, обещав несчастной его жене вернуться завтра к вечеру и, в случае необходимости, провести всю ночь с больным.
Я сдержал слово. За последние сутки произошла потрясающая перемена. Глаза, хотя и глубоко запавшие, с тяжелыми веками, сверкали, и жутко было видеть этот блеск. Губы запеклись и потрескались; от жара высохла и стала шершавой кожа, и дикий, нечеловеческий страх отражался на его лице, еще резче подчеркивая гибельное действие недуга. Жар был у него очень сильный.
Я занял то же место, что и накануне, и просидел несколько часов, прислушиваясь к звукам, которые могли потрясти сердце самого бесчувственного человека, к ужасному бреду умирающего. Я слышал мнение врача и понимал, что надежды нет никакой: я сидел у смертного одра. Я видел, как в мучительном жару извивалось это исхудавшее тело, которое несколько часов назад корчилось на потеху буйной галерки, я слышал пронзительный смех клоуна, переходивший в тихий шепот умирающего.
Тяжело и трогательно следить за тем, как память обращается к повседневным занятиям и обязанностям здорового человека, когда перед вами лежит его слабое и беспомощное тело; но если характер этих занятий резко противоречит всему, что мы связываем с представлением о могиле или с возвышенными идеями о смерти, впечатление создается бесконечно более сильное. Театр и трактир вот о чем бредил несчастный. Чудилось ему – был вечер, он должен играть в вечернем спектакле, поздно, он торопится выйти из дому. Зачем его удерживают, не дают уйти?.. Он лишится заработка… Ему нужно идти. Нет! Его не пускают. Он закрыл лицо горячими руками и тихо сетовал на собственную свою слабость и жестокость преследователей. Короткая пауза, и он выкрикнул какие-то вирши – последние им заученные. Он приподнялся на кровати, вытянул тощие ноги, вертелся, принимая нелепые позы; он играл роль – он был на сцене. Минутное молчание – и он тихо затянул припев разухабистой песни. Наконец-то добрался он до старого пристанища: как жарко в зале! Он был болен, очень болен, ну а сейчас он здоров и счастлив. Наполните ему стакан. Кто выбил у него стакан из рук? Опять тот же, кто и раньше его преследовал. Он упал на подушку и громко застонал. Краткий период забытья, а затем начались его скитания по нескончаемому лабиринту низких сводчатых комнат таких низких, что иногда приходилось пробираться на четвереньках; было душно и темно, и куда бы он ни сворачивал – всюду натыкался на препятствия. Вот какие-то насекомые, мерзкие извивающиеся твари, таращат на него глаза и кишат в воздухе, жутко поблескивая в глубоком мраке. Стены и потолок словно движутся – так много на них пресмыкающихся… склеп раздвигается до необъятных размеров… мелькают страшные тени, а среди них люди, которых он когда-то знал, но лица их отвратительно искажены усмешками и гримасами; они прижигают его раскаленным железом, стягивают ему голову веревками, пока не хлынула кровь; он отчаянно боролся за жизнь.
После одного из таких пароксизмов, когда я с великим трудом удерживал его в постели, он погрузился, по-видимому, в дремоту. Устав от бессонницы и напряжения, я на несколько минут закрыл глаза, как вдруг почувствовал, что кто-то вцепился мне в плечо. Я мгновенно проснулся. Он приподнялся, стараясь сесть в постели, – лицо его страшно изменилось, но сознание вернулось к нему, так как он, очевидно, узнал меня. Ребенок, которого давно уже разбудил его бред, вскочил с постели и, закричав от испуга, бросился к отцу; мать поспешила схватить его на руки, чтобы отец в припадке безумия не ушиб его, но в ужасе от происшедшей с больным перемены остановилась, остолбенев, у кровати. Он судорожно сжал мне плечо и, ударяя себя другою рукою в грудь, сделал отчаянную попытку заговорить. Попытка не удалась; он простер к ним руки и снова попробовал заговорить. Из горла вырвались хрипы… глаза расширились… короткий приглушенный стон… и он упал навзничь мертвый!»

