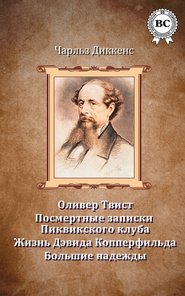
Полная версия:
Сочинения
Бабушка, совершенно нечувствительная к общественному мнению, искусно правила серым пони, проезжая по улицам Дувра; восседая торжественно и важно, как заправский кучер, она зорко следила за пони и не позволяла ему своевольничать. Когда мы выехали на проселочную дорогу, она дала ему больше свободы и, поглядев сверху вниз на меня (я сидел на подушке рядом с нею), спросила, рад ли я.
– Очень рад, бабушка! Благодарю вас, – ответил я.
Она осталась весьма довольна моим ответом и погладила меня по голове кнутом, так как руки у нее были заняты.
– Бабушка, а это большая школа? – спросил я.
– Не знаю. Сперва мы отправимся к мистеру Уикфилду, – сказала бабушка.
– Это у него школа? – спросил я.
– Нет, Трот. У него контора.
Я не стал расспрашивать о мистере Уикфилде, так как больше она ничего не добавила, и мы говорили о другом, пока не прибыли в Кентербери; это был базарный день, и бабушке представился прекрасный случай показать свое умение править серым пони, заставляя его пробираться между повозок, корзин, овощей и разносчиков с товаром. Иной раз приходилось проезжать на волосок от них и выслушивать от окружающих речи, не весьма доброжелательные, но бабушка продолжала править, не обращая ни на что ни малейшего внимания, и, мне кажется, могла бы с таким же спокойствием ехать своим путем по вражеской земле.
Наконец мы остановились перед старинным домом, который весь подался вперед; узкие, маленькие окна с частым переплетом выступали особенно далеко, так же как и стропила с резными деревянными головами на концах, и мне представилось, будто весь дом вытянулся, чтобы рассмотреть, кто проходит внизу по узкому тротуару. Дом казался необыкновенно опрятным. Старинный медный дверной молоток у низкой сводчатой двери, украшенной резными гирляндами цветов и фруктов, поблескивал, как звезда; две каменных ступеньки были так белы, будто на них лежало покрывало из лучшего полотна, а все уголки на фасаде, резьба и скульптурные украшения, маленькие, причудливой формы дверные стекла и еще более причудливой формы оконца хотя и были столь же древними, как кентерберийские холмы, но казались чистыми, как снег, покрывающий зимой эти холмы.
Когда фаэтон остановился у двери, в окне первого этажа (в круглой башенке, являвшейся частью дома) появилась и тотчас же исчезла физиономия, напоминавшая лицо мертвеца. Вслед за этим открылась сводчатая дверь, и лицо высунулось наружу. Оно и теперь, как и в окне, походило на лицо мертвеца, хотя кожа была чуть-чуть красноватая, какой она бывает иногда у рыжих. Это был рыжий подросток лет пятнадцати, как могу я теперь установить, но казался он гораздо старше своих лет; его коротко подстриженные волосы напоминали жнивье; бровей у него почти не было, ресниц не было вовсе, а карие глаза с красноватым оттенком, казалось, были совсем лишены век, и, помню, я задал себе вопрос, как это он может спать. Он был костляв, со вздернутыми плечами, одет в благопристойный черный костюм, застегнутый на вес пуговицы до самого горла, подвязанного узеньким белым шейным платком, и я обратил внимание на его длинную, худую, как у скелета, руку, когда он, стоя у головы нашего пони, потирал себе рукой подбородок и смотрел на нас, сидевших в фаэтоне.
– Мистер Уикфилд дома, Урия Хип? – спросила бабушка.
– Мистер Уикфилд дома, сударыня. Войдите сюда, милости просим, – ответил Урия Хип, показывая длинной рукой на окна одной из комнат.
Мы вылезли из фаэтона и, оставив Урию Хипа сторожить пони, вошли в длинную, низкую, выходившую на улицу гостиную, из окна которой я увидел, как Урия Хип дунул в ноздри пони и мгновенно прикрыл их рукой, словно наводил на него порчу. Против высокого старинного камина висели на стене два портрета: портрет джентльмена с седыми волосами (но еще отнюдь не старика) и с черными бровями, перебиравшего какие-то бумаги, перевязанные красной лентой, и портрет леди, смотревшей на меня ласково и безмятежно.
Кажется, я озирался в поисках портрета Урии, как вдруг дверь в дальнем конце комнаты отворилась и появился джентльмен, при виде которого я невольно взглянул на портрет, чтобы удостовериться, не вышел ли джентльмен из рамы. Но портрет висел на своем месте, а как только джентльмен приблизился, я увидел, что он был старше, чем в ту пору, когда с него писали портрет.
– Прошу вас, войдите, мисс Бетси Тротвуд, – пригласил джентльмен. – Я был занят делами, прошу меня извинить. Вы знаете, у меня только одна цель. Ничего другого у меня в жизни нет.
Мисс Бетси поблагодарила его, и мы вошли в его кабинет, напоминавший деловую контору, с книгами, бумагами, ящиками для документов. Кабинет выходил окнами в сад, в стенной нише над каминной доской находился несгораемый шкаф, примыкающий почти вплотную к ней, так что оставалось непонятным, каким образом трубочист протискивается за этим шкафом, когда приходит прочищать дымоход.
– Какой ветер занес вас сюда, мисс Бетси Тротвуд? Надеюсь, благоприятный? – спросил мистер Уикфилд, ибо я скоро уразумел, что это именно он и что он – юрист и управляющий поместьями какого-то богача в графстве.
– Да. Я приехала не по судебному делу, – ответила бабушка.
– Вы правы, сударыня, – заметил мистер Уикфилд. – Лучше приехать по любому другому делу.
Волосы у него совсем поседели, но брови оставались черными. У него было приятное, можно сказать красивое лицо. Но оно было с багровым оттенком, а такой оттенок я уже давно, после объяснений Пегготи, привык связывать с пристрастием к портвейну; та же самая склонность сказывалась и в его голосе и в фигуре, начинавшей расплываться. Одет он был с изысканной опрятностью – синий фрак с полосатым жилетом и панталоны из нанки; его сорочка, превосходно гофрированная, и батистовый галстук были такой удивительной белизны, что мое необузданное воображение вызвало в памяти перья на лебединой груди.
– Вот мой внук, – сказала бабушка.
– Я не знал, что у вас есть внук, мисс Тротвуд, – удивился мистер Уикфилд.
– Я хотела сказать – мой внучатный племянник, – пояснила бабушка.
– Честное слово, я не знал, что у вас есть внучатный племянник! – сказал мистер Уикфилд.
– Я его усыновила, – сказала бабушка и сопроводила Эти слова таким жестом, который ясно показывал, что ей решительно все равно, знал ли мистер Уикфилд, или не знал. – И вот я привезла его, чтобы поместить в школу, где его обучат всему и будут обходиться с ним хорошо. Расскажите, есть ли такая школа, где она, и вообще все поподробней.
– Прежде чем дать совет, позвольте задать вам обычный мой вопрос: какова ваша цель? – спросил мистер Уикфилд.
– Ну и человек! – воскликнула бабушка. – Всегда он ищет какую-то тайную цель! Да моя цель каждому ясна: хочу, чтобы ребенка сделали счастливым и полезным человеком.
– Должна быть тайная цель, мне кажется. – сказал мистер Уикфилд, недоверчиво улыбаясь и покачивая головой.
– А мне кажется, вы говорите явный вздор! – отрезала бабушка. – Вы всегда утверждаете, что только у вас одного нет тайных целей. Неужели вы думаете, что вы единственный прямодушный деловой человек на свете?
– Ах, но у меня в самом деле только одна цель в жизни, мисс Тротвуд! – улыбнулся он. – У других людей – десятки, сотни, а у меня только одна. В чем вся разница. Впрочем, это к делу не относится. Лучшая школа? Какова бы ни была ваша цель, но вы непременно хотите лучшую?
Бабушка утвердительно кивнула головой.
– В пансион при лучшей школе ваш внук сейчас не попадет, – подумав, сказал мистер Уикфилд.
– Но он может жить и столоваться в другом месте, не так ли? – сказала бабушка.
По мнению мистера Уикфилда, это было возможно. После короткой дискуссии он предложил повести бабушку в школу, дабы она сама могла поглядеть и судить о ней; предложил он также показать ей два-три дома, где я мог бы жить и столоваться. Бабушка приняла предложение, мы уже собрались втроем отправиться в путь, как вдруг мистер Уикфилд остановился и сказал:
– А может быть, у нашего юного друга есть какие-нибудь свои цели, и он станет возражать против наших планов. Мне кажется, ему лучше остаться здесь.
Бабушка собралась было протестовать, но для ускорения дела я сказал, что с удовольствием останусь, с их разрешения, и вернулся в кабинет мистера Уикфилда, где, усевшись снова на тот самый стул, на котором раньше сидел, стал ожидать их возвращения.
Случайно стул оказался как раз против узкого коридора, ведущего в маленькую круглую комнату, где я раньше увидел в окне бледную физиономию Урии Хипа. Отведя пони в конюшню по соседству, Урия верил лея и теперь писал в этой комнате у конторки; над ней находилась медная рамка, где висели документы, с которых он снимал копии. Хотя его физиономия была повернута ко мне, но сначала мне казалось, что он меня не видит, так как эта рамка с документом меня заслоняла; однако, приглядевшись внимательней, я с неудовольствием обнаружил, что время от времени его бессонные глаза показываются под рамкой, словно два красных солнца, и украдкой вглядываются в меня в течение целой минуты, тогда как он продолжает, – или делает вид, что продолжает, – старательно переписывать. Несколько раз я пытался ускользнуть от его взглядов, – становился на стул, чтобы рассмотреть карту на противоположной стене, углублялся в изучение кентской газеты, – но они непрестанно притягивали меня, и когда бы я ни обращался к этим двум красным солнцам, я всегда убеждался, что они только что взошли или только что зашли.
Наконец, к великому моему облегчению, бабушка и мистер Уикфилд после длительного отсутствия возвратились. Поиски их, однако, были не столь успешны, как мне бы хотелось; хотя достоинства школы были неоспоримы, во бабушке не понравился ни один пансион, где меня могли бы устроить.
– Какая неудача, Трот! Прямо не знаю, как быть, – сказала бабушка.
– Да, в самом деле неудача, – сказал мистер Уикфилд. – Но я вам посоветую, что делать, мисс Тротвуд.
– Что же? – спросила бабушка.
– Оставьте пока вашего внука здесь. Он тихий мальчик. Меня он не будет беспокоить. Этот дом словно создан для занятий – здесь так же тихо, как в монастыре, и почти так же просторно. Оставьте мальчика здесь.
По-видимому, бабушке пришлось по душе это предложение, но она из деликатности колебалась. Так же, как и я.
– Но послушайте, мисс Тротвуд, ведь это выход из положения, – продолжал мистер Уикфилд. – Вы устроите его здесь временно. Если это окажется неудобным или если мы друг друга стесним, он может в любой момент уйти. А тем временем можно будет подыскать какое-нибудь место, более подходящее. Но теперь лучше всего для вас оставить его здесь.
– Я вам очень признательна, – сказала бабушка, – и он также, я вижу, но…
– Знаю, знаю, что вы хотите сказать! – воскликнул мистер Уикфилд. – Вам нежелательно, мисс Тротвуд, принимать услуги. Если вам угодно, вы можете за него платить. О цене не стоит говорить, но, если вы пожелаете, вы будете за него платить.
– Такое условие мне подходит, хотя я буду вам обязана ничуть не меньше, – сказала бабушка, – и в таком случае я с радостью оставлю его.
– Ну, так пойдемте к моей маленькой хозяйке, – сказал мистер Уикфилд.
Мы поднялись по чудесной старинной лестнице с такими широкими перилами, что по ним можно было взбираться почти так же легко, как и по ступеням, и затем вошли в полутемную старинную гостиную с тремя или четырьмя причудливыми окнами, которые я уже видел с улицы; в оконных нишах стояли скамьи из старого дуба – казалось, того же самого дуба, из которого сделан был сверкающий пол и толстые балки потолка. Комната была изящно обставлена: здесь были цветы, фортепьяно, мебель, обитая красной с зеленым материей. Вся комната как будто состояла из уголков и закоулков, а в каждом углу и закоулке находился или какой-нибудь диковинный столик, или шкаф для посуды, полка для книг, кресло или еще что-нибудь, заставлявшее меня приходить к заключению, что именно этот уголок самый лучший; но тут я бросал взгляд на другой уголок и находил его ничуть не хуже, если не лучше. На всем лежал отпечаток нерушимого покоя и чистоты, которые отличали дом и снаружи.
Мистер Уикфилд постучал в дверь, находившуюся в углу этой комнаты, обшитой панелью; тотчас же выбежала девочка, приблизительно моя ровесница, и поцеловала его. На лице ее я сразу же уловил то ласковое и безмятежное выражение, какое уже видел внизу, на портрете леди. И мне представилось, будто леди на портрете выросла и превратилась в женщину, а оригинал остался ребенком. Хотя лицо девочки было радостным и веселым, но и в нем было какое-то спокойствие, и такое же спокойствие она разливала вокруг, и сама она была словно дух умиротворения и покоя, добрый дух, которого я никогда с тех пор не забывал. И никогда не забуду.
Мистер Уикфилд сказал, что это его маленькая хозяйка, его дочь Агнес. Когда я услышал, как он сказал Это, и когда увидел, как он держит ее руку, я догадался, какова его единственная цель в жизни.
На поясе у Агнес висела миниатюрная корзиночка, в которой она хранила ключи, и вид у нее был степенный, скромный, подобающий хозяйке такого старинного дома. Мило улыбаясь, она выслушала рассказ отца обо мне и, когда он закончил его, предложила моей бабушке подняться наверх и посмотреть мою будущую комнату. Мы отправились, предшествуемые Агнес. Комната была чудесная, старинная – тоже с дубовыми балками, с оконными стеклами ромбической формы, и сюда тоже вела лестница с широкими перилами.
Не могу вспомнить, где и когда, в детстве, я видел в церкви окно с цветными стеклами. Не помню я и сцен, изображенных на витраже. Но знаю, что, когда я увидел Агнес, поджидавшую нас наверху в полумраке старинной лестницы, я подумал об этом окне; и знаю еще, что с тон поры я всегда связывал его мягкий и чистый свет с Агнес Уикфилд.
Бабушка, как и я, была рада, что я хорошо устроен, и мы спустились вниз, довольные и признательные мистеру Уикфилду. Она не захотела остаться обедать, опасаясь не поспеть домой на своем сером пони до наступления темноты; как я и предполагал, мистер Уикфилд знал ее хорошо и даже не пытался уговаривать, а потому ей предложили закусить. Агнес ушла к своей гувернантке, а мистер Уикфилд к себе в контору. Таким образом, мы с бабушкой остались одни и могли распрощаться без свидетелей.
Она мне сказала, что мистер Уикфилд позаботится обо всем, что я ни в чем не буду нуждаться, говорила со мной очень ласково и напоследок дала мне добрые советы.
– Трот, веди себя так, чтобы ты сам, и я, и мистер Дик гордились тобой, и да благословит тебя бог! – сказала она в заключение.
Я был очень растроган и мог только без конца благодарить бабушку и посылать искренние приветы мистеру Дику.
– Никогда не веди себя недостойно, никогда не лги, никогда не будь жестоким! – сказала бабушка. – Избегай, Трот, этих трех пороков, и я буду возлагать на тебя большие надежды.
Я обещал со всей горячностью, что не обману ее доверия и не забуду наказа.
– Пони ждет у крыльца. Я уезжаю. Не провожай.
С этими словами бабушка второпях обняла меня и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Сначала меня ошеломил такой внезапный отъезд, и я с испугом подумал, не рассердилась ли она на меня; но посмотрев в окно на улицу и увидев, с каким унылым видом она уселась в фаэтон и, не поднимая глаз, отъехала, я лучше понял ее чувства и то, как несправедливо было мое предположение.
К пяти часам, – это был обеденный час в доме мистера Уикфилда, – я уже овладел собой и был не прочь взяться за нож и вилку. Стол был накрыт только для нас двоих, но Агнес, поджидавшая отца в гостиной, спустилась с ним вниз и села за стол против него. Мне казалось невероятным, чтобы он мог обедать без нее.
Мы не остались после обеда в столовой и снова поднялись в гостиную; в одном из уютных уголков Агнес поставила для отца рюмки и графин с портвейном. Мне кажется, портвейн потерял бы для мистера Уикфилда привычный приятный аромат, если бы графин был поставлен перед ним другими руками.
Тут он сидел, попивая вино, – и, надо сказать, выпил немало, – в течение двух часов, а Агнес играла на фортепьяно, занималась рукодельем и беседовала с нами. Мистер Уикфилд был оживлен и весел, но по временам его взгляд останавливался на ней, он мрачнел и умолкал. Она быстро подмечала это и так же быстро рассеивала его задумчивость каким-нибудь вопросом или лаской. Тогда он забывал о своем раздумье и снова пил вино.
Агнес хозяйничала за чайным столом, а после чая мы проводили время так же, как и после обеда, пока она не пошла спать; отец обнял ее и поцеловал, а потом, когда она ушла, приказал принести свечи к себе в кабинет. Тогда и я отправился спать.
Но перед сном я вышел из дому и побродил по улице, чтобы еще раз бросить взгляд на старинный дом и на серый собор[37] и поразмыслить о том, как это я мог проходить через этот старинный город мимо того дома, где теперь живу, и ничего не предчувствовать. Возвратившись домой, я увидел, как Урия Хип запирает контору. Чувствуя дружеское расположение ко всем и каждому, я сказал ему несколько слов и на прощание протянул руку. Ох, какая это была липкая рука! Рука призрака – и на ощупь и на взгляд! Потом я тep свою руку, чтобы ее согреть и стереть его прикосновение!
Это была такая противная рука, что, вернувшись в свою комнату, я все еще ощущал ее, влажную и холодную. Я выглянул из окна и увидел, что одна из голов, вырезанных на концах стропил, искоса посматривает на меня; вдруг мне почудилось, будто это Урия Хип, попавший туда неведомо как, и я поспешил захлопнуть окно.
Глава XVI
Я становлюсь другим мальчиком во многих отношениях
На следующее утро, после раннего завтрака, вновь началась для меня школьная жизнь. В сопровождении мистера Уикфилда я отправился туда, где мне предстояло учиться: это было внушительное здание во дворе, должно быть пришедшееся ученым своим видом по вкусу отбившимся от стаи грачам и галкам, которые слетали с башен собора и важно разгуливали по лужайке. Мистер Уикфилд представил меня новому моему наставнику, доктору Стронгу.
Доктор Стронг показался мне почти таким же заржавленным, как высокая железная ограда с воротами перед домом, и почти таким же неподвижным и грузным, как большие каменные урны, которые были расставлены по обеим сторонам ворот и дальше, на красной кирпичной стене, располагаясь на одинаковом расстоянии одна от другой, подобно величественным кеглям, в которые надлежит играть Времени. Он сидел в своей библиотеке (я говорю о докторе Стронге), костюм его был вычищен не очень тщательно, волосы прибраны не очень аккуратно, короткие панталоны не перехвачены у колен, длинные черные гетры не застегнуты, а его башмаки зияли, как две пещеры, на коврике перед камином. Взглянув на меня тусклыми глазами, напомнившими мне давно забытую слепую, старую лошадь, которая, бывало, щипала травку и спотыкалась о могильные плиты на кладбище в Бландерстоне, он сказал, что рад меня видеть, а затем подал мне руку, с которой я не знал что делать, так как сама она ничего не предпринимала. Из этого затруднительного положения меня вывела сидевшая за рукодельем неподалеку от доктора Стронга очень миловидная молодая леди – он называл ее Анни, и я решил, что это его дочь; она опустилась на колени перед доктором Стронгом, надела ему башмаки и застегнула гетры, проделав все это очень весело и проворно. Когда с этим было покончено и мы отправились в класс, я очень удивился, услыхав, как мистер Уикфилд, желая ей доброго утра, назвал ее «миссис Стронг», и я размышлял о том, жена ли она сына доктора Стронга или супруга самого доктора, пока доктор Стронг случайно не рассеял мои сомнения.
– Кстати, Уикфилд, вы еще не нашли какого-нибудь подходящего места для кузена моей жены? – спросил он, останавливаясь в коридоре и положив руку мне на плечо.
– Нет, пока еще нет, – ответил мистер Уикфилд.
– Мне бы хотелось, чтобы вы пристроили его как можно скорее, – продолжал доктор Стронг, – потому что Джек Мелдон нуждается в деньгах и бездельничает, а из этих двух печальных обстоятельств иной раз проистекает нечто еще худшее. Как говорит доктор Уотс,[38] – добавил он, поглядывая на меня и покачивая головой, дабы подчеркнуть цитату, – «сатана находит дурную работу для праздных рук».
– Право же, доктор, – возразил мистер Уикфилд, – если бы доктор Уотс знал людей, он с не меньшим основанием мог бы написать: «Сатана находит дурную работу для занятых рук». Можете быть уверены, что занятые люди сделали немало дурного в этом мире. Чем занимались в течение последних двух столетий люди, которые особенно рьяно стремились к богатству или власти? Разве не дурными делами?
– Думаю, что Джек Мелдон никогда не будет рьяно стремиться ни к тому, ни к другому, – сказал доктор Стронг, задумчиво потирая подбородок.
– Да, пожалуй, – согласился мистер Уикфилд. – Итак, приношу извинение, что уклонился от предмета разговора, и возвращаюсь к вашему вопросу. Нет, мне еще не удалось устроить мистера Джека Мелдона. Полагаю, – тут он замялся, – ваша цель мне ясна, и тем труднее моя задача.
– У меня одна цель: найти какое-нибудь место кузену и товарищу детских игр Анни, – возразил доктор Стронг.
– Да, знаю, – сказал мистер Уикфилд, – на родине или за границей.
– Совершенно верно, – подтвердил доктор, явно недоумевая, почему тот подчеркнул эти слова, – на родине или за границей.
– Это ваше собственное выражение, – сказал мистер Уикфилд. – Или за границей.
– Конечно, – ответил доктор. – Конечно. Либо здесь, либо там.
– Либо здесь, либо там? Все равно где? – спросил мистер Уикфилд.
– Все равно, – сказал доктор.
– Так ли? – Это было сказано с удивлением.
– Так.
– И разве вашей целью не является устроить его за границей, а не на родине? – настаивал мистер Уикфилд.
– Нет.
– Я должен вам верить и, разумеется, верю, – сказал мистер Уикфилд. – Знай я об этом раньше, задача моя была бы значительно проще. Но, признаюсь, у меня создалось другое впечатление.
Доктор Стронг бросил на него изумленный и недоумевающий взгляд, который почти мгновенно уступил место улыбке, крайне меня ободрившей, ибо улыбка была ласковая и кроткая, и столько в ней было простодушия, как и в его манере держать себя, – когда это простодушие пробивало ледок глубокомыслия и учености, – что такому юному школяру, как я, эта улыбка показалась очень привлекательной и весьма меня обнадежила. Повторив «нет» и «отнюдь нет» и добавив еще несколько коротких уверений в том же духе, доктор Стронг двинулся вперед странными, неровными шагами, а мы последовали за ним. Как я подметил, у мистера Уикфилда был озабоченный вид, и он покачивал головой, не подозревая, что я на него смотрю.
Классная комната оказалась красивым большим залом, в самой тихой части дома; против окон торжественно возвышалось с полдюжины огромных урн, а за ними виднелся уголок принадлежавшего доктору сада, где вдоль южной, солнечной стороны зрели персики. На лужайке перед окнами стояли в двух кадках высокие алоэ; их широкие твердые листья (слоено сделанные из окрашенной жести) неизменно остаются для меня с тех пор символом молчания и уединения. Когда мы вошли, человек двадцать пять школьников сидели, погрузившись в книги, но они встали, чтобы пожелать доктору доброго утра, и продолжали стоять, когда увидели мистера Уикфилда и меня.
– Это новый ученик, юные джентльмены, Тротвуд Копперфилд, – сказал доктор.
Ученик Адамс, старшина школы, выступил вперед и приветствовал меня. В своем белом галстуке он походил на молодого священника, но был очень любезен и добродушен; он показал мне мое место и представил меня учителям, держа себя по-джентльменски, что должно было бы рассеять мое смущение, если бы это было возможно.
Однако слишком много времени прошло с тех пор, как я водился с такими мальчиками и вообще со своими сверстниками, если не считать Мика Уокера и Мучнистой Картошки, и потому я никогда еще не чувствовал себя так неловко. Я прекрасно понимал, что перенес такие испытания, о каких они не могут иметь ни малейшего понятия, и приобрел опыт, не свойственный ни моему возрасту, ни внешнему виду, ни положению моему среди учеников, а потому готов был почитать себя чуть ли не самозванцем, явившимся сюда в обличии заурядного маленького школяра. За время, которое я провел на складе «Мэрдстон и Гринби», – не имеет значения, долго это тянулось или нет, – я так отвык от спорта и детских игр, что чувствовал, насколько я неуклюж и как мало у меня опыта в том, что было самым привычным и обыкновенным для учеников доктора Стронга. Все, чему я когда-то обучался, улетучилось из моей головы, занятой с утра до ночи повседневными заботами, и теперь, когда стали проверять мои познания, оказалось, что я ничего не знаю, и меня поместили в самый младший класс. Но, как ни был я смущен отсутствием мальчишеской сноровки, а также школьной премудрости, мне была неизмеримо тяжелее другая мысль: то, что я знал, отдаляло меня от моих товарищей куда больше, чем то, чего я не знал. Я размышлял о том, как бы они отнеслись ко мне, если бы узнали о близком моем знакомстве с тюрьмой Королевской Скамьи. Нет ли в моей особе чего-нибудь такого, что, помимо моей воли, прольет свет на тот период в моей жизни, когда я был связан с семейством Микобер, – на все эти заклады, продажи и ужины? Что, если кто-нибудь из мальчиков видел, как я, усталый и оборванный, брел через Кентербери, и теперь узнает меня? Что сказали бы они, так мало значения придававшие деньгам, если бы узнали, как я наскребывал по полупенни, чтобы купить себе колбасы, пива или кусок пудинга? Что подумали бы они, не ведавшие ровно ничего о жизни Лондона и об улицах Лондона, если бы обнаружилось, сколько знаю я (к стыду своему) о самых грязных закоулках этой жизни и этих улиц? Все эти мысли так меня осаждали в тот первый день моего пребывания в школе доктора Стронга, что я боялся каждого своего взгляда, каждого движения и прятался в свою скорлупу, когда ко мне подходил кто-нибудь из моих новых школьных товарищей, а по окончании занятий поспешил уйти из страха выдать себя, отвечая на чье-либо дружеское замечание или попытку познакомиться поближе.

