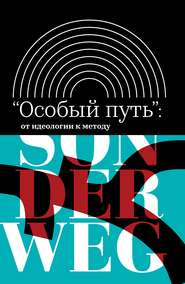
Полная версия:
«Особый путь»: от идеологии к методу
Идеологическое утверждение итогов первого периода николаевского правления шло по нескольким каналам, каждый из которых обладал собственной прагматикой и независимостью. Во-первых, результаты начального десятилетия царствования символически осмыслялись в проповедях митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова), главная из которых была произнесена 22 августа 1836 года в Успенском соборе московского Кремля в присутствии самого императора, представителей двора, местных высших чиновников и иностранных дипломатов. Эта проповедь, затем напечатанная отдельным изданием, стала апогеем традиционно важной для Николая московской фазы его путешествия: именно здесь единство императора с его народом провозглашалось наиболее репрезентативно и убедительно. Во-вторых, юбилейные празднования подробно освещались и интерпретировались в публикациях «Северной пчелы», единственной влиятельной политической газеты в России, читавшейся большим количеством грамотных жителей страны. Наконец, в-третьих, финальным аккордом почти полугодичных торжеств послужила первая постановка во вновь отстроенном петербургском Большом театре «национальной» оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», идеологическую составляющую которой – в частности, либретто – Николай курировал лично. Все упомянутые источники трактовали два тесно связанных друг с другом вопроса – об историческом пути России и о природе императорской власти.
4. В августе 1836 года Филарет дважды проповедовал о десятилетнем юбилее императорской коронации. В краткой «речи», сказанной 11 августа «пред вступлением Его Величества в Успенский собор», он интерпретировал «венец десятилетия Царских подвигов» [Филарет 1882а: 601]. В соответствии с общей тенденцией собственных политических текстов, созданных в николаевское царствование [Viise 2000], Филарет изображал подданных как пассивных и благодарных объектов монаршего попечения, а самого императора – как активного деятеля, в одиночку, через целую серию индивидуальных «подвигов» обеспечивавшего порядок в государстве. Филарет замечал, обращаясь к Николаю: «И оградив нашу безопасность и спокойствие, Ты не покоишься, но тем не менее подвизаешься, дабы упрочить и возвысить наше благоденствие» [Филарет 1882а: 601].
Тема «всеобщего благоденствия» была затем развита Филаретом в более пространном «слове», произнесенном 22 августа 1836 года в Успенском соборе. Здесь он уже подробно обсуждал природу монархической власти и интерпретировал беспрецедентные, с его точки зрения, успехи, достигнутые за время десятилетнего правления Николая. Главным образом московский митрополит акцентировал тему христианского повиновения, смирения перед Богом, которую проецировал на отношения государя и его подданных. Характерно, что в картине русской государственности, представленной Филаретом, конфессиональный принцип служил главным механизмом социальной и идеологической спайки, выступая в качестве структурообразующего элемента монархического правления. Уже эпиграф, избранный митрополитом, адекватно передавал ключевой тезис проповеди: «Повинитеся убо всякому человечу созданию Господа ради, аще Царю, яко преобладающу, аще ли же князем, яко от Него посланным, во отмщение убо злодеем, в похвалу же благотворцем. (1 Петр. II. 13. 14)» [Филарет 1882б: 30]. Только вера гарантировала повиновение и являлась основным условием долговечности государственного порядка. Тем самым Филарет по-своему интерпретировал уваровскую триаду «православие – самодержавие – народность»: именно православие становилось основным ее элементом – через особую религиозную подоплеку, легитимировавшую верность русского народа своему монарху, без которой связи между императором и его подданными в значительной мере ослабели бы.
Метафоры пути и фиксация исторической траектории движения в «слове», сказанном 22 августа, полностью отсутствовали: тезис о «покоящемся» народе и деятельном монархе трансформировался в утверждение о тотальном благоденствии, требовавшем не развития, но лишь дальнейшего попечения об уже обретенных успехах. Из проповеди следовало, что Россия достигла финальной точки государственного развития, идеального состояния, полного внешнего и внутреннего умиротворения, стабильности и устойчивости, единства народа и государя, скрепленного православной верой:
Враги внешние побеждены и укрощены. Враги домашние уничтожены. Союзы, особенно благоприятные миру царей и народов, укреплены особенно. Редким Царским искусством враги переработаны в друзей. Силе бедствий, которые предупредить и отвратить не во власти человеческой было, не раз могущественно и благодетельно противопоставлено личное присутствие духа Благочестивейшего Императора. Военные силы бдительным попечением непрерывно содержаны и содержатся в развитии, соответственным достоинству и безопасности Государства; в особенности же морские, не только увеличены, но, не знаю, не сказать ли, воскрешены пристальным животворным Царским взором. Просвещение, искусства, промышленность разнообразно поощрены. Законодательство и правосудие получило свой особенный венец в систематическом составе законов. Человеколюбивые заведения для воспитания, врачевания, призрения возвращены в числе, и цветут под незаходящим солнцем непосредственного Царского призрения. Всякая нужда, бедность, несчастие, общественное, частное, непрерывно находили и находят отверстою благодеющую руку Царскую. Соответственно потребностям Святые Церкви, ее Пастыри, ее Храмы, ее Обители частию умножены, частию облаготворены. В областях, где в прежние несчастные времена Восточное благочестие стеснено было насилиями Запада, собственное око Благочестивейшего Государя усмотрело неблагообразие Православных храмов, и особенная Его воля облекла их приличным благолепием [Филарет 1882б: 31].
Отныне главная задача царствования – в общехристианской перспективе спасения – заключалась в поддержании образцового порядка в будущем, в обеспечении преемственности между нынешним и грядущим императорским правлением. Именно в этом контексте Филарет упоминал о наследнике престола великом князе Александре Николаевиче: «…Между тем на дальнейшую будущность державы простерто попечение и обеспечение воспитанием Наследника Престола» [Филарет 1882б: 32]. Таким образом, система управления в России не предполагала, по мнению Филарета, никакого дальнейшего совершенствования. Центральным пунктом политической программы николаевского царствования становилось воспитание наследника в христианском духе[27], поскольку лишь оно было способно обеспечить «сердечность»[28] связи между будущим монархом и его подданными, необходимую для процветания государства.
Успех нынешнего царствования основывался, согласно Филарету, не на «внешнем» созидании определенного общественного устройства, а благодаря внутреннему преображению каждого из подданных Николая: будущее России связывалось исключительно со сферой духа – с христианской верой и религиозными установками православного человека. В своей проповеди Филарет прежде всего отмечал, что базовый принцип любого политического правления – повиновение – наиболее успешно обеспечивается именно через религию: «Какое удовлетворительное учение! Повинуясь Царю и начальству, вы благоугождаете Царю; и в то же время, повинуясь Господа ради, вы благоугождаете Господу!» [Филарет 1882б: 32].
Далее Филарет аргументировал, что теория общественного договора, сама по себе верная и справедливая, тем не менее является теоретическим конструктом, который невозможно реализовать в эмпирической реальности. Он соглашался с тем, что лишь власть, основанная на насилии (и, соответственно, повиновении), гарантирует единство социального и политического организма. Повиноваться человек может из разных побуждений – страха, личной выгоды или ради самого общества:
Общество доставляет человеку безопасность личную, образование способностей, случаи к употреблению оных, способы к приобретениям, и опять безопасность приобретенного. Но как для сохранения общества необходимо повиновение: то каждый человек и должен повиноваться – ради общества, из благодарности к нему за себя, и вместе – ради себя, чтобы, сохраняя повиновением общество, сохранять для себя то, чем от общества пользуется [Филарет 1882б: 33].
Если повиновение из страха или выгоды Филарет заведомо не считал надежным, то делегирование части собственных прав обществу, защищающему индивида, он признавал в теории справедливым. Тем не менее он утверждал, что повиновение «ради общества» на практике приводит к бунту:
Когда смотрю на опыты, как на подобных умозрениях хотят в наше время основать повиновение некоторые народы и Государства, и как там ничто не стоит твердо, зыблются и престолы и олтари, становятся, по выражению Пророка, людие аки жрец, и раб, аки господин (Иса. XXIV. 2), бразды правления рвутся, мятежи роятся, пороки безстыдствуют, преступления ругаются над правосудием, нет ни единодушия, ни доверенности, ни безопасности, каждый наступающий день угрожает; – видя все сие не могу не заключать: видно, не на человеческих умозрениях основывать должно Государственное благоустройство! (курсив автора. – М. В.) [Филарет 1882б: 33–34].
«Умозрительная теория», сталкиваясь со слабой природой человека, обнаруживает, по мнению Филарета, – прежде всего, конечно, в европейских государствах – явную ограниченность. Московский митрополит, согласно с официальной николаевской концепцией власти, утверждал, что истинное повиновение возможно лишь при условии «единодушия», которого можно достичь не путем «умствований», пусть и содержательных самих по себе, но с помощью «веры», то есть чувства человека, заставляющего его чтить монарха так же, как Господа Бога:
Есть повиновение ради общества и Начальства, не столько по умозрению, сколько по чувству сердца, по любви к Государю и отечеству. <…> Скажем без иносказания: чтобы естественная любовь к Государю и отечеству была неизменна, чиста, спасительна, для сего нужно, чтобы ее охранял, и в действиях руководствовал высший, совершенно небесный и Божественный закон любви Христианской [Филарет 1882б: 34].
В отличие от Европы, считал Филарет, Россия исторически[29] управлялась именно с помощью повиновения «Господа ради»: «Это жизненная теплота в теле Государства, самодвижное направление к общественному единству, крылатая колесница власти, свободная покорность, покорная свобода» [Филарет 1882б: 34][30]. Только христиански обоснованное повиновение могло гарантировать монархическому порядку крайнюю степень устойчивости: именно потому, что религия лучше всего позволяла человеку справиться с его низменной природой. В этом месте рассуждения «слово» Филарета предвосхищало сюжетные коллизии оперы Глинки «Жизнь за царя»:
Вот повиновение, всегда удовлетворительное для власти, и всегда блаженное для повинующегося! Поставьте оное в самое сильное испытание: пусть, например, надобно будет пожертвовать собою повиновению, пострадать или умереть за Государя и Отечество; пусть воздвигнет против сего естественную борьбу естественная любовь к собственной жизни, к благам жизни, ко многому любезному в жизни: вся брань помыслов, без сомнения, низложена будет, как скоро придет сильное благодатное слово: Господа радиПожертвуй всем повиновению Господа ради: если сладостно жертвовать для Царя и отечества, еще паче сладостно жертвовать для Господа; и в сем случае не горько уже оставить и земную жизнь, вместо которой приемлющий жертву сию Господь даст много лучшую жизнь небесную; не горько оставить и любезное на земле, поелику оно будет оставлено на руках любви Отца Небесного [Филарет 1882б: 35].
В концепции, изложенной Филаретом, отсутствие прогрессирующего движения не только признавалось, но и расценивалось как несомненное благо, поскольку, несмотря на формальные ссылки на «счастливое будущее», благоденствие оказалось уже достигнуто в настоящем, стремиться больше не к чему, народное процветание заключается в максимально долгой консервации идеального порядка вещей, залогом и фундаментом которого является православное христианство.
Нетрудно догадаться, что в очерченной перспективе ответственной за главную идеологическую составляющую национального благосостояния, наиболее значимой государственной структурой, обеспечивающей устойчивость существующего положения вещей, оказывалась именно православная церковь. Защита церковных интересов в 1836 году имела дополнительное значение: накануне своего приезда в Москву, 25 июня этого года, Николай определил на место обер-прокурора Святейшего Синода графа Н. А. Протасова, которому предстояло реформировать систему церковного управления [Благовидов 1899: 400–420; Рункевич 1901: 111–124; Полунов 2008]. Новое назначение вызвало недовольство Филарета[31]. Своей проповедью митрополит напоминал Николаю о той важнейшей роли, которую православие играло в системе его политической власти, и в свете недавнего назначения Протасова его «слово» звучало едва ли не полемично. Таким образом, рассуждение об особом пути, точнее, в данном случае особом положении России трансформировалось в спор о том, кто и как должен предопределять идеологическую повестку царствования.
5. Наиболее репрезентативным источником воззрений главы III отделения императорской канцелярии А. Х. Бенкендорфа на идеологию и особенность текущего исторического момента служат ежегодные отчеты, подававшиеся ведомством на рассмотрение императора. Как следует из отчета III отделения за 1836 год, из элементов триады основным Бенкендорф, безусловно, считал «самодержавие», доминировавшее над остальными двумя: и «народность», и «православие» определялись прежде всего через понятие «самодержец». Отчет, прочитанный монархом 3 января 1837 года [Обозрение 2006: 140], представлял программу царствования, отличавшуюся от картины, изображенной в проповедях митрополита Филарета: эмоциональная связь между подданными и монархом сохранялась, однако ее религиозная составляющая (повиновение Богу как необходимый элемент повиновения государю) из аргументации практически выводилась.
Отчет, поданный в год коронационного юбилея, начинался с исторического обозрения царствования. Согласно Бенкендорфу, произошедшие за это время изменения свидетельствовали об успехе выбранной политической стратегии. В отчете рубежным объявлялся 1831 год, который расценивался как наиболее сложное, кризисное, но вместе с тем и переломное время текущего исторического периода. Польское восстание, холера и бунт в военных поселениях поставили под угрозу существовавший государственный порядок [Обозрение 2006: 140]. Кроме того, события 1831 года заставляли наблюдателя предположить, что «царствованию» Николая «не предназначено быть счастливым» и «Бог не благословляет царствования Государя», поскольку текущие бедствия накладывались на воспоминания о 14 декабря 1825 года, двух войнах, чуме и т. д. [Обозрение 2006: 140].
Между тем последовавшие затем события радикально переломили общую тенденцию. В перечислении успехов последних лет отчет III отделения почти дословно перекликался с проповедью Филарета 22 августа:
С того времени Россия пребывает спокойною внутри ее и в мире со всеми державами, Россия процветает. Внутренняя ее промышленность и заграничная торговля с каждым годом распространяются. <…> В отношениях своих к иностранным державам Россия в течение последних пяти лет постоянно возвеличивалась и ныне достигла той высоты, на которой никогда еще не стояла. Она составляет сильнейшую опору и крепчайшую надежду своих союзников и является страшилищем и предметом зависти ей недоброжелательствующих [Обозрение 2006: 140–141].
Несомненно, Провидение даровало русскому народу его чувство преданности правителю, однако Бенкендорф подчеркивал в отчете, что самостоятельные действия и добродетели Николая в не меньшей степени способствовали укреплению его связи с народом и всеобщему благоденствию. Основной акцент он ставил на фигуре самого русского монарха:
Таковое в течение последних пяти лет развитие внутреннего благосостояния России и политического ее веса совершенно изгладило мысль о несчастном царствовании и заменило скорбное чувство сие общим чувством доверия к Государю как к виновнику настоящего блестящего положения России. Существование Государя признается ныне необходимым условием для удержания Отечества нашего в сем цветущем положении и для приведения к успешному концу всех посеянных Им начал усовершенствований и улучшений [Обозрение 2006: 141].
Речь идет о «существовании» даже не института самодержавия как такового, а конкретного «самодержца», Николая I. В отчет оказалось включено подробное описание случившегося в августе 1836 года эпизода, изначально императору чрезвычайно неприятного, – выпадения из дорожного экипажа близ города Чембар во время традиционного путешествия по России, в результате чего Николай сломал ключицу и вынужден был вернуться в Петербург. Несчастье, постигшее монарха, вызвало, по мнению составителей отчета, небывалое сочувствие его подданных и свидетельствовало об их личной преданности императору: «…Страшились лишиться Государя, и всякий взирал на возможность сего события, как на истинное для всех бедствие» [Обозрение 2006: 141]. В частности, высказывалось мнение, что «Государь <…> перед Богом имеет святую обязанность Себя беречь, Ему вручено благоденствие 50 миллионов народа, тесно связанное с Его существованием» [Обозрение 2006: 141]. Так благодаря неприятному происшествию любовь россиян к своему монарху обнаружила наибольшее выражение и распространилась «по всему пространству государства» [Обозрение 2006: 141]. В отчете особо оговаривалось, что если подданные Николая переживали за его судьбу «по врожденному в русских чувству безусловной преданности и любви к Царю», то петербургские жители, лучше знавшие монарха, испытывали и другое чувство – «понятие, которое с продолжением дней нынешнего Государя тесно соединяет счастие, спокойствие и процветание России» [Обозрение 2006: 141]. Между Петербургом и Россией не возникало антагонизма, поскольку «верноподданнические чувства», по мнению Бенкендорфа, в столице лишь проявлялись «с большею силою, чем где-либо» [Обозрение 2006: 141][32].
Успехи николаевского царствования объяснялись в отчете III отделения личной харизмой, добродетелями и исключительными качествами самого императора – и в этом пункте Бенкендорф расходился с Филаретом. Московский митрополит, фиксируя достижения текущего правления и признавая заслуги Николая, тем не менее подчеркивал, что полной доверенности к монарху нельзя достичь без помощи христианства и православной церкви. Между тем Бенкендорф о церкви и религии вообще не упоминал, связывая «народное расположение к Государю» лишь с действиями самого правителя.
Филарет и Бенкендорф, без сомнения, сходились в другом: и проповеди августа 1836 года, и отчет III отделения свидетельствовали о том, что Россия фактически достигла предела своего исторического пути – наивысшей стадии благоденствия, за которой качественного развития как такового уже не предвиделось. В отчете смысл последующего периода истолковывался с помощью органицистских метафор «цветения» и «посева»: «посеянные» императором «начала» уже принесли с собой «процветание», а в будущем ему предстоит довести начатое до «успешного конца».
В публикациях официальной газеты «Северная пчела», находившейся под патронажем III отделения, второй половины 1836 года доверенность подданных к государю также связывалась с идеей личной харизмы Николая как главного подателя благ в России. Возможности монарха явно превосходили человеческие – так, в описании приезда Николая в Москву 10 августа и последующего его появления перед московскими жителями говорилось:
Не даром добрый Русский народ называл встарину и теперь еще называет Благоверного Царя своего красным солнышком всея святой РусиКазалось, Царь Русский привез с собою благодать и милость Божию: Он приехал, и вместе с Ним показалось солнце и рассеялись осенние тучи, которые наводили грусть и тоску на всех жителей Московских. В нынешнее холодное и ненастное лето давно уже не любовались таким ясным небом, давно не дышали таким тихим и благорастворенным воздухом[33].
Отчеты о путешествии Николая по России фиксировали разные стороны публичного образа русского императора: Николай как объект особой народной любви и сердечной привязанности[34], Николай как отец своих подданных-детей[35], Николай как «великий хозяин русского Царства»[36]. Ключевыми средствами для описания единства императора и его народа становятся «семейные» метафоры. Прочность связи между императором и жителями России обосновывалась их особым эмоциональным, интуитивным характером.
Метафоры пути в текстах «Северной пчелы» второй половины 1836 года использовались редко; как правило, речь заходила о великой будущности России: «Мы же, слава Богу, русеем с каждым днем более и более. Это значит, что великая будущность разверзается пред нами»[37]. «Великая будущность», несомненно, подразумевала определенное движение вперед, однако не менее очевидно было другое: сравнение между историческим прошлым, настоящим и будущим (за исключением истории самого николаевского царствования с 1826 по 1836 год) по шкале «лучше – хуже» в планы Бенкендорфа и близких к нему публицистов явно не входило[38]. Грядущее процветание оказывалось связано не с реформами или иными нововведениями, а с сохранением и экстенсивным усовершенствованием настоящих порядков – причем надежды на такой сценарий ассоциировались не столько с династической преемственностью, сколько почти исключительно с фигурой действовавшего монарха.
В этой перспективе ответственность за стабильность, а значит, и за благоденствие ложилась прежде всего на III отделение императорской канцелярии и корпус жандармов, призванных обеспечивать связь между монархом и его народом поверх устоявшейся бюрократической иерархии. Собственно, «цветущее» положение дел в стране и наступившее «спокойствие» во многом стали итогом десятилетней деятельности руководимых Бенкендорфом ведомств[39], поскольку именно для достижения этой цели – всеобщей «тишины» – в 1826 году и была образована жандармерия. В инструкции жандармским чиновникам Бенкендорф в 1826 году отмечал:
Стремясь выполнить в точности Высочайше возложенную на меня обязанность и тем самим споспешествовать благотворной цели Государя Императора и отеческому его желанию утвердить благосостояние и спокойствие всех в России сословий, видеть и их охраняемыми законами и восстановить во всех местах и властях совершенное правосудие, я поставляю Вам в непременную обязанность <…> следующее: <…> Наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей либо личной властью, или преобладанием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных. <…> Вы в скором времени приобретете себе многочисленных сотрудников и помощников; любящие правду и желающие зреть повсюду царствующею тишину и спокойствие, потщатся на каждом шагу Вас охранять и Вам содействовать полезными советами, и тем быть сотрудниками благих намерений своего Государя (курсив мой. – М. В.) [Инструкция 1871: 197–199].
Таким образом, официальная интерпретация истории первого николаевского десятилетия на троне заключалась в том, что «особый путь» развития России, по сути, подошел к концу. За уникальными успехами текущего царствования могли следовать лишь бесконечное и ничем не омрачаемое благоденствие, «тишина» и «спокойствие». В этой перспективе основу государственного управления составляли не министерства, чья функция в данном контексте сводилась к минимуму – поддержанию прежнего порядка, а контролирующие идеологические ведомства. Таким образом, разговор об «особом пути» вновь велся на языке межведомственного соперничества.
6. Третий влиятельный участник идеологических дебатов того времени, министр народного просвещения С. С. Уваров, мыслил текущий исторический момент (1830‐е) в категориях перманентного государственного кризиса. В записках, которые он с 1832 года подносил императору, он часто напоминал о последствиях декабрьских волнений 1825 года в России и европейских революций начала 1830‐х, прежде всего во Франции. Так, в своем письме Николаю от марта 1832 года Уваров описывал положение России в мире, используя метафору корабля, плывущего в открытом бушующем море:
Дело Правительства – собрать их (последние останки своей политической будущности. – М. В.) в одно целое, составить из них тот якорь, который позволит России выдержать бурю [Уваров 1997: 97] (оригинал по-французски).
Метафорами бури и корабля пронизан и доклад Уварова «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения», доведенный до сведения монарха 19 ноября 1833 года:
Правительству, конечно, в особенности Высочайше вверенному мне министерству, принадлежит собрать их («религиозные, моральные и политические понятия», принадлежащие исключительно России. – М. В.) в одно целое и связать ими якорь нашего спасения <…>. Россия живет и охраняется спасительным духом Самодержавия, сильного, человеколюбивого, просвещенного, [что] обращалось в неоспоримый факт, долженствующий одушевлять всех и каждого, во дни спокойствия, как и в минуты бури? <…> Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала? <…> Но если Отечеству нашему <…> должно устоять против порывов бури, ежеминутно нам грозящей, то образование настоящего и будущих поколений в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности составляет бессомненно одну из лучших надежд и главнейших потребностей времени… (выделено автором. – М. В.) [Уваров 1995: 70–72].



