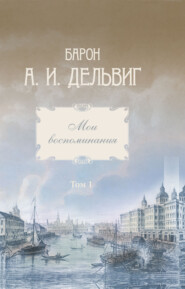скачать книгу бесплатно
Когда один из ротных офицеров вздумал ему сделать замечание за позднее вставание и хотел поставить его во фронт, брат оттолкнул его от себя и был немедленно окружен кадетами, которые не допустили офицера до брата. Офицер жаловался начальству, но поступок брата не имел для него никаких дурных последствий.
В 1823 году дядя мой князь Дмитрий [князь Дмитрий Андреевич Волконский] продал свое Пензенское имение и, желая жить в Москве, купил в ней дом на Остоженке в Штатном переулке. Сверх большого дома, были два флигеля, людская изба и довольно большое пустое место. Дядя поселился в одном из флигелей, а дом и другой флигель отдавал в наймы. Строение он переделал по своему вкусу, издержал на это много денег без всякого толка; к флигелю, в котором жил сам, пристроил стеклянную галерею, в которой зимою было так холодно, что она на зиму запиралась и холодила весь дом. Пустое место он засадил фруктовыми деревьями, которые при возведении провиантских магазинов, построенных рядом с садом, совершенно пропали.
С переездом дяди в Москву он в некоторые воскресенья брал меня к себе, а так как он часто отлучался из дома, ведя постоянную карточную игру, то посылал меня к другим родственникам и близким знакомым. Всего чаще бывал я у приятельницы моей матери, графини Елизаветы Васильевны Санти[115 - Санти (урожд. Лачинова) Елизавета Васильевна де (род. 1763) – дочь бригадира Василия Петровича Лачинова и княжны Марии Ивановны Дашковой. В 16 лет вышла замуж за секунд-майора граф Александра Францевича де Санти (1757–1831). Дом Санти находился в начале Кривоколенного пер. Ф. С. Рокотов писал ее портрет (1785, находится в Третьяковской галерее), о котором художник и искусствовед Александр Бенуа отозвался так: «Портрет графини Санти – одно из самых удивительных произведений XVIII века!» (Портрет и этот отзыв см.: Бенуа А. Н. Русская школа живописи: [альбом] / Ред. Н. Н. Дубовицкая. М.: Арт-Родник, 1997. С. 20).], которой дом был в Кривом переулке на Мясницкой, принадлежавший впоследствии г-же Корасс
и Дикенлейну[116 - Декинлейн (Декиндлейн, Дикенлейн) Михаил (Михайло) Константинович (1793–1867) – дворянин, генерал-майор (1856), участник компаний 1812–1814 и 1854–1856 гг.]. Она меня иногда посылала к другу моей матери княгине Кольцовой-Масальской[117 - Кольцова-Масальская (урожд. Гика) Елена Михайловна, кнг. (1828–1888) – румынская художница, писательница-беллетристка под псевдонимом Дора д?Истрия (Dora d?Istria). Долго жила в России. В 1849 вышла замуж за кн. Александра Кольцова-Масальского (ум. 1875).], которой дом был напротив дома графини Санти, а передним фасадом выходил на Мясницкую.
Отпущенные из заведения Д. Н. Лопухиной воспитанники должны были возвращаться в заведение не позже 9-ти часов вечера, и за исполнением этого строго наблюдалось. Родственники, у которых я бывал по праздникам, конечно, покорялись этому постановлению. Дом графини Санти был недалеко от заведения, и она всегда давала свою карету, но так как требовалось, чтобы воспитанники приезжали с проводником, то в проводники ко мне всегда навязывалась Наталья Семеновна Паладьева
, старая и весьма бедная женщина, давнишняя знакомая моей матери. Она, вместо того чтобы отвозить меня в заведение, пользовалась каретой, чтобы объездить нескольких своих знакомых, оставляя меня при этих посещениях скучать, а иногда и мерзнуть в карете. Эти разъезды были причиной моего опаздывания в заведение и влекли за собою взыскания, а потому я, во избежание их, не раз просил г-жу Паладьеву доставлять меня в заведение прямо от графини Санти. Но она меня не слушалась, а бранила мальчишкою, который осмеливался ее учить, тогда как она повелевала и большими людьми и, между прочими, моим дядей бароном А. А. Дельвигом. Я упоминаю об этом, так как означенные опаздывания были единственными моими проступками, за которые я подвергался взысканию, а также для того, чтобы выказать необыкновенно задорный характер этой женщины. Обыкновенно подобные бедные старушки ниже воды тише травы перед знатными дамами; она же никогда никому не спускала, а потому жаловаться на нее графине Санти, женщине характера кроткого, было бы не только бесполезно, но даже вредно для меня. Паладьеву я видал у матери моей и в других домах, и везде она была одинакова. Между прочим, я видал ее у родной сестры графини Санти, вдовы Настасьи Васильевны Мерлиной[118 - Мерлина (урожд. Лачинова) Анастасия Васильевна (ум. 1848) – муж: генерал-майор Яков Данилович Мерлин (1753–1819), дети: Анна, Вера.], тещи недавно умершего, почти ста лет от роду, сенатора Федора Петровича Лубяновского[119 - Лубяновский Федор Петрович (1777–1869) – дворянин из польских шляхтичей; сенатор, литератор, переводчик, мемуарист, окончил Харьковскую духовную семинарию и затем Имп. Моск. ун-т. Служил в должности секретаря в канцелярии министра внутренних дел под непосредственным начальством М. М. Сперанского, с которым завязались длительные дружеские связи. Статс-секретарь и управляющий делами принца Георгия Ольденбургского в Твери (1809), губернатор Подольска (1831), сенатор (1833), действ. член Российской академии (1839), действ. тайный советник (1849). Был дружен с Пушкиным в бытность свою сенатором.], женщины твердого характера, строптивой и резкой в обращении, известной тем, что, в бытность ее мужа полковым командиром, полком действительно заправлял не муж ее, а она, {о чем упомянуто в печатных записках какого-то француза, путешествовавшего в то время по России}. Перед нею преклонялись все приезжавшие навестить ее, кроме Паладьевой, которая, когда нечего было есть, проводила у нее целые дни, а когда не на что было нанять комнаты для жилья, проводила у нее и ночи. Помню, что в начале 30-х годов, <когда я служил офицером в Москве>[9 - Фрагмент текста, вычеркнутый в рукописи; далее такие случаи не оговариваются.], заходя к Н. В. Мерлиной, которую заставал за раскладыванием гранпасьянса, а напротив ее сидевшую Паладьеву {их разделяла лампа}, я садился так, что с одной стороны была Мерлина, а с другой Паладьева, и они по очереди обращались ко мне, чтобы потихоньку бранить друг друга, точно как ? parte[10 - ? parte (фр.) – (театр.) сценические монологи или реплики, произносимые «в сторону», для публики и, по замыслу автора, «не слышные» партнерам на сцене.] в театре, а чтобы обратить мое внимание на то, что они намерены говорить со мной, толкали меня ногой под столом, а Паладьева даже тихонько щипала.
После покупки дядей моим Дмитрием Волконским дома в Москве мать моя приезжала каждую зиму в Москву, и я по зимам праздничные дни проводил вместе с нею и обоими братьями.
Деревянный флигель, в котором жил мой дядя, имел антресоли. <В нижнем этаже следующее помещение: наружная дверь отворялась в сени, из которых были две двери, одна направо, а другая налево. Сейчас за дверью направо была маленькая передняя, в которой была лестница в антресоль и отделен небольшой буфет; из передней направо довольно большая комната, которой окна выходили на улицу и которая служила дяде приемною и кабинетом. Дверь налево из сеней вела в маленькую переднюю, за которой была комната с окнами на двор, служившая спальней дяди. К этой комнате и передней, у которых была уничтожена наружная стена, выходившая во двор, замененная стеклянными дверьми, была пристроена довольно большая галерея; наружная стена ее состояла из стеклянных дверей, из которых ничего не было видно, кроме старой грязной избы для помещения прислуги и грязного небольшого двора между флигелем и избою.> При входе с лестницы в антресоль направо был коридор и<з которого направо было> две комнаты, одна о двух окнах <над кабинетом дяди>, а другая об одном окне <над переднею>, а налево с лестницы в антресоли была комната о двух окнах с передней. <Над стеклянной галереей не было антресоля.> В той половине антресолей, которая была вправо от лестницы, помещалась моя мать с младшим братом до поступления его в Московский кадетский корпус. В коридоре жила ее служанка; первая комната о двух окнах служила гостиной, а вторая – спальней. Человек, служивший матери, жил в общей избе. Комнату с передней в другой половине антресолей занимал старший мой брат, когда был отпускаем из корпуса и когда эта комната не была занята кем-нибудь из родственников; тетки мои часто в ней останавливались. Все эти комнаты были малы, стены в них обелены по штукатурке, а мебель в них самая простая. Бедно жила мать моя, потому что процентов с ее весьма ничтожного капитала было мало для сколько-нибудь лучшей жизни, несмотря на то что она жила в доме своих братьев и летом, и зимою. Она берегла каждую копейку, чтобы иметь возможность поддержать сыновей хотя в первое время их службы, а дочери дать что-нибудь в приданое.
Мать моя была женщина религиозная, сострадательная к несчастным, щедрая по силе своих средств к бедным; она соблюдала все посты во всей строгости, указанной православной церковью; были дни, в которые она даже ничего не ела; церковные службы посещала она весьма часто, – в праздники явлений Божьей Матери и памяти святых любила бывать на службе в тех церквах, которые посвящены тем явлениям и тем святым. Она часто служила молебны и постоянно раздавала нищим милостыню; при всех службах ставила свечи к иконам, а в обедни вынимала части из просвир.
Когда мы были отпускаемы из заведений, она всегда брала нас с собою. По бедности матери, конечно, большая часть этих богомолий совершалась пешком.
По отдаленности Московского кадетского корпуса и заведения Лопухиной от Остоженки посылка за братом и мной по праздникам и наше обратное доставление ей были очень накладны. Обыкновенно посылала она пешком за нами единственного ее слугу Дорофея, который, смотря по состоянию погоды, приводил нас пешком или привозил на извозчике. Экипажи состояли из дрог без рессор, на которые садились боком к кучеру, и, чтобы ноги не обрызгивались грязью, на них накладывались кожаные фартуки. Только в 1825 г. к приезду принца Оранского[120 - Виллем (Вильгельм) II (Виллем Фредерик Георг Лодевейк) (1792–1849) – вел. герцог Люксембургский, герцог Лимбургский и король Нидерландов (династия Оранско-Нассауская), старший сын и впоследствии приемник короля Виллема I. Муж (1816) вел. кнг. Анны Павловны (1795–1865), шестой дочери императора Павла I и императрицы Марии Федоровны.], мужа Великой Княгини Анны Павловны, бывшего впоследствии королем Нидерландским, было приказано приделать к дрогам спинки и с обеих сторон крылья, что и образовало так называемые дрожки колибер.
При необыкновенно добрых качествах моей матери среда, в которой она была воспитана и жила, не могла не иметь на нее влияния. Это выказывалось излишними требованиями от крепостной прислуги и взысканиями с нее. Но и в этом отношении видно было ее доброе сердце в том, что она по возможности ценила услуги, оказанные крепостными ее людьми. Так, в ее услужении была девушка Авдотья Никитина, которая в то же время была нянькой всех четырех ее детей. Нельзя понять теперь, как она могла успевать делать все, что лежало в ее обязанности, и я помню, что к ней мать моя всегда относилась хорошо. Она вышла замуж за единственного слугу матери моей Дорофея Сергеева. У них рожались дети каждый год, и потому в зимние поездки матери моей в Москву Авдотья оставалась в Студенце, и для прислуги мать моя брала с собою одну из крепостных ее девушек. Дорофея Сергеева мать моя также баловала и даже прощала такие его проступки, которые при ее религиозности и высокой нравственности она должна была считать весьма важными. Дорофей был очень силен, и я помню, как бывало при частых наших переездах он с явной опасностью жизни удерживал, при спуске по крутым горам, лошадей нашего экипажа, а на необыкновенно дурных дорогах поддерживал наш экипаж, весьма грузный, так как в нем сидели мать со всеми детьми и служанкою. В Москве Дорофей был рассылаем пешком с записками к родным и знакомым и для мелких покупок. Теперь непонятно, как много мог он ходить. Получал же он всего жалованья в год 20 руб. асс., и на это он должен был сшить себе сапоги. Когда по просьбе моего старшего брата ему прибавили 5 руб. к годовому жалованью, он был вполне доволен. Повторяю, что среда, в которой жила мать моя, не могла не иметь на нее влияния, а теперь страшно вспомнить, как мой дядя, князь Дмитрий, весьма вспыльчивого характера, колотил своих людей, в особенности камердинера своего Спиридона. От золотухи еще в ребяческие его годы у дяди согнулась левая нога, и он всегда ходил на костыле, большей частью из черного дерева. Этим костылем часто бивал он своих людей. Это не мешало ему быть религиозным и набожным. Дядя кончил курс в Харьковском университете, но его образование было весьма незавидное; иностранных языков он не знал.
Другой дядя князь Александр, хотя не кончивший курса в Московском университетском пансионе, был гораздо умнее и образованнее, легко читал французские книги. Он также был вспыльчив до невероятности и больно колотил своих людей. Вообще он был добрее младшего брата. Оба пользовались в отношении крепостных девок тогдашними слишком мало ограниченными правами владельцев людей.
Дядя князь Николай, говорят, был гораздо лучших свойств во всех отношениях, но я его мало знал.
Дядя князь Александр в описываемое мной время жил более в подмосковной деревне; oн {в это время} продал наследственное свое подмосковное имение с. Якшино, Подольского уезда, Дмитрию Никитичу Бегичеву[121 - Бегичев Дмитрий Никитич (1786–1855) – происходил из старинной дворянской фамилии Тульской губ. Получил образование в Московском благородном пансионе и Пажеском корпусе. Поступил на воен. службу в 1804. Принимал участие в Аустерлицком сражении и последующих войнах с Наполеоном. Воен. службу окончил в чине полковника. С 1919 по 1830 был в оставке и начал заниматься литературной деятельностью. В 1830–1836 воронежский губернатор. Во время губернаторства продолжал заниматься литературной деятельность. Роман «Семейство Холмских» впервые был опубликован в 1832.], умершему впоследствии сенатором в Москве, и жил в Серпуховском уезде в с. Ишенки и с. Гришенки. Он редко приезжал в Москву; останавливался у брата своего Дмитрия; они оба были членами Английского клуба[122 - Английский клуб в Москве (1772–1917) – закрытая аристократическая организация, возникшая в Москве в послед. четверти XVIII в. Точная дата основания клуба неизвестна из-за утраты архива клуба в пожаре 1812 г. Один из первых российских центров обществ. жизни. Степан Жихарев, известный в Москве писатель и драматург, отзывался о клубе так: «Он показался мне каким-то особым маленьким миром, в котором можно прожить, обходясь без большого. Об обществе нечего и говорить: вся знать, все лучшие люди в городе являются членами клуба» (см. этот и другие отзывы: Васькин А. А. Москва при Романовых. К 400-летию царской династии Романовых. М.: Спутник плюс, 2013. Гл. «Росток гражданского общества: Английский клуб»). Впоследствии в этом здании (Тверская ул., д. 21) располагался Музей революции и в настоящее время – Гос. центральный музей современной истории России.], где играли в карты; играли и дома, и у знакомых. В этом проходила наибольшая часть времени; из игравших с ними помню знаменитого тогда доктора профессора Мудрова[123 - Мудров Матвей Яковлевич (1776–1831) – врач; проф. медицины в Моск. ун-те и директор клинического института (с 1809); проф. и директор Моск. отд. Медико-хирургической академии (1813–1817); декан медицинского ф-та Моск. ун-та (1813–1830).], который их лечил. Он писал рецепты на полулисте бумаги, которые часто были так сложны, что для написания {предметов, составлявших лекарство}, недостаточно было одной страницы, и рецепт продолжался на ее обороте.
Говорили тогда, сколько могу припомнить, что старший дядя играл довольно счастливо, а младший напротив, так что он вскоре проиграл деньги, вырученные продажею пензенского имения.
В нашей семье уважение к старшим было сильно развито; <так>, младшие братья и сестры обращались с чрезвычайным уважением с дядею Александром и с моей матерью, которая, по смерти своей матери, воспитывала теток Надежду, Прасковью и Настасью. Они говорили старшему брату и сестре «вы»; мать моя, которая была очень дружна с старшим братом, говорила ему также «вы». Уважение к моей матери увеличивалось еще чувством удивления к ее превосходным качествам.
Нас воспитывали в том же духе; от нас требовали полного уважения к родным и вообще к старшим; Царь был для нас вполне священным лицом; малейшего суждения о религиозных предметах, о Царской Фамилии, о старших отнюдь не допускалось. Россию представляли нам первой державой; веру нашу религией высшей всех прочих; русский народ наш наилучшим народом; в нашей истории все прошедшее было торжественно; одна наша земля производила святых; у нас героев всякого рода было множество; цари были благодетели; Петр Великий герой преобразователь; Ломоносов герой ученый; Суворов герой полководец. Эти идеи были присущи и при воспитании предшествовавшего нам поколения, но после наших политических и военных подвигов 1812–[18]13–[18]14 годов, конечно, они приняли еще большее развитие, чему много способствовала и издаваемая в то время «История Российского государства» Карамзина[124 - «История государства Российского» Н. М. Карамзина – 12-томное историческое сочинение, описывающее русскую историю от древнейших времен до правления Ивана Грозного и Смутного времени. Первые тома печатались в 1816–1817 гг. и были хорошо известны русскому образованному обществу.], которую мы прилежно читали, зная в то же время наизусть многое из Державина[125 - Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816) – один из самых известных русских поэтов 2-й пол. XVIII – нач. XIX в. В начале творчества следует Тредьяковскому, Сумарокову и особенно Ломоносову. Ближайшее окружение Державина, в котором произошло его становление как самобытного поэта, – Н. А. Львов, В. А. Капнист, И. И. Хемницер, высокообразованные и тонко чувствующие искусство люди.], Петрова[126 - Петров Василий Петрович (1736–1799) – поэт, библиотекарь, при особо порученных от ее величества делах при дворе Екатерины II («закарманный стихотворец», по определению самого поэта). Писал патетичные метафоричные оды, отличавшиеся витиеватым стилем.], Дмитриева[127 - Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) – поэт, сатирик, баснописец, действ. тайный советник (1819), сенатор Петерб., затем Моск. департамента, член Гос. Совета, министр юстиции (1810), член Российской академии (1797).], Капниста[128 - Капнист Василий Васильевич (1758–1823) – русский поэт, драматург («Ода на рабство», 1783; «Ябеда», 1798), переводчик, деятель культуры и просвещения, статский советник. Служил в гвардии в Преображенском полку (1770–1775), где сблизился с Г. Р. Державиным, Н. А. Львовым, И. И. Хемницером и др.] и других и повторяя с первым «Россия, бранная царица[129 - «Россия, бранная царица» – дословная цитата из стихотв. А. С. Пушкина «Наполеон» (1821). Источник второй фразы «каких в тебе героев нет» не установлен; возм., это вольный пересказ Дельвига остальной части стихо творения.], каких в тебе героев нет» и проч. тому подобное.
Когда мы проводили праздники дома, мать наша за нами следила строго и не только не упускала взыскать за каждый проступок, но и за каждое слово, неуместно, по ее мнению, сказанное нами, а неуместным считалось всякое суждение о начальстве, о старших или о факте из русской истории, когда оно было несогласно с мнением, принятым тогда большей частью общества. Несмотря на такую строгость, мы ее очень любили, охотно проводили у нее праздники и с горестью ожидали приближения времени, когда надо было возвращаться в заведение, в особенности горевали братья Александр и Николай, поступивший в Московский кадетский корпус в 1824 или 1825 году, так как в корпусе с кадетами обращались тогда очень дурно. Пред уходом братьев они должны были надевать весьма толстые кожаные краги, которые застегивались сбоку ног на медных пуговицах. Это одеяние требовало много времени и было очень затруднительно. Вообще солдатская форма, которую носили и кадеты, была очень неудобна и служила только к затруднению при движении.
В случае дурной погоды, а также по безденежью мать иногда просила дядю Дмитрия дать свой экипаж, чтобы нас отвезти. Случалось, что он отказывал, и когда бывали в Москве другие ее братья, то они предлагали свои экипажи. Отказы дяди Дмитрия возбуждали неудовольствие матери и нас смущали, так как мы видели в этом его неуважение и нелюбовь к матери, которая только и проявлялась в этих случаях, так как я уже упоминал об его постоянной почтительности к своей старшей сестре.
В то время братья мои и я осуждали за это дядю Дмитрия и хвалили других дядей, но мы при этом не принимали в соображение, что при большом расстоянии от Остоженки до кадетского корпуса иногда и невозможно было давать лошадей после утренних больших разъездов дяди, который мало сидел дома, между тем как другие дяди большей частью имели наемных лошадей и, конечно, не берегли их. У матери моей в Москве было много родственников и знакомых. Близких не было, но тогда и к дальним родственникам, в особенности в нашем семействе, были ближе, чем теперь к близким.
Из родственников князей Волконских, к которым возили нас по праздникам на поклон, помню только старых князей: Николая Алексеевича[130 - Волконский Николай Алексеевич, кн. (1757–1834) – генерал-лейтенант. Родители: Алексей Никитич Волконский и Маргарита Родионовна Кошелева. Жена: Феодосия Петровна Нащокина (Волконская), детей не имел.], очень доброго, которого дом был в Садовой, и Дмитрия Михайловича[131 - Волконский Дмитрий Михайлович, кн. (1770–1835) – из тульской ветви рода князей Волконских, генерал-лейтенант (1800), крупный военачальник эпохи наполеоновских войн, сподвижник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, участвовал в боях в Балтийском море, был в эскадре Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. Сенатор (1816), похоронен в Новодевичьем монастыре.], сурового старика, которого дом был на Самотеке. Ближайший наш родной из Волконских заведовал в то время дворцовыми садами[132 - Волконский Петр Михайлович, кн. (1776–1852) – первый министр имп. двора (1825–1837), генерал-адъютант, русский воен. деятель, генерал-фельдмаршал (1843). Министерство императорского двора было учреждено высочайшим указом императора Николая I для обслуживания нужд императора и членов его семьи; в его функции входило, в частности, заведование императорскими дворцами, садами и парками. Матери автора П. М. Волконский приходился сыном брата деда (племянником деда).], но его мы видали редко.
{Множества знакомых моей матери я не буду переименовывать, не имея ничего занимательного рассказать о них. Вообще нас возили к родным и знакомым редко, в особенности по причине неимения своего экипажа. В редких случаях мы пользовались экипажем дяди; наем же экипажа был слишком тягостен для бедного кошелька моей матери. Но когда мы имели экипаж, то им пользовались вполне; перебываем в нескольких домах и для этого столько проездим, что лошади совершенно утомятся. На это мать моя не обращала внимания.}
Из всех наших знакомых наиболее посещали мы Зуевых, дальних наших родственников. Авдотья Осиповна Зуева, вдова бывшего псковского губернатора[133 - Зуев Харитон Лукич (1730–1806) – действ. статский советник, правитель Олонецкого и Псковского наместничества. жена: Авдотья Осиповна Тау-шева (ум. после 1825). Степень родства с автором установить не удалось.], очень старая женщина, нанимала на Остоженке в переулке, смежном с Заштатным, {в котором жили мы}. При ней находились старые две дочери, Катерина, вдова Белухо-Кохановская, и Марья девица и сын старый холостяк [Павел], отставной моряк; они жили довольно бедно. Другой сын, также очень старый, отставной полковник Сергей[134 - Зуев Сергей Харитонович (1769–1855) – подполковник свиты е. и. в. по квартирмейстерской части, обер-квартирмейстер 4-го пехотного корпуса. Участник Отечественной войны 1812 г.; был ранен при Островне и при Бородине.] с женой Варварой Ивановной и двумя малолетними детьми Леонидом и Мариею жили в одном с нами переулке в собственном доме.
Семейство Зуевых могло бы служить хорошим типом для романиста. {Я, не имея ни искусства, ни терпения его описывать, но для связи скажу о нем несколько слов.}
А. О. Зуева, о молодости которой, как я узнал впоследствии, имелись не очень благоприятные предания, была чрезвычайно строга к обеим своим уже старым дочерям и к сыновьям. Все перед ней ходили по струнке и с чрезвычайным к ней уважением; в старости она пользовалась им и от посторонних, в том числе от моей матери, которая называла ее тетушкой. Пятидесятилетние ее дочери не имели права никуда отлучаться без ее позволения; она неохотно их отпускала из дома и не иначе, как с дамами ей хорошо известными, например, с моей матерью, которую она очень любила и уважала. Во время праздников коронации Императора Николая[135 - Коронация Николая I происходила в Москве в авг. 1826. Один из очевидцев писал об этом в своих воспоминаниях: «Коронация назначена была 22 августа. В Кремле были построены места для зрителей, некоторые пускались по билетам, а за местами весь Кремль был полон народом. От собора до собора было разостлано красное сукно для шествия Государя, по сторонам стояла гвардия. Мы собрались с раннего утра в Кремлевский дворец в тронную залу. Долго ждали мы Государя и не знали, в которые двери он войдет. Через несколько времени начало доходить до нас ура, но по разным местам и голосов от десяти не более. Это показалось нам странным, потому что ура могло в то время кричаться только в приветствие Государю и было бы всеобщее. Мы подошли к окну и увидели, что через толпу народа пробираются два белые султана. Это были Константин Павлович и Николай Павлович; первый вел его под руку и открывал ему дорогу. Так как въехать в Кремль по множеству народа не было возможности, то они вышли из коляски и пробирались во дворец пешком» (Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / Изд. подгот. К. Г. Боленко, Е. Э. Ляминой, Т. Ф. Нешумовой. М.: Новое лит. обозрение, 1998. С. 246).] мать моя старалась доставить им некоторое развлечение и каждый раз с трудом выпрашивала у А. О. Зуевой отпустить ее дочерей на бывшие народные праздники. Когда мать моя просила отпустить их на какой-то большой парад или ученье, бывшее в Хамовниках, то А. О. Зуева нашла не только то, что они слишком часто пользуются развлечениями по милости моей матери, но что и не совсем прилично ехать смотреть на маршировку множества мужчин, а младшей ее дочери девице было тогда за 50 лет.
Аккуратность и точность во всех действиях, даже самых ничтожных, в семействе Зуевых были необыкновенные. Но более, чем во всех других, они были развиты в С. X. Зуеве.
В доме его было все чисто и прибрано к месту; ничто не менялось; выходил он из своего кабинета и в него возвращался в определенные часы; одет был постоянно в военном сюртуке с Владимирским крестом и Анненским с алмазами на шее. Платье это, – сюртук и брюки, – он сшил в 1814 г. в Париже и сохранил его до своей смерти без пятен, хотя он прожил после того около четверти века. Для сохранения своего платья он, садясь в кресла, стряхивал с него пыль платком и обдувал его со всех сторон, фалды сюртука подбирал на колена, никогда не прикасался спиной к спинке мебели и рукавами к ручкам мебели или к столу. Все это было в нем так натурально, что не обращало ничьего особенного внимания и поражало только меня, резвого, неаккуратного мальчика, отличавшегося всегда скорым истиранием и пачканием моего платья. С. X. Зуев не выдержал, однако, своего характера при воспитании детей, которых он и жена его Варвара Ивановна баловали без толку, и из них ничего путного не вышло. Сын Леонид пьянствовал, оставил рано службу и женился на дворовой девушке; он уже умер. Дочь Марья была недурна собою, вышла за своего родственника Веселицкого[136 - Во втором томе автор снова упоминает полковника Веселицкого, который во время венгерского похода 1849 г. служил начальником штаба 4-го пехотного корпуса. Жена: Марья Сергеевна Зуева (дальняя родственница автора). Дополнительных сведений установить не удалось.], бывшего впоследствии начальником военной дивизии, имела сына[11 - 1) Известного в 1876 г. деятеля в Черногории.] и вскоре разошлась с мужем.
В. И. Зуева имела некоторое состояние, но оно весьма уменьшилось, несмотря на скупость ее мужа. Имение это они расстроили следующим образом: Император Павел пожаловал отцу С. X. Зуева землю на одном из островов Чудского озера, с населенными на ней крестьянами. Крестьяне платили самый незначительный оброк, которым довольствовались его сыновья и вдова с дочерьми. Между тем на означенной земле поселились вольные люди в виду выгод, которые можно было получить от обильной рыбной ловли. Сыновья Зуева, состоя на службе, были рассеяны по всей России, а вдова и дочери не понимали значения этой ловли и невыгод от новых поселенцев. Последние же подали в 1817 г. просьбу Императору Александру об образовании из их поселения посада, что и было утверждено без справок о том, что они поселились на чужой земле. По утверждении же посада новые поселенцы, считая себя хозяевами, начали стеснять крестьян, принадлежащих Зуевым, так что последние не могли платить незначительного на них наложенного оброка. Тогда только Зуевы начали доказывать свои права и требовать от казны вознаграждения за убытки. С. X. Зуев, один из всех братьев, имел состояние и потому принял на себя хлопоты, послужившие к его разорению и не приведшие ни к какому результату.
В 1830 г., когда я прапорщиком слушал курс в Институте инженеров путей сообщения, он приезжал для упомянутого дела со своей женой в Петербург, где остановился в небольшой комнате и за обед для себя и жены платил в месяц 25 руб. асс.; тем не менее ведение этого дела послужило к разорению С. X. Зуева. После смерти его ведение дела принял на себя его родной племянник Петр Павлович Зуев[137 - Зуев Петр Павлович (1816–1895) – дальний родственник автора; племянник Сергея Харитоновича Зуева; генерал-майор (1866), инженер путей сообщения, строитель, один из организаторов строительства, а затем начальник (1864–1868) Николаевской ж. д. (1865).], генерал-майор инженеров путей сообщения и бывший долго начальником Николаевской железной дороги, но дело до сего времени не окончено. Оно доходило до Сената и до Государственного Совета; говорят, что будто бы непомерные требования П. П. Зуева, при исчислении вознаграждения за убытки, причиной тому, что дело перешло снова на обсуждение низших инстанций {и до сего времени не кончено}.
В одно из наших посещений А. О. Зуевой, осенью 1825 г., дочери ее писали письма в Петербург к своему родному племяннику Александру Павловичу Зуеву, бывшему тогда капитаном корпуса инженеров путей сообщения. В то время почта ходила из Москвы в Петербург только три раза в неделю, и так как следующий день был не почтовый, то мать моя спросила писавших письма, зачем они торопятся. Они объяснили, что письма посылаются не по почте, а через полковника Варенцова[138 - Варенцов Петр Алексеевич (1793–1848) – адъютант А. А. Бетанкура, сын разбогатевшего фабриканта, выпускник Института корпуса инженеров путей сообщения, участник Отечественной войны 1812 г.; инженер-генерал-майор (1829), знакомый А. А. Бестужева, первый начальник штаба корпуса инженеров путей сообщения с момента его основания (1829–1833), член Совета Главного управления путей сообщения и публичных зданий (1831–1833).], приехавшего в Москву с главноуправляющим путями сообщения, герцогом Александром Виртембергским[139 - Александр Фридрих Карл герцог Вюртембергский (также Виртембергский) (Alexander Friedrich Karl von W?rttemberg) (1771–1833) – родной брат императрицы Марии Федоровны, дядя Александра I и Николая I. В 1800 по рекомендации А. В. Суворова приглашен на службу в Россию в чине ген. – лейтенанта и назначен шефом Кирасирского своего имени полка (с 1801 Рижский драгунский полк). Автор кн. «Независимые замечания на кампанию прус. армии 1806 г.». Белорусский воен. губернатор (с 1811; затем с 1814). Участник Отечественной войны 1812 г. (Бородинское сражение). Возглавлял Главное управление путей сообщения (с 1822), основал Училище гражд. инженеров в С.-Петербурге (1832), руководил строительством Августовского и Кирилловского каналов (создано постоянное сообщение внутр. водами между С.-Петербургом и Архангельском), реконструкцией Вышневолоцкой, Тихвинской, Мариинской, Огинской и Березинской водными системами, а также работами по сооружению новых шоссе и мостов.], который выезжал в Петербург на другой день. Мать моя упрекала их, что они ей прежде не сказали о приезде герцога в Москву, так как она располагала меня отдать в инженеры путей сообщения, но они ей объяснили, что ничего от нее об этом не слыхали. Мать немедля решилась лично подать герцогу прошение об определении меня в Институт корпуса инженеров путей сообщения и, узнав, что он остановился в доме Дмитрия Дмитриевича Шепелева[140 - Шепелев Дмитрий Дмитриевич (1771–1841) – генерал-лейтенант, участник воен. действий в Польше (1792), на Кавказе (1796) во время швейцарского похода (1800); принимал участие в сражениии под Аустерлицем и Бородинском сражении, его имя занесено на мемориальную доску в Галерее воинской славы в Храме Христа Спасителя в Москве (доска № 26). Жена: Дарья Ивановна Баташева (наследница знаменитых купцов и миллионщиков Баташевых). Дети: Иван (отставной гвардии поручик), Елизавета (замужем за гвардии штабс-капитаном графом Иваном Павловичем Кутайсовым, внуком любимца императора Павла I), Анна (1813–1861), замужем за князем Львом Григорьевичем Голицыным (1804–1871).], на Вшивой горке[12 - 1) Огромный дом этот был выстроен тестем Шепелева Иваном Родионовичем Баташевым, весьма богатым заводчиком. В бытность французов в 1812 г. в нем жил Мюрат, но и он пострадал от пожара. Баташев после того отделал его великолепно, употребив на это несколько сот тысяч руб. асс. В 1826 г. во время коронации Императора Николая I в нем стоял герцог Девонширский, посол Великобритании.][141 - Дом Ивана Баташева в Москве на Швивой горке (дом Шепелева), ул. Яузская, д. 9–11. «Размах блестяще разработанной композиции, богатство и одновременно уникальная самобытность отделки, тончайшая прорисовка деталей дают все основания причислить дворец к числу лучших в Москве. Необычайно красива ажурная ограда… Венчают пилоны два чугунных льва… Огромные черные звери, с приплюснутыми головами и мирно сложенными передними лапами, в сущности, мало похожи на львов. Они напоминают скорее тех фантастических животных, которыми украшались резные деревянные наличники и ворота где-нибудь в Поволжье. Все эти знаменитые львы, „китаврасы“ и „фараонки“ – порождение фантазии народных художников, никогда не видевших живого льва и представлявших его по рассказам и лубочным картинкам», читаем в кн.: Милова М., Резвин В. Прогулки по Москве. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Моск. рабочий, 1988. С. 286–292.], сейчас поехала к своей приятельнице Анне Ивановне Шепелевой
, племяннице владельца дома, {в котором стоял герцог}. А. И. Шепелева жила в доме сестры своей Марьи Ивановны Сухово-Кобылиной[142 - Сухово-Кобылина (урожд. Шепелева) Мария Ивановна (1789–1862) – из дворян Калужской губ. Отец Иван Дмитриевич Шепелев, бригадир и предводитель дворянства Перемышельского уезда Калужской губ., был женат на Елизавете Петровне, урожденной Кречетниковой, дочери боевого генерала, губернатора Астрахани времен Екатерины Великой. Мария Ивановна Сухово-Кобылина – мать весьма одаренных детей: драматурга и переводчика Александра Васильевича Сухово-Кобылина, писательницы, хозяйки литературного салона Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир (Евгении Тур), художницы Софьи Васильевны. Муж – Василий Александрович Сухово-Кобылин (1782–1873), участник Отечественной войны 1812 г., предводитель дворянства Подольского уезда Моск. губ.], в приходе Харитония в Огородниках[143 - Моск. церковь Харитония в Огородниках – утраченный православный храм, находившийся в Москве в Большом Харитоньевском пер. (оба переулка, Большой и Малый, названы в честь храма). Была известна в Москве с сер. XVII в. Церковь была приходской для семьи Пушкиных: с 1801 по 1807 семья будущего поэта жила на Большой Хомутовке (Большой Харитоньевский пер.), входившей в бывшую Огородную слободу. Упоминается в «Евгении Онегине»: «У Харитонья в переулке…» Известна также тем, что в 1826 в ней венчался Е. А. Баратынский. В 1830-х была реконструирована на средства Василия Сухово-Кобылина. Снесена в 1930-е.]; третья их сестра Софья Ивановна была за дальним родственником моей матери, бывшим тогда в отставке генерал-майором Николаем Ивановичем Жуковым[144 - Жуков Николай Иванович (1783–1847) – генерал-майор, тайный советник, генерал-губернатор Костромы (1838–1846). В 1812–1813 штабс-капитан л. – гв. Измайловского полка. За участие в Бородинском сражении удостоен ордена Св. Георгия 4-го кл. (вручал лично М. И. Кутузов).]. Мать моя с А. И. Шепелевой условились, что последняя пришлет свою карету за моей матерью, которая, взяв меня из заведения, поедет к ней, а потом с нею вместе к герцогу, где и постараются представиться через Варенцова, к которому было письмо от Зуевых. Крайне дальние расстояния от Харитония в Огородниках до Остоженки, с заездом на обратном пути за мной на Солянку, были причиной тому, что мы опоздали и встретили герцога на Яузском бульваре, скачущего в дорожной коляске, запряженной шестью лошадьми. С ним рядом сидел Варенцов. Мы повернули за ними в погоню, и, когда с ними поравнялись, мать моя хотела остановить нашу карету, но А. И. Шепелева приказала скакать далее, чтобы иметь время для выхода моей матери и моего из кареты. Проскакав еще несколько, мать моя вышла из кареты, и вскоре с нами поравнялась коляска герцога, который, видя выходящую даму, приказал остановиться. Герцог принял бумагу, поданную матерью, и, когда Варенцов передал ему по-французски словесную просьбу матери, он попросил ее сесть обратно в карету, а мне приказал сесть в его коляску, напротив его. Когда я влез и сел, он спросил меня, говорю ли я по-французски и по-немецки, и продолжал меня расспрашивать то на том, то на другом языке о том, чего желает мать моя, сколько мне лет и как далеки мои познания в математике. Моими ответами и произношением на обоих языках он остался доволен; находил, что я по моим летам не могу еще вступить в Институт инженеров путей сообщения, куда, по существовавшему тогда положению, не принимали моложе 16 лет, удивлялся, что я так много уже знаю из математики, и поручил мне сказать моей матери, что он прикажет инженер-полковнику Янишу[145 - Яниш Николай Иванович (Jaenisch) (1782–1854) – начал службу в 1801 учеником чертежника Департамента водяных коммуникаций. В 1806 командирован в Англию по гидротехническим работам, за умелое описание англ. доков Ост-Индской компании и труды, содержащие полезные для России сведения об Англии, пожалован бриллиантовым перстнем и знаком ордена Св. Владимира 4-й ст. За отличие в 1810 переведен в корпус воен. инженеров майором путей сообщения и занял пост управляющего III (Моск.) округом путей сообщения. По воспоминаниям, кроме инженерного дела, хорошо знал математику и гидростатику, владел англ. и франц. языками.], бывшему тогда управляющим III (Московским) округом путей сообщения[146 - Число и состав округов сообщения неоднократно менялись за период времени, охваченный воспоминаниями А. И. Дельвига. После окончания войны 1812 г. его отец был определен герцогом Ольденбургским, директором учрежденного в 1809 Главного управления Департамента водяных коммуникаций, смотрителем 1-го класса по водяной коммуникации. Об этом автор воспоминаний пишет в самом их начале, а закончил он свой труд в 1878-м описанием событий 1876-го. В год учреждения ведомства пути сообщения были разделены на 10 округов, с 1826 число округов уменьшено до 5, с 1843 их было 12, с 1846 – 13 (обо всем этом Дельвиг пишет в V главе), а начиная с 1862 несколько изменился состав тех же 13 округов. Андрей Иванович вспоминает о разных периодах существования ведомства путей сообщения и, соответственно, указывает действительные для этих периодов номера и названия округов.], меня проэкзаменовать. Затем герцог со мной простился; я, видимо, произвел хорошее впечатление.
Следующие причины служили поводом для моей матери взять меня из заведения Лопухиной и отдать в Институт путей сообщения.
1-я. Говорили вообще, что Д. Н. Лопухина не желает более продолжать жертвовать деньги на содержание мужского заведения, что она вскоре воспитанников или возвратит родным, или поместит для окончания гимназического курса в один из частных пансионов; действительно, воспитанники ее заведения в 1826 г. были помещены на ее счет в частный пансион [Иоганна Фридриха] Вейденгаммера.
2-я. Я был первым воспитанником заведения по учению, за исключением рисования; мои товарищи должны были поступить в 1826 г. в университет, а я по малолетству должен был бы оставаться в заведении повторять зады.
3-я. Мне крепко не нравились кадетские корпуса, но, конечно, на это бы не посмотрели, если бы я не вышел уже из лет для поступления в эти корпуса и если бы, вследствие воспоминания матери о том, что отец несколько времени служил в ведомстве путей сообщения, не явилось у нее желание, чтобы один из ее сыновей служил в том же ведомстве. Это желание было подкреплено еще тем, что инженеры путей сообщения, служившие в то время в Москве, не только играли в обществе самую видную роль, но в молодых летах были штаб-офицерами и кавалерами двух орденов Владимира и Анны, а на чины и ордена тогда обращалось большое внимание. Действительно, в то время, по недостатку высших чинов в корпусе инженеров путей сообщения, младших подвигали быстро, и воспитанники первого, бывшего в 1811 г., выпуска из института были уже полковниками. Конечно, мать моя не понимала, что когда высшие чины в корпусе пополнятся, то движение по службе должно приостановиться, как действительно и случилось.
Вскоре получено было извещение, что, по распоряжению герцога Виртембергского, я должен явиться в назначенный вечер к управляющему III округом путей сообщения, Николаю Ивановичу Янишу, для экзамена, который будет произведен в его присутствии корпуса инженеров путей сообщения полковником Николаем Богдановичем Гермесом.
По нашем приезде Яниш, добрейший человек, и его жена приняли мать мою и меня чрезвычайно ласково и объявили, что вместо Гермеса меня будет экзаменовать Строительного отряда путей сообщения капитан Павел Васильевич Максимов[147 - Волею судеб оба экзаменатора, предполагавшийся и действительный, стали первыми руководителями А. И. Дельвига на службе. Максимов Павел Васильевич (ум. 1852) – инженер путей сообщения, впоследствии генерал-майор, директор ремонтных работ на Московском Мытищинском водопроводе в 1832–1834. Ему в то время был подчинен производитель ремонтных работ на старом водопроводе – от с. Большие Мытищи до Алексеевского водоподъемного здания – поручик А. И. Дельвиг. Гермес Николай Богданович (1796–1866) – генерал-майор (1838), генерал-лейтенант (1863), управляющий III (Моск.) округом путей сообщения, затем начальник VI (Казанского) округа. В 1836–1837, в бытность Гермеса управляющим Моск. округом путей сообщения, Дельвиг был производителем гидравлических работ на Тульском оружейном заводе и затем производителем изысканий по устройству судоходства по р. Упе.]. Он, хотя и не был воспитанником Института путей сообщения, но, конечно, знал более Гермеса и был более пригоден для производства экзамена, который я выдержал хорошо.
По донесению Яниша как об этом, так и о том, что мать моя не имеет средств для дальнейшего моего образования, герцог Виртембергский, имея в виду, что я по летам не могу поступить в институт, назначил меня в {число воспитанников, имеющих быть принятыми в} 1827 г. в Строительное училище путей сообщения. {О том, что это было за заведение, я расскажу ниже.}
В титуле указа об определении меня в Строительное училище значилось: «по повелению Его Величества Государя Императора Константина Павловича», и это дает мне повод {хотя в кратких словах} рассказать о впечатлении, произведенном смертью Императора Александра I [1 декабря 1825 г.].
По получении известия о его кончине, совершенно неожиданной, нам в заведении Лопухиной казалось все мрачным и страшным. Не помню, было ли это следствием того, что мы были поражены смертью человека, которого считали всемогущим и благодетелем нашего отечества, или того настроения, которое было общее всему московскому обществу, ожидавшему каких-то невзгод от перемены царствующего лица. Вскоре это тревожное состояние оправдалось полученным известием о 14 декабря, о тайных обществах, о смутах в разных краях России и арестовании нескольких лиц в Москве и во всей России. Я с другими воспитанниками видел, как полиция взяла одного из членов тайного общества из дома Глебова[148 - Глебов дом (Фонтанка, 90) – принадлежал генерал-прокурору А. И. Глебову; после того как ему было запрещено жить в обеих столицах, продан яросл. купцу, тоже Глебову, который устроил здесь суконную фабрику. Дом известен тем, что именно в нем началось восстание декабристов (там собирались участники тайного «Северного общ-ва»). 14 дек. 1825 две роты Моск. полка под командованием Александра, Михаила Бестужевых и Д. А. Щепина-Ростовского вырвались на набережную Фонтанки и по Семеновскому мосту устремились на Сенатскую площадь.]; двор этого дома находился против окошек того флигеля, который занимало наше заведение.
Об этом времени у меня осталось самое грустное воспоминание; не только никто не старался в своих суждениях оправдать, по возможности, деятелей тайных обществ, но все их осуждали, и кара правительственная, конечно, не превосходила той кары, которая на них налагалась мнением общества, – по крайней мере того общества, которое мне было тогда доступно, чему явным доказательством может служить то, что известия о наказаниях, к которым были приговорены члены бывших тайных обществ и которые были неоднократно перечитаны, не вызывали сострадания.
Приведение к присяге сначала Константину Павловичу, а через несколько дней Николаю Павловичу было принято всеми, а тем более нами, мальчиками, без всякого удивления. Оставление Империи по {какому-то} секретному завещанию младшему брату помимо старшего всем мне известным лицам казалось делом правильным; {до такой степени понятия общества были мало развиты}.
Перед провозом тела Императора через Москву носились слухи, что будут разные смуты, грабительства и нападения на гроб для доказательства, что Александр умер не своею смертью. Жители Москвы очень опасались этого, и правительство принимало предупредительные меры. Но все обошлось тихо. Я видел церемонию провоза тела и ходил ему поклониться.
В числе лиц, сопровождавших тело Императора, был Елпидифор Антиохович Зуров[149 - Зуров Елпидифор Антиохович (1798–1871) – начал службу в 1815 юнкером в Дерптском конноегерском полку. В 1817 перешел в лейб-кирасирский полк. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и подавлении польского восстания 1831 г. В 1826 был назначен адъютантом к графу В. В. Орлову-Денисову, командиру 5-го резервного кавалерийского корпуса, для сопровождения тела императора Александра I из Таганрога в С.-Петербург. В 1833 назначен тульским гражд. губернатором. В 1839–1846 – новгородский гражд. и воен. губернатор. С 1846 сенатор.] (умер в декабре 1871 г.). Он прежде служил в Ельце в Переяславском конноегерском полку вместе с дядей моим А. Г. Замятнин и был знаком с дядей[13 - А. Г. Замятнин и был знаком с дядей вписано над строкой.] князем Дмитрием, который через него познакомился с бывшим вагенмейстером при Императоре и также сопровождавшим его тело полковником Афанасием Даниловичем Соломкою[150 - Cоломка Афанасий Данилович (1786–1872) – род. в Черниговской губ., образование получил в Новгород-Северском уездном училище. На военную службу поступил в 1807 юнкером л. – гв. артиллерийского батальона. Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах 1813–1815 гг. В 1815 штабс-капитан, а в 1818 – полковник Главного штаба, обер-вагенмейстер. С 1827 генерал-вагенмейстер Главного штаба. Сопровождал императора Николая I на дунайский театр военных действий. Член императорской свиты.] (ныне генерал-лейтенант и генерал-вагенмейстер, давно по болезни не сходящий с постели). Манифест нового Государя о порядке престолонаследия был читан в обществе моих родных со слезами умиления; они говорили, что он написан самим Государем, не считая возможным, чтобы кто-нибудь, кроме его, мог решиться упоминать о предположениях смерти Государя, его сына и брата.
В конце 1825 г. мать моя, узнав о тяжкой болезни своего друга С. П. [Софьи Петровны] Боборыкиной, ездила за нею в Нижний Новгород, откуда перевезла ее в топленой карете в Москву. Вместе с ними приехали муж Боборыкиной и их дети, а сестру мою мать взяла к себе. Боборыкина вскоре умерла.
В начале 1826 г. мать моя взяла меня из заведения Д. Н. Лопухиной, и для сестры и для меня пригласили учителей; по ее бедному состоянию плата им за уроки была выше ее средств.
Закону Божию учил нас священник Московского коммерческого училища Соловьев[151 - Соловьев Михаил Васильевич (1791–1861) – законоучитель (преподаватель Закона Божия) и настоятель Моск. коммерческого училища. Получил образование в Славяно-греко-латинской академии. Его сын, Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), – видный и авторитетный историк, проф., затем ректор (1871–1877) Имп. Моск. ун-та, действ. член Российской академии наук. Основной труд: «История России с древнейших времен». Михаил Васильевич отличался начитанность, свободно говорил по-франц., хорошо знал др. – греч. яз., всю жизнь пополнял личную библиотеку. В коммерческом училище был преподавателем Закона Божьего у И. А. Гончарова.], отец известного профессора и историка; учиться танцевать меня и сестру возили к Гвоздевым
, у которых было много детей. У них же вместе с нами учились сын и дочь князя А. С. Меньшикова[152 - Меншиков Александр Сергеевич, кн. (1787–1869) – русский воен. и гос. деятель, генерал-адъютант (1817), начальник Главного морского штаба (с 1827), адмирал (1833), член Гос. Совета (1830), морской министр (1836–1855), генерал-губернатор Финляндии (1831), главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму (1853–1855), где, по мнению историков, проявил себя крайне неумелым руководителем: «Меншиков ничего не успел или, точнее, не сумел сделать для серьезной защиты русских берегов» – чем, впрочем, отличался и в предыдущей своей деятельности: «На протяжении более двадцати лет Меншиков побывал и начальником морского ведомства, удивляя моряков полным незнанием дела, и одновременно он был финляндским генерал-губернатором, не интересуясь Финляндией даже в качестве туриста… В 1853 г., столь же бестрепетно, без всяких колебаний, согласился ехать чрезвычайным послом в Турцию. От природы он был, бесспорно, умен; был очень образован», но отличался самоуверенностью и тщеславием (Тарле Е. В. Крымская война: В 2 т. Т. 1, гл. 2; Т. 2, гл. 1). В 1855–1856 генерал-губернатор Кронштадта.], из которых ничего путного не вышло; сын[153 - Меншиков Владимир Александрович, светл. кн. (1816–1893) – родители: Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869) и Анна Александровна Протасова (1790–1849). Генерал от кавалерии, генерал-адъютант, участник Кавказской и Крымской войн. Праправнук Александра Даниловича Меншикова, последний в этом роду по прямой муж. линии.] теперь генерал-адъютантом, а дочь[154 - Меншикова (в браке Вадковская) Александра Александровна, светл. кнж. (1817–1884) – дочь Александра Сергеевича Меншикова и Анны Александровны Протасовой; муж: Иван Яковлевич Вадковский (1814–1865). Внук Александры Александровны (сын дочери Анны) Иван Николаевич Корейша в 1897 принял титул, фамилию и герб светл. кн. Меншиковых.] была за Вадковским [Иваном Яковлевичем]; они приезжали с матерью; отец [светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков] их был послан тогда в Персию и привез войну, так же как из посольства в Константинополь в 1853 г.
Из учителей заведения Лопухиной были приглашены для обучения математики адъюнкт-профессор Московского университета Кацауров[155 - Коцауров (Кацауров) Николай Васильевич (1798– после 1848) – магистр физико-математических наук, адъюнкт математики в Имп. Моск. ун-те. В 1830 принимал вступительные экзамены в университет у М. Ю. Лермонтова.] и для рисования Сухарев
. Я уже пять лет учился у последнего, но не оказал почти никаких успехов, и это продолжение учения было для меня бесполезно. Насколько я имел дарования для изучения наук, настолько же или еще более не имел способностей к рисованию, черчению и вообще всему, для чего требовалось участие рук. Мать моя для развития во мне способности к ручной работе купила картону, цветной бумаги, клею, ножей и т. п., но сколько я ни пробовал резать и клеить, все было неудачно.
При выходе из заведения Лопухиной я полагал необходимым подарить что-нибудь своим прежним товарищам; мать моя согласилась дать на это небольшую сумму; я уже покупал разные вещи и между прочим очень хорошенькие тросточки с стальными молоточками на верхнем кончике, как было вся покупка приостановилась. Тетка моя княжна Татьяна за год перед этим была в Москве и сшила мне хороший сюртук для ношения его по праздникам вместо курточки, в которой меня отпускали из заведения. Во время поездки матери в Нижний Новгород я взял сюртук в заведение и там его подарил кому-то из воспитанников на память обо мне, а взамен получил какую-то безделицу. Этот невыгодный обмен, но всего более мое самовольство, очень рассердили мать мою, которая меня сильно бранила и грозила высечь; не понимаю, каким образом и на этот раз я избегнул сеченья. Вследствие умилительной моей просьбы мать меня простила; все было забыто и пошло по-прежнему.
В это время мать моя, чтобы приучить к хозяйству мою сестру и чтобы иметь свой угол, купила небольшое имение с. Чегодаево в 45 верстах от Москвы, в Подольском уезде. Оставление моей матерью с. Студенец было очень чувствительно не только для крестьян этого села, но и всех окрестных деревень. Она подавала им добрые советы, лечила их домашними средствами, так хорошо действующими на простые их натуры, и сберегала их деньги, которые они ей отдавали на хранение, как в самые верные руки. Скольких она через это оберегла от пьянства, скольким сохранила их состояние, в особенности в 1819 г. при перемене формы государственных ассигнаций[156 - Именной Указ императора Александра I, данный Сенату: «О перемене гос. ассигнаций» (№ 27784, от 1 мая 1819). В указе введенные ранее (1786) гос. ассигнации менялись на новые, достоинством 200, 100, 50, 25, 10 и 5 руб. По правилам обмена крупных ассигнаций (100, 50 и 25 руб.) это можно было сделать только с 1 июля 1819 по 1 янв. 1820 (т. е. только полгода), ассигнации же меньшего достоинства оставались в обращении до нового указа (Полн. собр. законов Российской империи: В 45 т. Собрание первое: 1649–1825 гг. Т. 36. Ст. 159–165).]! Известно, что большое число крестьян пропускают сроки для обмена старых ассигнаций на новые и через это теряют весь нажитый тяжкими трудами капитал. Конечно, ассигнации тех крестьян, которые их отдавали на хранение моей матери, были обменены своевременно, а прочим соседним крестьянам было постоянно внушаемо, чтобы они не пропускали срока их обмена.
В начале весны 1826 г. мы переехали в купленное матерью моей с. Чегодаево, где нашли очень ветхий {небольшой} домик с большим запущенным садом, расположенным на высоком берегу р. Мечь, которая делает при усадьбе две извилины почти под прямыми углами, так что реку видно с трех сторон, и вообще вид из дома и сада был очень красивый; видно было несколько сел, а всего ближе через реку виднелось с. Сальково, к которому мы были прихожанами. В части с. Чегодаева[157 - В к. 1850-х гг., согласно данным «Списка населенных мест Московской губернии», в селе Чегодаево насчитывалось 18 дворов и проживало 52 мужчины и 70 женщин. (Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел: [По сведениям 1859]. [Вып.] 24: Московская губерния / Обраб. ст. ред. Е. Огородниковым. СПб.: Изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1862. С. 173.)], купленной матерью, было 20 душ крестьян и 240 десятин земли в чересполосном владении; пропорция земли весьма значительная для Московской губернии; у двух же помещиков, которым принадлежала остальная часть Чегодаева, было гораздо более крестьян с 5-ю или 6-ю десятинною на душу пропорциею, так что они, благодаря чересполосности, пользовались постоянно нашею землею.
С того времени, как мать взяла сестру от Боборыкиных, она сделалась к ней еще строже прежнего; эта строгость продолжалась и в деревне, тогда как мне была дана некоторая свобода бегать по саду, полям и т. п. Я часто ходил смотреть на полевые работы, видел обсеменение полей овсом на другой день после Николы, косьбу после Петра и Павла, молотьбу после Казанской и т. д.; купался в реке и ловил раков в присутствии и с помощью Дорофея Сергеева, сделавшегося, сверх других должностей, моим дядькою. Мы бывали часто в с. Салькове, в церкви, на базаре и у священника, у которого 1-го августа я ел прекрасные огурцы с медом; мы заезжали иногда и к близким соседям, но я мало помню об этих выездах наших; из дальних же соседей помню семейство Николая Ивановича Васильчикова[158 - Васильчиков Николай Иванович (1792–1855) – с 1807 г. юнкер в Кавалергардском полку, участник Отечественной войны 1812 г. (у Семеновских флешей, на батарее Раевского). В 1818 командир эскадрона, в 1819 – полковник. В 1824 уволен от службы генерал-майором. С 1827 владелец родовой усадьбы Лопасня-Зачатьевское (сейчас Моск. обл., Чеховский р-н). С 1832 уездный предводитель дворянства Серпуховского уезда. В Лопасне-Зачатьевском жил старший сын А. С. Пушкина Александр, его 11 детей от двух браков также взрослели здесь. Жена Н. И. Васильчикова – Мария Пет ровна Ланская (ум. 1879).] в Лопасне и в особенности Александра Васильевича Васильчикова[159 - Васильчиков Александр Васильевич (1777–1842) – сын Василия Семеновича Васильчикова (1743–1808) и Анны Кирилловны Разумовской (ум. в 1826). Жена Глафира Петровна Зубова (1776–1838). Кроме с. Васильевского (Скурыгино) Васильчиковым принадлежали также Лопасня (Зачатьевское), Манушкино, Кулаково, Гришенки, Сенино, Поповка, Коровино, Шарапово и др. О поездке в Тульскую губ., где находилась бо?льшая часть имения А. В. Васильчикова (возм., Поповка и Коровино), автор рассказывает в III гл.] в с. Васильевском. С последним я еще не раз встречусь в «Моих воспоминаниях».
Перед коронацией Императора Николая I[14 - Слова Императора Николая I вписаны над строкой.] мы поехали к дяде князю Александру в с. Ишенки и с ним в с. Рожествено, принадлежавшее Николаю Ивановичу Жукову. В его прекрасном доме, окруженном садами, мы провели несколько дней. В это время через с. Рожествено проходил в Москву Киевский гренадерский полк, которым перед этим командовал Н. И. Жуков, а настоящим его командиром был полковник Фролов[160 - Фролов Петр Николаевич (1790–1863) – из дворян Рязанской губ., генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 г., Заграничного похода, войны против турок (1828–1829), Кавказской войны (1830–1833), управляющий всеми Закавказскими провинциями (с 1834), член Воен. совета (1856). С 4 марта 1820 по 1 янв. 1826 командовал Киевским гренадерским полком.] (впоследствии генерал от инфантерии), замечательный тем, что все были уверены, что он послужил Грибоедову типом Скалозуба в его превосходной комедии «Горе от ума». В каком порядке были погончики, петлички у всех чинов полка и как новый командир хотел выказаться перед прежним, и говорить нечего. Меня мало занимали разговоры моих однолетков; я всегда старался слушать разговоры старших; разговоры Жукова с Фроловым представляли для меня новость, и я всегда был недалеко от них, за что неоднократно бранил меня дядя князь Александр, замечая, что не следует соваться туда, где старшие; он говорил мне: «всяк сверчок знай свой шесток».
Летнее пребывание в 1826 г. в деревне оставило во мне самые приятные воспоминания; особливо любил я гулять в рощах; в 1821 г. я оставил деревню и мало помню мое житье в ней; после 1826 г. постоянно находясь на государственной службе, я никогда не пользовался целое лето деревенской жизнью.
В начале августа мы приехали в Москву. Мать моя жила в это время в двух комнатах антресолей флигеля дяди моего Дмитрия, {которые много выше подробно описаны}. В других комнатах антресолей жили мои дяди: Николай, бывший тогда в отставке, и Александр. На время коронации нанимали большой дом моего дяди А. Д. Соломки, а флигель близ сада полковник Холанский
, бывший, кажется, в то время женихом. Его дочь вдова Шалашникова
теперь живет в Петербурге и знакома с моей женой.
Я видел торжественный въезд перед коронацией Государя в Москву и в день коронации смотрел с мест, устроенных между Ивановскою колокольней и Архангельским собором, на выход Государя с Красного крыльца и на шествие его с Императрицей под балдахином в порфире и короне, в сопровождении Цесаревича {В. К.} Константина Павловича[161 - Константин Павлович, вел. кн. (1779–1831) – второй сын Павла I и императрицы Марии Федоровны. Титул цесаревича получил от отца в 1799 за отличие в Итальянском походе А. В. Суворова. После вступленяи на престол императора Александра вновь был объявлен наследником престола (1801). Оставался им до 1823.], из Успенского в Архангельский и Благовещенский соборы и обратно на Красное крыльцо, видел народное гулянье на Девичьем поле из ложи одной из галерей, построенных для зрителей, обед, дававшийся военным чинам в огромном Московском экзерциргаузе[162 - Экзерциргауз – имеется в виду здание Московского манежа, в котором проводились зимние учения по строевой подготовке войск.], и фейерверк перед кадетским корпусом.
{Не буду описывать этих праздников и увеселений, так как они неоднократно подробно описаны; скажу только несколько слов о некоторых из них.}
Мне не с кем было быть в Кремле в день коронации; двое дядей, бывшие в отставке с мундиром, были назначены в шествие, третий был хром. Я достал два билета на места, с которых можно было видеть шествие, и предложил один из них адъюнкт-профессору Кацаурову, у которого и ночевал с 21 на 22-е августа, и в этот день рано утром отправился с ним в Кремль, но полиция ни в одни из кремлевских ворот нас не пропускала, несмотря на наши билеты, пока мы не добрались до последних ворот Спасских и потом едва могли пройти от ворот до устроенных мест через площадь, буквально усеянную народом.
Продольный фасад Московского экзерциргауза от Кремлевского сада
Гравер Ф. Петерс. Архитектурный альбом, представляющий отличнейшие геометрические фасады соборов, монастырей, церквей, казенных и частных зданий столичного града Москвы. М., 1832. Л. 10
Фейерверк, необыкновенно великолепный, был сожжен перед кадетским корпусом, на балконе которого помещалась Императорская фамилия. Понятно, что выбор этой местности был сделан Государем с тою целью, чтобы и кадеты могли видеть хотя один из праздников коронации. Уходя после фейерверка, Государь заметил, что почти все кадеты стояли в коридорах и комнатах, так что из них видели фейерверк только стоявшие в карауле при балконе, в том числе старший брат мой, а все окна здания, обращенные к фейерверку, были отданы публике. Государь выразил свое неудовольствие директору корпуса Ушакову.
На обеде в экзерциргаузе были только военные лица, а из не принадлежащих к военному званию, вероятно, был один я. Вот как это случилось. На время коронации по домам столицы был учрежден военный постой; в дом моего дяди князя Дмитрия было помещено восемь музыкантов лейб-гвардии Преображенского полка. Они меня очень любили и пригласили с собою на хоры экзерциргауза, на которых они должны были играть во время обеда. При входе в экзерциргауз полиция затруднялась меня впустить, но музыканты уверили, что я певчий, и меня пропустили, хотя и не полагалось пения во время обеда.
По случаю постоя этих музыкантов в доме дяди Дмитрия произошло очень памятное мне столкновение между командиром 1-го батальона Преображенского полка флигель-адъютантом Микулиным[163 - Микулин Василий Яковлевич (1791–1841) – командир л. – гв. Преображенского полка (1833–1839).] и моим дядей. Нижние чины были размещены постоем в домах частных владельцев, которые, по собственному желанию, кормили своих постояльцев, о чем однако же не было ни общего предварительного приговора, ни общего согласия. Дядя же мой не намерен был кормить поставленных в его дом музыкантов, так что они ничего не получали на еду ни от начальства, ни от домохозяина. Конечно, это не могло долго продолжаться. Вскоре по приходе в Москву Преображенского батальона полковник Микулин в сопровождении батальонного адъютанта графа Зубова
, вбежав в комнату дяди, где с ним сидели дядя Николай и я, громко и в резких выражениях требовал, чтобы дядя, подобно всем другим владельцам, кормил своих постояльцев; он говорил, что о поступке дяди, доказывающем будто бы недостаток верноподданнических чувств, будет доведено до сведения Государя и что дядя подвергнется за это и невесть каким бедам. Дядя при входе Микулина и Зубова встал, на крик же Микулина отвечал также криком и резко, что обязанности, возлагаемой на него Микулиным, он не признает и что без особенного законного распоряжения городского управления, а не по одному требованию частного пристава или квартальных надзирателей, желающих угодить Микулину, дядя кормить нижних чинов не будет. В этом споре, долго продолжавшемся, Микулин часто повторял имя Государя, говоря, что Преображенский полк первый полк Его Величества, что в первом батальоне рота Его Величества, что он сам флигель-адъютант Его Величества, но ничего не помогло; явно было, что его требования были несправедливы; с другой стороны, дядя часто напоминал, что он говорит с князем Волконским. Свидетели этой сцены: дядя Николай, я и граф Зубов все время молчали, но было видно на лице последнего, как ему противно было поведение Микулина.
Дядя Дмитрий был большой чудак, а потому иногда очень скуп, иногда щедр; он постоянно любил сопротивляться даже законным распоряжениям полиции и выставлять свое княжеское достоинство. Конечно, и полиция не помогла Микулину принудить дядю кормить поставленных у него в доме музыкантов, но они были довольны своим житьем, и я полагаю, что дядя другим путем, без ведома Микулина, их вознаградил.
Во время моего детства полиция играла в Москве большую роль; не говоря уже об обер-полицмейстере [Александре Сергеевиче] Шульгине 1-м, который был всем известен и в 1825 г. заменен Шульгиным 2-м[164 - Шульгин Дмитрий Иванович (1785–1854) – из дворян Новгородской губ., генерал-майор (1824), генерал от инфантерии (1848), участник Заграничного похода (сражения при Люцене, Дрездене, Кульме, Париже), комендант С.-Петербурга (с 1846), воен. генерал-губернатор С.-Петербурга (1847). Член Гос. Совета (с 1848) с оставлением в должности генерал-губернатора, а также вице-президент комитета попечительного о тюрьмах Общ-ва и член попечительного совета учреждений императрицы Марии Федоровны.], бывшим впоследствии с. – петербургским военным генерал-губернатором; кто не знал полицмейстеров полковников Ровинского[165 - Ровинский Александр Павлович (1778–1838) – из дворян Смоленской губ., начал военную службу в 1791. Принимал участие в войнах с Наполеоном, состоял адъютантом А. П. Тормасова. Одно время командовал нижегородским ополчением. В 1815–1830 моск. полицмейстер. Жена: Анна Ивановна Ровинская (урожд. Мессинг) (1784–1863), дочь лейб-медика императрицы Екатерины – Ивана Ивановича Мессинга.] и Обрезкова[166 - Обрезков (Обресков) Василий Александрович (1782–1834) – поручик Кавалергардского полка. В 1812 адъютант Ф. В. Ростопчина. В 1817–1827 моск. полицмейстер. Сенатор (с 1828), камергер (1831), статский советник (1827), полковник (1823). Проживал близ Петровских ворот в казенном доме.]. Про первого ходила бездна анекдотов, расскажу некоторые: говорили, что он требовал, чтобы пожарные команды выезжали из дворов, в которых они помещаются, за четверть часа до пожара; что при разъездах из театров он пробирался через публику, толкая всех своими плечами и приговаривая: «по должности»; что на гуляньях полицейскому жандарму, который, не добившись установки чьего-нибудь экипажа в {учрежденный} ряд, предоставлял ему ехать произвольно, говаривал: «жандарм, ты не беспристрастен»; что с воцарением Николая Павловича он, заявляя, что гордился при покойном Императоре Александре именем своим Александра Павловича, просил его переименовать в Николая Павловича; что, так как он при разъездах из театров и собраний беспрестанно кричал кучеру стоявшей у подъезда кареты «пошел», несколько молодых людей, отворив в карете, стоявшей у подъезда, обе двери, садились в нее и, выйдя из другой двери, опять приходили садиться со стороны подъезда; после каждого, вошедшего в карету, Ровинский кричал «пошел», не понимая обмана и говоря, что в карету насело уже слишком много людей, и т. д.
С полициею у моего дяди выходили беспрерывные неприятности, о которых дядя любил рассказывать на свой лад и в клубе, и в гостях, и у себя дома. Неприятности выходили от неисполнения в точности разных законных, а подчас и незаконных требований полиции по дому дяди, а более всего от неисполнения законных требований полиции на гуляньях: на Масленице по набережной р. Москвы, до перевода этого гулянья, кажется, в 1825 г. под Новинское, в Святую неделю под Новинским, 1-го мая в Сокольниках и т. д. Эти гулянья были тогда до того наполнены экипажами, запряженными в четыре лошади, что последние занимали протяжение в несколько десятков верст, и понятно, что нельзя было при этом допустить экипажам объезжать {учрежденные} ряды или въезжать в них на местах, не указанных полицией. Дядя мой на каждом гулянье не соблюдал полицейских порядков; остановленный жандармским солдатом или офицером, он кричал, шумел, говорил о своем княжеском достоинстве, {хотя князей в Москве был целый легион}, и надоедал полиции до того, что она оставляла его делать беспорядки. Но когда на этот шум наезжал Ровинский, то они долго не уступали друг другу и большей частью Ровинский одерживал верх, потому что приказывал бить кучера и форейтора, пока они его не послушаются. Это, конечно, даром Ровинскому не проходило; дядя бранил его во всех обществах. Дядя брал меня часто с собою на гулянья, и я был невольным свидетелем этих перебранок.
На больших балах, которые давались во время коронации, конечно, я не был, но бывал на небольших балах и, между прочим, помню, что был с матерью и сестрой на <довольно> многолюдном вечере у Михаила Федоровича Сухотина[167 - Сухотин Михаил Федорович (1780–1858) – капитан-лейтенант в отставке, участник Отечественной войны 1812 г. (находился в моск. ополчении, участвовал в битве при Бородине). Дом Сухотина находился на Большой Якиманке, 33: двухэтажное здание в стиле неоклассики с ампирным фасадом и шестиколонным дорическим портиком над первым этажом. У Михаила Федоровича с женой, Варварой Сергеевной Домашневой (1793–1859), дочерью директора Академии художеств, было четверо сыновей.], довольно богатого человека, имевшего свой дом на Якиманке, второй этаж которого деревянный и в то время внутри еще не оштукатуренный; танцевали же именно во втором этаже. Освещение масляными лампами было также небогатое. Вообще 45 лет тому назад довольно богатые дома не пользовались теми удобствами, которые теперь сделались необходимостью для людей ограниченного состояния, не говоря уже о том, что многие предметы тогда были вовсе неизвестны, как-то: стеариновые свечи, керосиновые лампы и т. п. Большая часть общества в то время, несмотря на относительную дешевизну, жила расчетливее; в довольно богатых домах не было изящной мебели, изысканных кушаньев, дорогих вин, гаванских сигар и т. п. Роскошь в семействах ограниченного состояния сильно развилась в царствование Императора Николая, несмотря на то что все предметы первой потребности значительно вздорожали.
В самом начале 1826 г. дядя Дмитрий ездил в Петербург, где провел несколько времени; вернулся он в Москву еще во время моего учения в заведении Лопухиной, куда по возвращении из Петербурга приехал со мной повидаться. Он рассказывал моим гувернерам при мне о своем путешествии, о Петербурге и о том, что меня скоро возьмут из заведения, а осенью пошлют в Петербург не к двоюродному моему брату Антону Антоновичу Дельвигу, а к полковнику Филиппу Алексеевичу Викторову[168 - Викторов Филипп Алексеевич (ум. ок. 1836) – инженер, полковник (1826), директор придворного экипажного заведения (1826), кавалер; участник Отечественной войны 1812 г. (потерял ногу); служил при комиссии путей водных сообщений (1812), член комиссии для рассмотрения отчетов по художественной части при Совете путей сообщения; жена: Констанция (?) (ум. ок. 1836); дети: Надежда (в браке Мельникова) (1812–1901) (см. также примеч. 179 наст. тома), Александр (род. 1813) и др.], начальнику придворного экипажного заведения. Он объяснял, что это он устроил в мою пользу по следующему поводу.
По его мнению, все поэты современники должны быть люди безнравственные; он не признавал в них и таланта, так как они писали не по образцу знаменитых его любимцев Державина, Хераскова[169 - Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) – поэт, прозаик, драматург, обществ. деятель; из знатной семьи валашских бояр, сотрудник канцелярии, директор, куратор Имп. Моск. ун-та (1763–1802). Основное произведение – поэма «Россияда», посвященная взятию Иваном Грозным Казани; его творчеству свойственны проповедь умеренности, сетование на испорченность современного общества.], Петрова и др. Безнравственность Антона Антоновича Дельвига, в то время только что женившегося, он доказывал тем, что во время его пребывания в Петербурге Дельвиг не навестил его ни разу, что, по его мнению, Дельвиг обязан был сделать по степени родства; он считал Дельвига своим племянником, потому что сестра его, а моя мать была вдовою дяди Дельвига. Тут родства не было; если уже считать родство дяди Дмитрия с А. А. Дельвигом, то было проще вспомнить, что их матери были двоюродные сестры[170 - У бабушки автора по материнской линии, Натальи Ивановны Ярцовой (Таушевой) (1742–1776), была сестра Татьяна Ивановна Красильникова (Таушева) (ум. 1787), дочь которой Любовь Матвеевна Красильникова (в браке Дельвиг) (1777–1859) была матерью поэта Антона Дельвига.], а следовательно, они внучатные братья[171 - У самого Андрея Ивановича родство с Антоном Антоновичем Дельвигом было действительно двойным: их отцы были родными братьями (следовательно, сыновья – двоюродные братья); по материнской линии – прабабушка Анд рея Ивановича Наталья Ивановна Таушева была родной сестрой Татьяны Ивановны Таушевой, родной бабушки Антона Антоновича Дельвига; его мать Любовь Матвеевна Красильникова приходилась двоюродной теткой матери Андрея Ивановича Александры Андреевны Волконской, следовательно, мать Андрея Ивановича и Антон Антонович Дельвиг были троюродными, или внучатыми, сестрой и братом. Антон относится к третьему, а Андрей к четвертому поколению Ярцовых – Таушевых – Красильниковых.], но этого родства дядя Дмитрий не хотел вспоминать, чтобы не потерять прав дяди над Дельвигом. Оказалось впоследствии, что Дельвиг и не знал о приезде дяди в Петербург, а то, конечно, не ожидая его визита, был бы у него. Последний не допускал возможности, чтобы в Петербурге могли не знать об его приезде; <так> он привык к тому, что в провинциальных городах в то время немедля узнавалось о приезде каждого. Дядя Дмитрий очень любил заводить новые знакомства; <так> он отыскал в Петербурге мужа покойной моей тетки [Ядвиги Шарлотты Антоновны Дельвиг], Егора Михайловича Гурбандта, о котором я до того времени никогда даже не слыхивал от матери, столько любившей всех родных ее мужа и своих, но не упоминавшей о Гурбандте, вероятно, по неприятным воспоминаниям, которые он оставил ей после ее посещения Петербурга с покойным моим отцом. Дядя Дмитрий был уверен, что Е. М. Гурбандт сообщил Дельвигу об его приезде, но они в то время редко виделись и именно не виделись во все время пребывания дяди в Петербурге.
В заключение дядя рассказывал, что Дельвиг не живет дома, уходит в леса, скрывается там в ветвях деревьев, поет разные неприличные вещи и сам еще об этом пишет <рассказывает>. Конечно, все это дяде померещилось и частью выводилось им из следующих стихов Дельвига, впоследствии послуживших эпилогом к первому изданию его сочинений:
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: