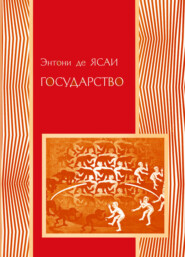
Полная версия:
Государство
Некоторые из этих соображений помогают объяснить, почему, вопреки содержащемуся в учебниках для начальной школы представлению о массах, лишенных гражданских прав и стремящихся завоевать право участвовать в политическом процессе, импульс к расширению избирательного права исходил как от правителей, так и от управляемых. Именно это представляется мне реалистичной точкой зрения на электоральные инициативы Неккера во время созыва Генеральных штатов во Франции в 1788–1789 гг., английские реформы 1832 и 1867 гг., а также на реформы, проведенные во Втором рейхе после 1871 г.
Наконец, награды не растут сами по себе на деревьях, не создаются добрым правительством для распределения среди добрых граждан. Они представляют собой предметы торговли, которые государство приобретает для распределения среди своих сторонников, принимая ту или иную сторону. Будучи потенциальным противником всех, кто принадлежит к гражданскому обществу, оно должно стать реальным противником одних, для того чтобы получить поддержку других; если бы классовой борьбы не существовало, государство могло бы ее изобрести с пользой для себя.
Принимая стороны
Подъем партийной демократии в XIX в. служил как достижению массового согласия, так и построению более масштабного и изощренного государственного аппарата.
В республике учителей капиталист будет политическим неудачником.
Основы светского западного государства благосостояния, вероятно, были заложены в 1834 г. английским законом о бедных – не потому, что он положительно повлиял на благополучие бедняков (на самом деле влияние было негативным, поскольку закон отменял помощь, предоставляемую бедным, живущим самостоятельно вне стационарных учреждений), а потому, что государство, озаботившись проблемой бедных, передало бóльшую часть соответствующих административных полномочий от непрофессиональных и независимых местных властей своим собственным профессионалам, составлявшим то, что в тот момент начинало оформляться в систему государственной службы. Самым главным автором и инициатором этой схемы усиления государственной власти и расширения ее возможностей для управления был великий утилитарист-практик Эдвин Чедвик, без активных усилий которого вмешательство английского правительства в социальные вопросы могло бы по большей части отодвинуться на несколько десятилетий. Однако случилось то, что случилось, и Чедвик своим рвением ускорил приход исторически неизбежного примерно на двадцать лет, четко осознавая, что, если государство собирается эффективно реализовывать хорошую идею, оно не должно полагаться на добрую волю независимых посредников, которых оно не контролирует[85]. Впоследствии, обратив свою энергию на общественное здравоохранение, он добился создания Центральной комиссии по охране здоровья с собой во главе, с тем чтобы она была распущена после его отставки в 1854 г., продемонстрировав, насколько сильно все зависело от одного человека на этой начальной стадии реализации исторически неизбежного. Лишь в 1875 г. в законе об общественном здравоохранении государство вернулось к воссозданию соответствующего административного органа и тем самым попутно совершило «самое большое посягательство на права собственности в XIX в.»[86]. Учитывая власть, которую государство приобретало над своим подданным в других областях общественной жизни, удивительно, что образование оставалось факультативным вплоть до 1880 г.
На более низком уровне, по сравнению с таким выдающимся деятелем, как Чедвик, инспекторы, появившиеся в результате первых фабричных законов, играли вполне аналогичную роль авангарда социальной реформы и одновременно процесса расширения государственного аппарата. Надзирая за соблюдением все новых фабричных законов, они предельно добросовестно находили другие социальные проблемы, которые государство должно было решать. По мере того как государство энергично бралось за решение все новых проблем, неожиданным побочным продуктом стало то, что власть инспекторов и количество их подчиненных также увеличились. На самом деле первая мощная волна расширения государственного попечения и, параллельно с этим, роста государственного аппарата пришлась на период, начинающийся с принятия закона о реформе 1832 г. и заканчивающийся в 1848 г., как если бы ее целью было закрепление лояльности новых избирателей; затем последовал период относительного затишья с 1849 по 1859 г., совпавший с периодом консервативной реакции на континенте; после чего начался и до сих пор продолжается прилив активизма.
По оценкам, за период с 1850 по 1890 г. число британских государственных служащих увеличилось примерно на 100 %, а с 1890 по 1950 г. – еще на 1000 %; средняя доля государственных расходов в ВНП в XIX в. составила 13 %, после 1920 г. она ни разу не опускалась ниже 24 %, после 1936 г. – ниже 36 %, а в наши дни она составляет чуть ниже или чуть выше половины, в зависимости от того, как эти расходы подсчитывать[87]. Долгосрочные статистические ряды заслуженно подвергаются сомнению, поскольку их контекст может существенно изменяться. По аналогичным причинам международные статистические сопоставления, скажем, доли потребления общественного сектора и трансфертов в ВНП должны применяться с определенными оговорками. Тем не менее в тех случаях, когда относительные цифры показывают резкие перепады во времени или между странами, можно прийти по крайней мере к предварительному выводу о том, что государство в Англии за последние полтора века выросло в несколько раз или что среди крупных промышленно развитых стран ни одно правительство не оставляет такую большую долю ВНП для частного использования, как японское. Здесь, вероятно, уместно снова вспомнить об отсутствии управленческого рвения у Уолпола и связать это с тем фактом, что в его правительстве было всего 17 000 сотрудников, четыре пятых которых занимались сбором доходов[88]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 1. С. 391, 393.
2
По словам одного из основателей этой школы, экономика благосостояния посвящена провалам рынка, а теория общественного выбора – провалам государства (James M. Buchanan, The Limits of Liberty, 1975, ch. 10 [Бьюкенен Дж. М. Сочинения // М.: Таурус Альфа, 1997. С. 426–427]). Отметим, однако, что некоторые сторонники теории общественного выбора принимают иную линию, о чем говорится ниже в главе 4, прим. 38.
3
Не следует (лат). Термин, обозначающий логическую ошибку, когда вывод умозаключения не следует из его посылок. – Прим. науч. ред.
4
Термин «политический гедонист» был сформулирован великим Лео Штраусом для обозначения подданного Левиафана, обладающего собственной волей.
5
Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 1. С. 390.
6
Тупик (франц.). – Прим. перев.
7
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 4. С. 446. – Прим. науч. ред.
8
Robert L. Carneiro, “A Theory of the Origin of the State”, in J. D. Jennings and E. A. Hoebel (eds), Readings in Anthropology, 3rd edn, 1970.
9
Во многих современных переводах англоязычный термин present value, следуя советской марксистской традиции, переводится как «текущая стоимость». Этот перевод неточен и может вводить в заблуждение. В настоящем издании слово value в большинстве случаев переводится как «ценность». – Прим. науч. ред.
10
До события (лат.). – Прим. науч. ред.
11
После события (лат.). – Прим. науч. ред.
12
В более сжатом виде та же самая мысль содержится в прекрасной книге Майкла Тейлора «Анархия и кооперация» (Michael Taylor. Anarchy and Cooperation, 1976, p. 130): «…если предпочтения изменяются в результате наличия самого государства, тогда неясно даже, что означает желательность государства». См. также в работе Брайана Барри «Либеральная теория справедливости» (Brian Barry, The Liberal Theory of Justice, 1973, p. 123–124) близкие рассуждения о том, что, поскольку в результате социализации люди адаптируются к окружающей среде, маловероятно, чтобы неоднородное или плюралистическое общество стало однородным и наоборот, хотя «только одному поколению придется пострадать, чтобы создать ортодоксию (как показывает отсутствие альбигойцев во Франции и евреев в Испании)».
Однако, на мой взгляд, Барри несколько однобоко использует аргумент о социализации. Нужно ли нам исключать вероятность того, что окружающая среда может порождать не только положительные, но и отрицательные предпочтения по отношению к самой себе? Имеется достаточно примеров, свидетельствующих о яростном отвращении к тоталитаризму и о стремлении к разнообразию со стороны некоторой неизвестной, но, вероятно, немалой части населения социалистических стран, принадлежащего ко второму социалистическому поколению, и даже среди населения Советской России, принадлежащего к третьему поколению. На плюралистическом Западе одновременно существует стремление к большему единству целей, к моралистическим установкам, неприязнь к массовости, к тому, что Даниел Белл называет «порно-поп-культурой» и «психоделическим базаром».
Возможно, все это говорит только о том, что в любом обществе есть скрытые коррозийные элементы (хотя лишь в некоторых обществах правители подавляют их). В то же время если признать, что социальные состояния могут порождать положительные и отрицательные предпочтения, то обобщение аргумента об «эндогенных предпочтениях» оказывается далеко не тривиальным. В противном случае эндогенное формирование предпочтений будет постоянно закреплять любой статус-кво и исторические изменения станут еще более загадочными, необъяснимыми и произвольными, чем они есть на самом деле.
13
В литературе, которая расцвела вокруг «Теории справедливости» Джона Ролза (John Rawls, Theory of Justice (1972) [русск. пер.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. Здесь и далее ссылки даются, как правило, на это издание. – Науч. ред.], по-видимому, не возникло никаких возражений против «исходного положения» на этом основании. Участники исходного положения лишены всех знаний о своей личности. Они не знают, являются ли они представителями англосаксонских мужчин или индейских женщин, штатных университетских философов или получателей пособий. Они даже не знают, в каком веке они живут (хотя это трудно согласовать с их знанием «политических вопросов и принципов экономики»). Они вынуждены искать «кооперативное решение» (в терминах теории игр) для своего существования – решение, которое можно упрощенно интерпретировать как соглашение по поводу общественного договора для справедливого государства.
Не достигнув согласия и покинув исходное положение, они окажутся в естественном состоянии. Такого исхода они стремятся избежать, потому что знают о себе и о государстве достаточно, чтобы предпочитать последнее естественному состоянию. Они знают свои «жизненные планы», осуществление которых зависит от обладания материальными и нематериальными «первичными благами». Им также известно, что в государстве благодаря «преимуществам социальной кооперации» им доступно больше первичных благ, чем в естественном состоянии. Т. е., говоря техническим языком, участники знают, что, торгуясь по поводу общественного договора (который является справедливым в том и только в том смысле, что все стремятся выполнять его условия), они играют в «игру с положительной суммой». Это означает, что если кооперативное решение найдено, то можно будет распределить больше первичных благ, чем в противном случае.
Однако сравнение двух наборов первичных благ требует применения индексов, а веса, принятые для вычисления индекса (например, относительная ценность свободного времени по сравнению с реальным доходом), не могут не отражать логически предшествующие предпочтения относительно типа общества. Другими словами, люди в исходном положении не могут сказать, что набор первичных благ, доступный в естественном состоянии (и содержащий, например, много досуга), меньше, чем набор, доступный в государстве (и содержащий, например, много материальных потребительских благ), если только они не знают заранее, что предпочитают жить в гражданском обществе. Сопоставление набора благ в естественном состоянии и набора благ в государстве предполагает наличие тех самых предпочтений, которые используются при таком сопоставлении и которые требуется объяснить.
Набор первичных благ в естественном состоянии содержит больше тех вещей, к которым люди, живущие в этом состоянии, привыкли и которые научились ценить. Для них этот набор больше. Обратное верно для набора, доступного в условиях социальной кооперации. Этот набор больше для людей, которые научились любить то, что он содержит, и не обращать внимания на его ограничения. Но могут ли люди в исходном положении сказать, какой из наборов больше?
14
Pierre Clastres, La société contre l’état, 1974; англ. пер.: Society against the State, 1977.
15
Ibid, ch. 11.
16
Локк Дж. Два трактата о правлении. II, 27. Здесь и далее ссылки русский перевод дается по изданию: Локк Дж. Соч. В 3-х т. Т. 3. М.: Мысль, 1988.
17
John Plamenatz, Man and Society, 1963, vol. II, pp. 280–281. См. также его Marxism and Russian Communism, 1954, ch. 2.
18
Ср.: C. B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism, 1962, p. 49, где высказывается точка зрения, согласно которой рынка земли не может быть при отсутствии безусловного права собственности. Тот же аргумент действует и для любых других «средств производства», включая труд. (Для Макферсона, как и для Маркса, разложение началось тогда, когда за индивидом было признано право владеть своим трудом и он начинал продавать труд, а не его продукты.) В России владение землей по службе означало, что крепостные («души») до 1747 г. не могли быть проданы без земли, потому что они были необходимы для поддержания способности лендлорда служить государству. [Автор здесь допускает неточность. Сама по себе продажа крестьян без земли практиковалась уже с конца XVII в., но указ 1747 г. существенно расширил эту практику, допустив продажу дворовых людей и крестьян для отдачи в рекруты. – Науч. ред.] Возможность передавать «души» от одного хозяина другому (прежде рассматриваемая как функция лендлорда, осуществляемая от имени настоящего владельца – государства) была симптомом социального прогресса, знаком того, что частная собственность в России укоренялась. Читателю следует иметь в виду, что российская знать не имела титула на свои земли до 1785 г. и что наделение землей по службе было весьма ненадежным. Ввиду молодости частной собственности как социального института прогресс капитализма в России в преддверии 1917 г. был наиболее значительным.
19
Gewerbefreiheit, свобода заниматься конкретным ремеслом или промыслом, была введена в Австро-Венгрии в 1859 г., а в различных германских государствах – в начале 1860-х. До этого сапожнику требовалось государственное разрешение на то, чтобы чинить обувь, а торговцу тканями – на то, чтобы продавать свои товары. Разрешение выдавалось или не выдавалось по усмотрению государства, якобы на основании опыта и хорошего положения в обществе, а на деле – в качестве средства регулировать конкуренцию. В любом случае из-за необходимости получать разрешение осуществить передачу нематериальных активов бизнеса было непросто.
20
Не следует путать несправедливость и мошенничество. Несправедливый человек, если сможет, наймет вас на такую заработную плату, за которую невозможно работать. (Что в точности это означает – большой вопрос. Поскольку меня не волнуют сущностные вопросы справедливости, я, к счастью, могу это пропустить.) Мошенник же не заплатит вам обещанной суммы. Капиталистическое государство, конечно, должно преследовать мошенничество.
21
При отсутствии доказательств в пользу противного (лат.). – Прим. науч. ред.
22
Ответ, соответствующий капиталистической идеологии, очертания которой я пытаюсь набросать, будет выглядеть так: «Да, человеку должна быть предоставлена свобода продать себя в рабство; никто не может более компетентно судить о причинах, побудивших его к этому, чем он сам». Тем не менее долг государства – отказать институту рабства в юридической защите и приложить усилия к тому, чтобы оно было исключено из возможностей, доступных в условиях свободы контрактов. Контракты, по которым работорговцы продавали захваченных африканцев рабовладельцам, очевидным образом нарушают права африканцев. Если выросшие на плантациях рабы в третьем поколении по причинам, которые всегда будут сомнительными, но все же их причинами, не стремятся к свободе, надо подумать еще раз. Заметим, что британское правительство сначала запретило торговлю рабами, но не запретило рабства. Государство просто должно гарантировать, что, если раб захочет уйти с плантации, ему не должны мешать, т. е. оно не должно обеспечивать исполнение контракта, по которому раб принадлежит плантатору. Это явно не аболиционистская позиция. Неясно, стала бы она приемлемым компромиссом для Калхуна и Даниела Вебстера.
23
Тем более (лат.). – Прим. науч. ред.
24
Это предполагает, что данная договоренность требует единогласия. Если это не так и данная договоренность продолжает приносить выгоды после ухода участника, которому не удалось добиться своего при торге, возникает хорошо известная проблема «безбилетника», которая может дестабилизировать систему. Если не сотрудничающий участник выигрывает наряду с сотрудничающими, для последних возникает стимул выйти. По мере того как очередной сотрудничающий участник превращается в «безбилетника», все меньшее количество первых обеспечивает все большее количество последних, и стимулы уйти продолжают возрастать. Для того чтобы воспрепятствовать такому исходу и придать системе некоторую стабильность, существуют различные приемы; некоторые из них применимы в одних ситуациях, а некоторые – в других (см. ниже, с. 305–307).
25
Читатель заметит, что, пока государства одного типа будут заинтересованы действовать так, как указано выше, государства других типов могут решить поступать в точности наоборот, чтобы их подданные апеллировали к ним как можно чаще; возможно, это будет вполне соответствовать интересам и неосознанному желанию представителей юридической профессии. Законы порождают юристов, а те, в свою очередь, порождают законы.
26
Капиталистический кодекс (франц.). – Прим. науч. ред.
27
См.: Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М.: Московский философский фонд, 1997. С. 165. – Прим. науч. ред.
28
Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 8. С. 206.
29
Высокомерие, надменность (франц.). – Прим. перев.
30
Фактический (лат.). – Прим. перев.
31
Локк, стремившийся опровергнуть Гоббса и предложить более удобоваримую доктрину, понимал, что если естественное право людей должно оставаться нерушимым (т. е. если государство не имеет права посягать на собственность, которая, в свою очередь, совпадает со свободой), то суверенитет не может быть абсолютным. Он должен быть ограничен сохранением естественного права (Локк Дж. Два трактата о правлении. II, 135). Подчинение исполнительной власти сильному законодателю должно обеспечить это ограничение.
Возникают два возражения. Во-первых, если суверенитет законодателя является абсолютным, то мы возвращаемся к гоббсовской ситуации: законодатель является монархом; почему он не будет нарушать естественные права? Quis custodiet ipsos custodes? [Кто будет сторожить самих сторожей? (лат.) – Науч. ред.] Во-вторых, почему исполнительная власть обязательно решит оставаться в подчинении у законодателя?
На самом деле Локк рассуждал, исходя из исторических обстоятельств, которые представляли собой исключительную удачу: собственникам удалось свергнуть Якова II и посадить на престол Вильгельма III, т. е. законодательная власть взяла верх над исполнительной. Он явно не понимал, что, предоставляя большинству право на восстание, он не дает ему средства для успешного восстания в обстоятельствах менее удачных, чем крайне благоприятные условия Славной революции (1688). Вполне вероятно, что, пиши он в век бронированных машин, автоматического оружия и развитых телекоммуникаций, Локк вообще ушел бы от понятия права на восстание. Даже в рамках технических возможностей цивилизации своего времени он учел возможность появления государства, которое было бы способно сохранить свою власть и одновременно не было бы безразличным к собственности своих подданных.
32
Я утверждаю, что термин «дилемма заключенных» предпочтителен по сравнению с более распространенным выражением «дилемма заключенного», поскольку дилемма всегда относится к двум и более людям, а суть ее – в неизбежности взаимного предательства. Это не может быть игра одиночки.
33
Дилемма Гоббса является более естественной и менее строгой, чем дилемма, сформулированная в терминах формальной теории игр, и в большинстве случаев она должна иметь кооперативное решение. В формальной игре игрок должен просто сделать ход. Ему не разрешены паузы, уловки, осторожные полуходы, вторая половина которых зависит от столь же осторожных реакций, «нащупывания» (tâtonnement) со стороны второго игрока. В естественном состоянии игрок, даже перед полуходом, может выступать с речами, размахивать оружием, льстить и т. д. В зависимости от реакции другого игрока или, скорее, от его прочтения этой реакции он может отойти (если другой не уступает), или нанести удар (либо потому что другой собирается ударить первым, либо потому что он смотрит в другую сторону), или выслушать и обдумать предложение о выплате дани.
34
В своей замечательной книге «Анархия и кооперация» (Michael Taylor, Anarchy and Cooperation) Тейлор справедливо удивляется тому, что Гоббс не рассматривает естественное состояние применительно к государствам подобно тому, как он делает это применительно к людям. С эмпирической точки зрения этот упрек выглядит особенно весомым: естественное состояние для государств существует в реальности, а естественное состояние для людей – это теоретическое построение, или по крайней мере оно было таковым для Гоббса и его читателей, не подозревавших о том, какие открытия современные антропологи сделают в отдаленных уголках мира.
35
J-J. Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, 1755. [Русск. пер.: Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 75.]
36
Этой формулировкой я обязан Раймону Будону и Франсуа Боррико: Raymond Boudon, Francois Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, 1982, p. 477. Меня опередил Кеннет Вальц (Kenneth M. Waltz, Man, the State and War, 1965, esp. p. 168), который приписал недальновидности (близорукости) ключевую роль в возникновении проблемы. Из-за недальновидности охотника олень может выглядеть менее ценным, чем заяц, потому что он удален во времени; то, что второй охотник знает о близорукости первого, может заставить второго охотника преследовать зайца, хотя оленя из-за своей недальновидности не видит первый охотник!



