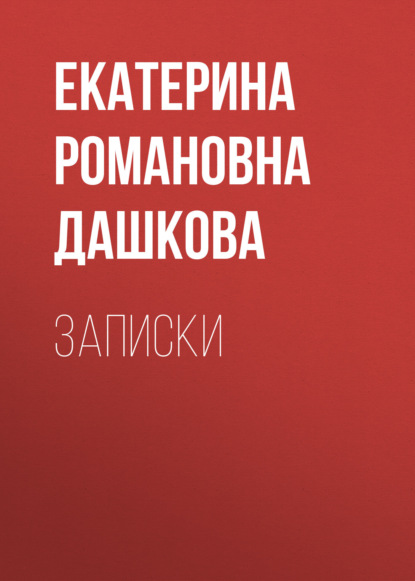 Полная версия
Полная версияЗаписки
На следующий день я отправила и Лаптева; судьба его меня также сильно тревожила. Господь избавил меня от угрызений совести, которые я непременно испытывала бы, если бы он стал жертвой своей благодарности и привязанности ко мне. Император узнал, что он проводил меня до Коротова, и сказал на это, что Лаптев, очевидно, носит панталоны, а не юбки – государь употреблял обыкновенно это выражение, когда хотел сказать, что данное лицо отличается мужеством и твердым характером. Батальон стрелков, которым командовал Лаптев, был упразднен Павлом I, так что он очутился на улице, но государь дал ему полк и вскоре пожаловал ему командорский крест Иоанна Иерусалимского.
Из Твери я написала своему двоюродному брату, князю Репнину, и попросила его узнать, в каких преступлениях меня обвиняет император; князь Репнин знал прекрасно, какие чувства руководили мною в царствование Петра III, знал, что они должны были ясно доказать государю и всем порядочным людям, что я никогда не имела в виду ни личных интересов, ни преступного возвышения моей семьи. Я сообщила князю название деревни, куда была сослана на неопределенное время, и указала нескольких искренно преданных мне академиков, которые перешлют мне его ответ; я обещала послать вскоре крестьянина к одному из них, чтобы получить из его рук письма ко мне; таким образом, и его письмо непременно попадет ко мне. Императорам приносили присягу только дворяне, мещане, военные и все люди, состоящие на службе, а крестьяне, принадлежавшие дворянам, к присяге не приводились. Не знаю, по какому капризу император Павел велел присягать и всем крестьянам. Эта новая мера, никогда еще не применявшаяся в России, оказалась пагубной. Крестьяне вообразили, что они больше не принадлежат помещикам, и некоторые деревни в различных губерниях возмутились против своих господ и отказались платить им оброк. Государю пришлось послать войска для их усмирения. В поместьях Апраксина и княгини Голицыной, рожденной Чернышевой, бунт был так упорен, что пришлось стрелять из пушек, и несколько человек пали жертвой заблуждения, в которое они были введены этой мерой. Не знаю, появлялись ли в других губерниях канцелярские писаря (самое вредное в России отродье), объезжавшие некоторые дворянские имения и внушавшие бедным невежественным крестьянам, что, если они только заявят о своем желании принадлежать прямо государю, они будут избавлены от всяких повинностей по отношению к своим господам. Двое таких писарей объехали Архангельскую губернию и северную часть Новгородской и до моего приезда побывали и в Коротове, где предложили крестьянам за умеренную плату довести об их желании до сведения императора, но те с негодованием отвергли их предложение, объявив, что они чувствуют себя счастливее крестьян, принадлежащих казне. Для усмирения бунтов в этой губернии был послан князь Репнин. Проезжая через маленькое село, лежавшее по соседству с Коротовом, он призвал к себе сельского священника и попросил его передать мне тайно письмо. Священник с клятвой обещал князю в точности исполнить его поручение, что он и сделал: однажды, глядя в окно, я увидела незнакомого священника, направлявшегося прямо к моей избе. Я вышла на крыльцо, а он, взойдя по ступенькам, передал мне письмо и, сказав только, чтобы я надеялась на милосердие Божие, исчез. Князь Репнин выражал мне сожаление, что не может ничем помочь мне, и советовал мне написать императрице и просить ее заступиться за меня перед своим супругом.
Должна сознаться, что мне тяжело было обращаться с просьбой к императрице, которая, как я думала,: не была очень благосклонно расположена ко мне. Я не спешила писать это письмо и не попросила бы разрешения переехать в Троицкое, если бы я одна страдала от жизни в крестьянской избе в шестидесятиградусные морозы, не имея возможности гулять даже с наступлением позднего и короткого лета, так как кругом были все болота и непроходимые леса; но вместе со мной страдали моя дочь, мисс Бетс и мои люди; они, пожалуй, мучились больше меня, так как переносили эти невзгоды из-за меня. Меня поддерживали сознание моей невинности, чистота совести и какая-то душевная гордость, придававшая мне силы и мужество, неожиданные для меня самой и являющиеся загадкой для меня, которую я могу разрешить только приписывая их смирению, присущему каждому благоразумному человеку.
Наше положение казалось нам еще печальнее потому, что морозы, сковавшие окружающие нас болота, делали их доступными для езды и значительно сокращали путь из Петербурга в Сибирь, вследствие чего большая часть кибиток со ссыльными проезжала мимо моих окон. Однажды, увидев у одной избы кибитку, не похожую на обыкновенную крестьянскую, я послала лакея спросить, кому она принадлежит; владелец ее в свою очередь спросил лакея, чей он, и, узнав мою фамилию, он попросил разрешения посетить меня, говоря, что состоит в родстве со мной вследствие брака его дяди с одной моей родственницей. Хотя мне в моем положении было не до гостей и не хотелось их принимать, я все-таки велела позвать его, думая, что, может быть, буду в состоянии чем-нибудь помочь ему. Чтобы завязать разговор, я спросила его, в каком родстве он состоит со мной. Он сказал мне, что двоюродный брат его покойной матери, Разварин, был женат первым браком на отдаленной родственнице моей матери. Он дрожал всем телом, говорил заикаясь, и лицо его искажалось судорогой. «Не больны ли вы?» – спросила я его. «Нет, княгиня, – ответил он, – я, вероятно, таким и останусь на всю жизнь». Затем он рассказал мне, что некоторые его товарищи, гвардии унтер-офицеры, держали предосудительные речи о государе; на них донесли, и он оказался запутанным в это дело; он был подвергнут пытке, вывихнувшей ему все члены; его товарищи были сосланы в Сибирь, а он сам был исключен со службы и получил приказание отправиться на жительство в Вологодскую губернию, в поместье своего дяди. Мне было так тяжело, что я сократила его посещение, и долго еще меня преследовал образ этого молодого человека с вывихнутыми членами и, так сказать, разорванными нервами.
Вскоре меня посетили госпожа Воронцова с дочерью. Она была вдова дальнего моего родственника. Эта почтенная женщина сочла своим долгом оказать мне внимание в благодарность за мое попечение о ее сыне. Она поручила его мне, когда ему было семь лет, и я воспитывала его до шестнадцатилетнего возраста, когда он поступил на службу с чином майора; его нравственные качества, хорошее поведение и нежное отношение к матери являлись ее утешением в жизни. Она поселилась в соседней избе и провела со мной целую неделю.
Мы предусмотрительно захватили с собой из Троицкого книг и карандашей, которыми рисовали на белом столе разные виды и картинки; каждые три дня стол мыли, и он опять служил для той же цели – бумагой мы должны были дорожить; кроме того, нас развлекал своими забавными выходками маленький казачок, и время шло мирно и тихо в безропотной покорности воле Божией. Мое спокойствие внушало и моим спутницам мужество и терпение.
Я узнала, что в конце апреля при таянии льда и снегов река разливалась почти на две версты кругом и что за неимением плотов и паромов ее переезжали только в маленьких лодочках; мы приехали в зимних кибитках, и я знала, что мне невозможно было достать летние экипажи, поэтому я решила написать императрице и просить ее повергнуть перед своим супругом мою просьбу о разрешении мне вернуться в Троицкое, откуда я обязывалась не выезжать, но где у нас под рукой будет медицинская помощь и где мы будем жить в моем доме, не подвергаясь неудобствам и невзгодам пребывания в простых крестьянских избах. Я вложила в пакет незапечатанное письмо на имя государя; могу сказать, что оно было очень гордое и не заключало в себе униженных просьб. Я писала, что состояние моего здоровья было таково, что мне не стоило писать настоящего письма, а его величеству его читать, так как мне было совершенно безразлично, где и как я умру; но что мои религиозные принципы и чувство сострадания не позволяли мне равнодушно смотреть на мучения людей, разделявших со мною ссылку, ничем не заслуженную, как говорила мне моя совесть; я добавила, что никогда при жизни императрицы-матери я не питала к нему враждебных чувств, и в заключение просила его разрешить мне переехать в мое калужское имение[233], где мои сожительницы и мои люди будут лучше помещены и в случае болезни будут иметь возможность пользоваться уходом врача. Я послала письмо по почте, и надо признаться, мы с нетерпением ожидали результатов. Впоследствии я узнала от лица, находившегося в то время в Петербурге и имевшего свободный доступ во внутренние покои их величеств, что мое послание, чуть не привело к самым ужасным для нас последствиям; но Провидению было угодно спасти меня и на этот раз. Благодаря изменчивости настроений Павла I и какой-то задержке во время путешествия курьера, который должен был нанести, может быть, последний удар еле живой женщине, боровшейся с жестокой судьбой, бедствие было отвращено от нас, и мы получили утешение и облегчение нашего положения.
Когда императрица, получив мое письмо, передала государю послание, адресованное ему, он пришел в ярость, прогнал ее, заявив, что не желает быть свергнутым с престола подобно своему отцу, и не пожелал принять моего письма.
Императрица[234] сообщила госпоже Нелидовой о своей неудаче; тогда та отдала письмо младшему сыну государя, великому князю Михаилу[235], и вместе с государыней повела его к Павлу; смягчившись, он взял письмо и, прочтя его, поцеловал сына и сказал им: «Вы так умеете взяться за дело, что против вас нельзя устоять».
Они ласково и нежно благодарили его, а он написал мне следующее письмо:
«Княгиня Екатерина Романовна. Согласно вашему желанию, вам разрешается вернуться в ваше имение в Калужской губернии.
В прочем пребываю к вам благосклонный Павел».
Затем он позвал петербургского военного губернатора Архарова и повелел ему поскорей отправить ко мне нарочного с письмом и вернуть курьера, уже посланного раньше и получившего приказание отнять у меня бумагу и чернила, поселиться в моей избе и строго следить за тем, чтобы я не вступала в сношения с внешним миром.
Архаров[236], по злобе ли или неумышленно, выбрал для исполнения этого спешного поручения курьера, только что вернувшегося из Сибири, куда он отвозил в ссылку какого-то несчастного гвардии офицера. Проехав взад и вперед четыре тысячи верст без отдыха, он вряд ли мог догнать курьера, уехавшего за несколько часов до него; но судьба, очевидно устав преследовать меня, устроила иначе. Второй курьер догнал первого, вернул его и сам с величайшей поспешностью поехал дальше. Я сидела у окна, когда он приехал. Увидав кибитку у крыльца, окруженную моими людьми, я вышла и узнала посланного от императора. Мисс Бетс тщетно расспрашивала его, какие он привез вести. Он отвечал, что ничего не знает и что привез мне указ от государя. Я назвалась, и он передал мне вышеприведенное письмо. Не успела я еще его распечатать, как мисс Бетс бросилась на колени передо мной, восклицая: «Дорогая княгиня, и в Сибири есть Бог! Не падайте духом!» Она дрожала всем телом и была бледна как смерть. Я ее подняла, просила успокоиться и позволить мне прочесть письмо. Когда я ей объявила, что мы получили разрешение вернуться в Троицкое, она снова бросилась к моим ногам; ее била лихорадка, она бредила, и мне с трудом удалось уговорить ее лечь в постель. Затем я приказала людям накормить курьера и дать ему вина, но он отказался от пищи и просил только дать ему уголок уснуть, так как он провел несколько бессонных ночей. Я послала к дочери сообщить ей счастливую новость; люди мои чуть с ума не сошли от радости. На следующий день я отослала курьера обратно; спросив его, сколько он получает жалованья в год, я дала ему почти вдвое больше. Тогда он в свою очередь чуть с ума не сошел от радости; одна я осталась бы совершенно покойной, если бы не болезнь мисс Бетс, тревожившая меня; она бредила и не узнавала никого, кроме меня. Я отходила от ее постели только для того, чтобы писать письма и отправить часть людей в Троицкое, дабы остаться налегке; я твердо решила не уезжать самой, пока мисс Бетс не будет в состоянии совершить путешествие. Я отправила с курьером императора также незапечатанное письмо Архарову с просьбой передать его Лепехину[237], непременному секретарю Российской Академии и профессору естественной истории в Академии наук. Так как он был мне очень предан, я рассказала ему о случившемся со мной и дала свой адрес в Троицком. Архаров имел низость задержать мое письмо. Кроме того, я отправила с крестьянином английскому негоцианту в Петербурге, Глину, письма для моих друзей в Англии. Затем я приготовила все к путешествию, дабы оно не встретило препятствий или задержек. Через неделю горячка оставила мисс Бетс, она была только очень слаба. Как только ей стало лучше, я послала за сто двадцать верст вперед моих собственных лошадей, остававшихся в Коротове, и через десять дней после приезда благодетельного курьера мы тронулись в путь.
Не хочу покинуть Коротова, не упомянув об удивительно деликатных заботах, которыми крестьяне ежедневно окружали меня. Два раза в неделю они приносили мне с базара всякую вкусную и даже редкую по сезону провизию для моего стола. За несколько дней до моего отъезда я узнала, что крестьянки приносили мне каждый день яйца, блины или пироги для того только, чтобы меня увидеть и собственными глазами убедиться, что я жива. Я несколько раз спрашивала крестьян, почему они были так привязаны ко мне, несмотря на то что они уже несколько лет перешли во владение моего сына. Они неизменно отвечали: «За время твоего управления нами мы разбогатели и сделались счастливыми, и ты воспитала и нашего батюшку-князя в таких же правилах; хотя он и повысил оброк, но он все-таки значительно меньше оброка, которые наши соседи платят своим господам». Крестьяне поставили в нескольких местах подставы, так что я в один день проехала путь, который, приезжая, совершила в два с половиной дня. Я покинула свою избу в конце марта.
Благодаря некоторым познаниям в медицине, большой чуткости, которою меня, к несчастью, одарила природа, вследствие того что я часто ухаживала за больными и на практике изучила проявления и влияние некоторых болезней на организм, мне удалось вылечить мисс Бетс с помощью усиленного ухода и немногих лекарств, бывших в моем распоряжении.
Когда мы выехали из Коротова, стояла еще настоящая зима. На девятый день нашего путешествия, когда мы подъехали к реке Протве, протекающей мимо моего сада и террасы в Троицком, снега уже не было. Берега реки зеленели, и дорога была чрезвычайно тяжела для лошадей, тащивших кибитку на полозьях то по песку, то по траве и по глине. Наконец на десятый день мы приехали в Троицкое. Прежде всего я отправилась в церковь; несмотря на ее большие размеры, она едва вмещала моих людей и крестьян, собравшихся из 16 принадлежавших мне сел и деревень, чтобы встретить меня и выразить свою радость по поводу моего возвращения; они хотели все поцеловать мою руку, но я едва держалась на ногах и просила их прийти в следующее воскресенье. Я была очень тронута их искренней радостью, но решительно не могла сделать над собой усилие; мое несчастное больное тело требовало неотложного отдыха в хорошей постели. На следующий день после моего приезда я отправила человека в Москву к брату, чтобы возвестить ему о моем возвращении в Троицкое. Я написала также моим племянницам, княгине Долгорукой и княгине Маврокордато, с просьбой сообщить мне поскорей сведения о себе, о моем сыне и других моих родственниках и друзьях. Я благодарила Бога, что никто из них не стал жертвой деспотизма. Я узнала, что в моем московском доме были расквартированы 87 солдат и один офицер. Мой управляющий догадался запечатать входы в главный дом, объявив, что, так как я поспешно уехала, не успев убрать вещи, я приказала наложить печати на все входные двери. Благодаря этому я была избавлена от расходов на содержание какого-нибудь из жалких генералов, известных под общим именем гатчинских; он, наверное, испачкал бы весь дом и испортил бы мебель. На моей даче были также расквартированы девяносто солдат и шесть унтер-офицеров; на отопление для них не хватило тех трех тысяч бревен, которые на плотах прибывали по реке из моего имения; приходилось покупать еще дрова, что в связи со многими другими расходами заставило меня продать этот дом, хотя я его очень любила, потому что он был окружен садом, который благодаря моим заботам в течение тридцати лет достиг верха совершенства; даже зимой он содержался в величайшей чистоте и порядке, дорожки были расчищены и посыпаны песком, так что я могла гулять в нем и в зимнее время. Но все это было ничто в сравнении с расходами и, главное, неприятностями, вызываемыми присутствием в моем доме подобных гостей.
Я не знала, впрочем, будет ли мне когда-нибудь разрешено жить в Москве; я и не желала поселиться в ней, в особенности с тех пор как вернулась в Троицкое; все мои искренние друзья приезжали ко мне, а я знала, что в городах, и в особенности в Москве, была установлена целая система шпионства, тем более опасная, что доносы являются вернейшим средством втереться в доверие подозрительных тиранов. Летом я принялась за свои садовые, земледельческие и строительные работы, и, ввиду того что у меня не было под рукой лиц, сведущих в этих отраслях, они отнимали у меня много времени, и я так уставала, что вечером всегда быстро засыпала, что мне было тем более необходимо, что я каждую ночь неукоснительно просыпалась в тот роковой час, в который меня разбудили, чтобы объявить мне о моей ссылке в Коротово; я редко засыпала после этого, так что принуждена была отдыхать еще час после обеда.
В дождливые дни, когда приходилось сидеть дома, я чертила планы предполагаемых построек и плантаций или коротала время за чтением книг из своей библиотеки. Мне хотелось приобрести новые иностранные книги, и, ассигновав на их покупку известную сумму ежегодно, я написала об этом моим друзьям; они ответили мне, что ввоз книг был почти совершенно запрещен, но что Россия была наводнена клеветническими памфлетами на Екатерину Вторую, которые мои друзья не решались мне присылать. Но я выписала все те, которые были в Москве, и не положу пера, пока не дополню эту книгу (которая, может быть, и не заслуживает внимания потомства, но заинтересует моих друзей) заметками, которые, надеюсь, докажут всю лживость утверждений, написанных под влиянием ненависти и зависти.
В 1798 г. мой сын был в Петербурге. Император вдруг так пристрастился к нему, что был не в духе в те дни, когда он не обедал при дворе. Государь проводил с ним вдвоем целые часы в своем кабинете, и он часто бывал у императрицы, когда у нее были только государь и Нелидова и даже их императорские высочества не допускались к ней. Как только он приехал в Петербург, он упросил великого князя Александра (нынешнего государя) попытаться испросить для меня разрешение жить в Москве и посетить мои другие поместья[238]. Его императорское высочество обещал исполнить его просьбу, но прошло более месяца, и его неоднократные обещания не осуществлялись. Мой сын говорил об этом с Николаи[239], директором Академии наук и статс-секретарем императрицы, которая очень его уважала. Однажды Николаи вошел к императрице в ту минуту, когда она говорила с фрейлиной Нелидовой о влиянии князя Дашкова на государя и выражала удивление, что он не пользуется им, чтобы добиться возвращения свободы своей матери; на это Николаи сообщил императрице, что мой сын просил заступничества великого князя и сильно тревожится, что обещания великого князя не исполняются; он сказал даже, что ее величество и госпожа Нелидова доказали бы свое великодушие, если бы употребили и свое влияние в этом деле.
Они этого определенно не обещали, но ответили, что подумают о том, что предпринять. Николаи сообщил князю Дашкову этот разговор; через несколько дней князь Алексей Куракин по поручению императора сказал сыну, что государь хочет подарить ему пять тысяч крестьян; но мой сын просил передать его величеству, что он глубоко тронут его добротой и чувствует живейшую к нему благодарность, но желает только возвращения свободы своей матери. На следующее утро князь Куракин подошел к моему сыну перед вахтпарадом и сообщил, что государь велел ему объявить мне о возвращении мне свободы и что он сам сейчас скажет это моему сыну[240]. Когда император появился на вахтпараде, мой сын хотел броситься перед ним на колени; но его величество остановил его, поцеловал, и мой сын, в порыве счастья забыв про маленький рост императора, поднял его на воздух, сжимая его в своих объятьях. Оба плакали. Это была первая и последняя чувствительная сцена, которую видела гвардия.
Благосклонное отношение Павла к моему сыну не ослабело до самого его отъезда. Он советовался с ним насчет своих военных планов и войны, которую хотел объявить. Во время совещания с ним вдвоем в кабинете он заставил его составить на бумаге план военных операций, расположение войск и под величайшим секретом решил поручить ему командование армейским корпусом, стоявшим в Киеве. Он даже дал ему несколько подписанных им бланков, с тем чтобы в случае надобности он заполнял их, не теряя времени, и повелел нашему министру в Вене, графу Разумовскому, и в Константинополе, Тамаре[241], советоваться с князем Дашковым. Он также отправил командующему нашим флотом на Черном море приказание действовать совместно с ним и по его указаниям. Мой сын поехал из Петербурга прямо в Киев, где ему надо было сделать кое-какие предварительные распоряжения и сообщить о них императору. Кто бы мог подумать, что после подобной милости он будет уволен от службы через несколько месяцев за то, что заявил князю Лопухину (генерал-прокурору Сената), что один из заключенных в киевской крепости, некто Альтести, посажен в тюрьму невинно. Его обвиняли в том, что он поселил на землях, пожалованных ему покойной императрицей, несколько солдат в качестве землепашцев; это было несправедливо, и ни одного солдата в его имениях не было, но главное его преступление заключалось в том, что в предыдущее царствование он был секретарем князя Зубова и самым близким к нему лицом, пользовавшимся его безграничным доверием, может быть иногда употребляемым и во вред. Может быть, князь Лопухин выбрал минуту, когда государь был не в духе, чтобы сообщить ему о заявлении моего сына, или же у него были к тому другие причины; он был человек двуличный, мстительный и скрытный. Но как бы то ни было, император написал князю Дашкову следующие строки:
«Так как вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются, вы сим увольняетесь в отставку».
Мой сын не хотел вручать курьеру, привезшему это странное письмо, подписанные государем бланки и другие важные бумаги. Он письмом к государю просил его прислать доверенное лицо за упомянутыми документами; когда курьер приехал за ними в Киев, князь Дашков отослал государю даже его письма и, покончив с личными делами, отправился прямо в свои тамбовские поместья.
Летом следующего года я поехала на несколько недель в свое белорусское имение. Я застала там множество злоупотреблений, совершенных поляком-управляющим в уверенности, что я буду сослана в Сибирь. Я сделала несколько выгодных для моих крестьян распоряжений и поставила во главе управления этим имением русского крестьянина из моих крепостных. На возвратном пути я прожила шесть недель у брата. У него в саду я посадила много деревьев и кустов, выкопала те, которые были посажены безвкусно, образовывая ломаную линию, и в общем мне удалось украсить его сад.
Мы проводили с братом каждый день несколько часов вдвоем, и наш разговор вращался главным образом вокруг предмета, глубоко волновавшего нас обоих, а именно несчастий, постигших нашу родину и почти каждое отдельное лицо, так как если кто-нибудь лично и не стал жертвой деспотизма Павла I, то он оплакивал родственника или друга. Не знаю, каким образом, но в голове моей вселилась мысль, что конец царствованию Павла настанет в 1801 г. Я сообщила ее брату, и на его вопрос, какие у меня были к тому данные, решительно не могла объяснить, откуда у меня взялась эта мысль, но она гвоздем засела в моей голове. Наконец в январе 1801 г. мой брат, вспомнив мое пророчество, воскликнул: «Вот год уже начался!» – «Он начался, это верно, – ответила я, – но мы еще только в январе, а мое пророчество исполнится через три месяца».
Действительно, 12 марта Провидению угодно было допустить, чтобы пресечены были дни Павла I и тем самым и общественные и частные бедствия: рост налогов с каждым днем, а с ними вместе и гонений. Сколько раз я благодарила Создателя, что я была избавлена от обязанности являться при дворе в царствование Павла! Сколько мне пришлось бы перенести горя и тревоги, так как природа отказала мне в искусстве притворяться, столь необходимом при общении с государями и еще более с их приближенными, и на лице моем ясно отражались отвращение, презрение и негодование, волновавшие мою душу. Павел был невыносим со своим прусским капральством, невыносим и в том, что придавал какое-то сверхъестественное значение своему царскому сану; он был труслив и подозрителен, постоянно воображал, что против него составляются заговоры, и все его действия являлись только вспышками, внушенными настроением минуты; к несчастью, они чаще всего были злы и жестоки. К нему приближались со страхом, соединенным с презрением. Как мало походила ежедневная жизнь его придворных на времяпрепровождение лиц, имевших счастье быть приближенными к Великой Екатерине! Не роняя своего достоинства, она была доступна всем, и в обращении с ней не было и тени раболепного страха; она своим присутствием вызывала чувство благоговейного почтения и уважения, согретого любовью и благодарностью. В частной жизни она была весела, любезна, приветлива и старалась заставить забыть свой сан. Даже если бы возможно было, чтобы его потеряли из виду хоть на одну минуту, у всех было такое ясное сознание великих качеств, которыми одарила ее природа, что представление о ней всегда связано было с чувством благоговейного уважения.



