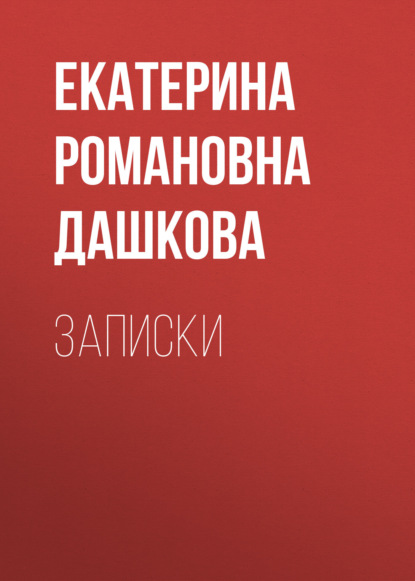 Полная версия
Полная версияЗаписки
Он предложил мне поехать на виллу Фарнезе[166]. На мое заявление, что я уже ее посетила, он мне ответил, что я вряд ли ходила в ее подвалы, где были скульптуры, которые, несмотря на свое плачевное состояние, по совершенству превосходят многие цельные экземпляры. Я велела кучеру ехать на виллу; сходя в подвал, я споткнулась и ушибла ногу о камень, который приняла за большой кусок серпантина.
– Этот камень не стоит того, чтобы об него ушибаться, – сказала я смеясь.
– Мне очень досадно, что вы ушиблись, – сказал он, – но должен вам сказать, что это самородный изумруд, привезенный из Африки Комо Великому одним из ученых, которых он послал во все страны света, дабы они принесли ему все, что они найдут замечательного; этот камень по наследству перешел к неаполитанскому королю. Вам бы следовало купить его, так как никто не знает, что это такое, и его принимают за старое стекло, за серпантин и даже за плохой шпат.
– Да зачем? – спросила я.
– Если позволите, я распилю его на два и сделаю вам такие два стола, каких нет и не будет ни у одного государя, и этим хоть отчасти воздам за то, что вы для меня сделали[167].
Я согласилась, имея в виду преподнести их императрице, и поручила ему покупку камня. Через год, по моем возвращении в Петербург, он прислал мне эти столы через Ливорно, но, несмотря на все мои настояния и просьбы, императрица из деликатности не согласилась принять столь ценный подарок.
Осмотрев все достопримечательности Рима и его окрестностей, побывав и на бегах и в театре (женские роли исполнялись мужчинами, так что представления были довольно противные), мы поехали в Неаполь по новой дороге. Мы вышли из экипажа, чтобы осмотреть порт Террачино, который недавно очистили от тины, покрывавшей его столь долгое время. В стену, сложенную из красивого камня, были вделаны на известном расстоянии друг от друга блестящие медные кольца для ошвартования судов. Нельзя было бы и заметить, что она устроена недавно, если бы она не стояла гораздо дальше от города, чем это значилось у подлинных авторов тех времен. Мне показалось, что рисунок с настоящими его размерами представлял бы большой интерес; поэтому я и попросила Байерса велеть снять план секретным образом, так как его не было даже у папы, и намеревалась послать его императрице. В Неаполе для меня был приготовлен отличный дом на набережной, с которой открывался вид на бухту и на Везувий. Там тоже оказалось много старых знакомых: наш министр и чрезвычайный посланник, граф Андрей Разумовский[168], m-me Дамер с теткой и почтенный старик Сакрамоза. Я познакомилась с английским министром Гамильтоном и его супругой (его первая жена)[169], с аббатом Галиани и еще несколькими писателями и художниками. Утром мы делали экскурсии, заканчивавшиеся обыкновенно в мастерской m-me Дамер: ее мы заставали не в будуаре, а за работой над мрамором, которому она придавала какую хотела форму, подчиняя его своим желаниям; но она была так скромна и так неохотно выставляла напоказ свои таланты и познания, что открывала это святилище только для немногих близких друзей. Однажды я привела ее в смущение, открыв произведение греческого поэта, поля которого были испещрены ее заметками.
– Как, вы читаете по-гречески и скрыли это от меня? – спросила я. – Вы, вероятно, боялись меня унизить? Но я ведь вас предупредила, что я круглая невежда.
Она покраснела и смутилась, точно ее накрыли в чем-нибудь предосудительном.
Я с большим интересом осмотрела бесценные сокровища Портичи, найденные в Геркулануме, Помпее и др. местах. Двор жил в Казерте. Их величества приняли нас милостиво. Меня представила герцогиня Феролете (по обычаю неаполитанского двора, иностранки должны были являться ко двору в сопровождении какой-нибудь знатной неаполитанской дамы). Я купила несколько картин, статуй и эстампов. Мои ежедневные поездки не утомляли меня; напротив, день казался мне слишком коротким. У Гамильтона была драгоценная коллекция древностей; из них я особенно восхищалась кольцом с астреей[170]; так как, несмотря на превосходное описание этого камня Плинием[171], его никак не удавалось найти, то решили, что его вовсе не существует в природе и что этот великий натуралист видел его во сне. Вот каким образом обращаются с истинами, которым вследствие лени или невежества не находят объяснения; конечно, гораздо удобнее и проще их вовсе отрицать,
Мой сын часто ездил с королем на охоту, а мы с дочерью проводили вечера у леди Гамильтон в обществе m-me Дамер, которая вместе с хозяйкой своим образованием, любезностью и сердечным расположением очаровывала нас. Однажды я позволила сказать их величествам, что следовало бы утроить количество рабочих, производивших раскопки в Помпее, и когда она будет совершенно очищена от пепла, поставить на места всю мебель и утварь и приставить стражу к этим сокровищам, а затем объявить по всей Европе, что за известную плату можно видеть подлинную картину обычаев, утвари, жизни обитателей старинного города, сохранившегося в неприкосновенности, вплоть до объявлений на домах; я полагала, что этим расходы вернутся сторицей, так как со всего света стекутся знатоки, любители и просто зеваки, чтобы полюбоваться картиною, так сказать, говорящею, какую не могло бы заменить ни одно описание; можно было бы видеть прямо, как люди жили; а король этим сделал бы просто нечто волшебное, вырвав из рук времени и забвения живую картину столь далекой действительности. Король, очевидно забыв, что я говорю по-итальянски, обратился к ближайшему соседу на этом языке и сказал:
– Какая умная женщина. Она, кажется, права, а все антикварии, хотя и сходят с ума по всем этим вещам, не придумали ничего подобного.
Из этих слов я заключила, что король не рассердился на меня; не ответив ничего на мои слова, он сказал:
– Есть издание в нескольких томах с гравюрами всех предметов, найденных до сих пор; я велю послать вам этот сборник.
Я искренне поблагодарила короля за этот подарок, являвшийся для меня более ценным, чем всевозможные украшения.
Моя поездка на вершину Везувия чуть не стала для меня роковой. Я уже несколько дней чувствовала себя плохо, а эта утомительная экскурсия окончательно подорвала мои силы. Я не хотела звать неаполитанских докторов, так как мое недоверие ко всем врачам вообще сказывалось еще сильнее по отношению к этим; но, склоняясь на просьбы детей и m-me Дамер, я согласилась пригласить некоего Друммонда, англичанина, который не практиковал открыто, но с большим самоотвержением и рвением лечил своих друзей и соотечественников. Он спас мне жизнь, заставив меня принять вовремя дозу касторового масла, а климат и диета вскоре восстановили мое здоровье и позволили мне возобновить свои экскурсии.
Вскоре пришло и лучшее лекарство для меня. Курьер привез мне очень утешительное письмо от императрицы, писавшей мне, что она никогда не перестанет принимать искреннее участие в моих детях и что по приезде моем в Петербург она поставит моего сына на такую ногу, что я останусь довольна; а пока она назначала его камер-юнкером с чином бригадира. Она благодарила меня за план и устав ливорнского госпиталя, и все ее письмо вообще было крайне милостиво. Я поспешила ей ответить и излить ей всю свою благодарность, умоляла ее не жаловать сыну придворного звания, так как воспитание, которое я ему дала, не выработало из него царедворца, а зачислить его в гвардию, дабы он мог посвятить себя военной службе, к которой чувствовал призвание; я закончила письмо уверением, что через год буду у ног ее величества. С этой минуты я решила не терять времени, откланялась королевской чете и вернулась в Рим.
Министр испанского короля при папе, г. Азара, преподнес мне свои произведения и сочинения Винкельмана[172]. Я с удовольствием увидела снова моего друга Байерса и кардинала Берни и дольше, чем предполагала, пользовалась их обществом, так как вскоре в Рим приехал курьер, возвестивший о скором прибытии в Рим их императорских высочеств, великого князя Павла с супругой, и мне неприлично было покинуть Рим за несколько дней до их приезда. Три дня спустя они приехали, и я представила им своих детей. Они пробыли в Риме недолго, намереваясь остановиться в нем подольше по возвращении из Неаполя. Через несколько дней после их отъезда уехала и я.
Мы остановились в Лоретто всего на тридцать шесть часов для осмотра сокровищницы и гардероба Мадонны, которую переодевали в разные туалеты чуть не каждый день. Я любовалась чудными изумрудами в колоннах на золотых цоколях, пожертвованными Мадонне каким-то испанским королем. В Болонье мы пробыли два дня с половиной, дабы осмотреть произведения мастеров болонской школы. В Ферраре мы провели также два дня, а в Венеции наш представитель, маркиз Маруцци, приготовил для нас свой дом, окружив нас роскошью и великолепием. Он был очень многим обязан покойному моему дяде, государственному канцлеру графу Воронцову, и я приписывала великолепие оказанного нам приема его благодарности и тщеславию. Он только что получил орден Св. Анны и поэтому всюду в его доме, на дверях, на воротах, на экипажах красовались либо лента, либо звезда этого ордена. Он мне доставил самое большое удовольствие, которое было в его власти (и я им пользуюсь и поныне), уступкой двух великолепных картин Каналетти[173]. Я накупила старинных эстампов первых граверов, дабы по своей коллекции проследить развитие этого искусства вплоть до настоящей степени совершенства. В венецианских церквах и монастырях, несмотря на их мрачный внешний вид, есть много великолепных картин. Я осмотрела некоторые из них, пользуясь для этих поездок гондолами; подобные прогулки были всегда весьма приятны. Не стану говорить про республиканское управление Венецией и ее достопримечательности, так как я избегала во всей своей книге пользоваться правом путешественников – рассказывать все в подробностях, не щадя читателя; не отступлю и теперь от этого правила и прямо из Венеции отправлюсь через Падую, Виченцу и Верону в Вену.
Нам пришлось ехать по Тирольским горам; любезный прием нашего посла, князя Дмитрия Голицына[174], вскоре заставил нас забыть утомление от этого путешествия. Он доставил нам всевозможные удобства и удовольствия. Вследствие своего долгого пребывания в Вене он совершенно свыкся с нею и пользовался общей любовью; своими манерами он напоминал утонченных царедворцев Людовика XIV; ограниченность ума скрадывалась большой привычкой к свету и самой изысканной любезностью. Через него мы вскоре познакомились со всем высшим обществом Вены. Император Иосиф по болезни глаз не мог выходить и не выносил сильного света, вследствие чего я думала, что мне не придется его увидеть, хотя граф Кеглович (знавший меня с детства, так как в качестве атташе своего посольства в Петербурге бывал у моего дяди почти каждый день) сказал мне, что император, с которым он проводил все вечера, очень хочет со мной познакомиться и даже выражался так по этому поводу: «Было бы невероятно и нелепо, если бы я упустил случай увидеть такое историческое лицо, как княгиню Дашкову, когда она находится в Вене одновременно со мной».
Премьер-министр, князь Кауниц[175], оставил у меня свою карточку; он этого никогда не делал ни для кого, так как был тщеславен и избалован императрицей Марией-Терезией, которая прощала ему многое, потому что понимала, что нет ему равного по уму и по глубоким познаниям в политике. Царствующий император также относился к нему с величайшим почтением, и он привык ни с кем не стесняться. Когда папа Пий VI был в Вене, князь Кауниц дал в честь его обед, но не постеснялся в тот же день отправиться к себе в увеселительный дворец для обычной верховой езды в манеже, остался там долее обыкновенного, приехал после пяти с половиной часов, заставил ждать папу[176] и явился в сапогах и с хлыстом в руке, которым и указывал своим гостям любимые картины. Я отдала ему визит, и он пригласил меня к себе обедать. Я приняла его приглашение, поставив ему условием, что если, приехав к нему, не застану его светлость, то чтобы он не прогневался, что я не буду ждать его долее четырех часов, а отправлюсь домой обедать, так как завтракаю рано и не могу сидеть без пищи столь долгое время. В назначенный день я поехала к князю в три с половиной часа; он уже ждал меня в гостиной и, кажется, был не только удивлен, но и слегка обижен на меня за то, что я назначила час для обеда, а не согласилась подчиниться его капризам.
За столом он все время говорил о России и, заговорив о Петре I, сказал, что русские ему всем обязаны, так как он создал Россию и русских.
Я отрицала это и высказала мнение, что эту репутацию создали Петру I иностранные писатели, так как он вызвал некоторых из них в Россию, и они из тщеславия величали его создателем России, считая и себя его сотрудниками в деле возрождения России. Задолго до рождения Петра I русские покорили Казанское, Астраханское и Сибирское царства. Самый воинственный народ, именующийся Золотой Ордой (вследствие того что у них было много золота, так что им было украшено даже их оружие), был побежден русскими, когда предки Петра I еще не были призваны царствовать. В монастырях хранятся великолепные картины, относящиеся еще к тому отдаленному времени. Наши историки оставили больше документов, чем вся остальная Европа, взятая вместе.
– Еще четыреста лет тому назад, – сказала я, – Батыем были разорены церкви, покрытые мозаикой.
– Разве вы не считаете ни во что, княгиня, – возразил он, – что он сблизил Россию с Европой и что ее узнали только со времени Петра Первого.
– Великая империя, князь, имеющая столь неиссякаемые источники богатства и могущества, как Россия, не нуждается в сближении с кем бы то ни было. Столь грозная масса, как Россия, правильно управляемая, притягивает к себе кого хочет. Если Россия оставалась неизвестной до того времени, о котором вы говорите, ваша светлость, это доказывает – простите меня, князь, – только невежество или легкомыслие европейских стран, игнорировавших столь могущественное государство. В доказательство того, что у меня нет предубеждения против Петра I, я искренно выскажу вам свое мнение о нем. Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом. Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все терпеть; его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный, самобытный характер наших предков. Если бы он не менял так часто законов, изданных даже им самим, он не ослабил бы власть и уважение к законам. Он подорвал основы уложения своего отца и заменил их деспотическими законами; некоторые из них он сам же отменил. Он почти всецело уничтожил свободу и привилегии дворян и крепостных; у последних он отнял право жалобы в суд на притеснения помещиков. Он ввел военное управление, самое деспотическое из всех, и, желая заслужить славу создателя, торопил постройку Петербурга весьма деспотичными средствами: тысячи рабочих погибли в этом болоте, и он разорил дворян, заставляя их поставлять крестьян на эти работы и строить себе каменные дома в Петербурге; это было ужасно тяжело. Он построил Адмиралтейство, хотя вода в Неве так мелка, что на этих верфях строят только корпуса судов, которые затем с величайшим трудом и расходами заключают в камели и перетаскивают в Кронштадт, – этого он мог и не делать, зная, что даже большие или сильно нагруженные суда не могут дойти до Петербурга. При Екатерине II город увеличился в четыре раза и украсился великолепными строениями, и все это совершилось без насилия, поборов и не вызывая неудовольствия.
Я заметила, что мои слова произвели некоторое впечатление на Кауница. Ему, очевидно, хотелось заставить меня еще говорить, так как он заметил, что монарх, работающий самолично на верфи, представляет великолепное зрелище.
– Я убеждена, что вы говорите это шутя, – возразила я, – так как сами знаете, что время монарха слишком драгоценно, чтобы тратить его на работы простого мастерового. Петр I мог привлечь к себе не только плотников и строителей, но и адмиралов. Он пренебрегал своими прямыми и важнейшими обязанностями, работая в Саардаме, чтобы стать плотником и испортить русский язык, примешивая к нему голландские окончания и термины, которыми переполнены его указы и все, относящееся до морского дела. Ему незачем было посылать дворян изучать ремесла садовника, кузнеца и т. п.; каждый дворянин с удовольствием уступил бы двух-трех своих крепостных, чтобы научить их этому делу.
Князь Кауниц переменил тему разговора, чему я была рада, так как не хотела высказывать всего, что лежало у меня на сердце касательно Петра I.
Мы посетили картинную галерею и музей императора. Граф Кеглович передал мне, что князь Кауниц после обеда сообщил императору запиской наш разговор с ним. Я ответила на это, что я вовсе не так самообольщаюсь, чтобы думать, что такой выдающийся по своему образованию министр, как князь Кауниц, найдет нужным сообщать мои слова просвещенному монарху и что я потому так горячо возразила князю, что люблю одинаково истину и свою родину. С того времени граф Кеглович каждое утро осведомлялся о распределении моего дня.
Накануне моего отъезда он настаивал на том, чтобы я его отложила, по крайней мере еще на несколько дней, так как император еще не выздоровел; я ему ответила, что путешествую не для своего удовольствия, а что наметила себе план, как мать и наставница; все мои поездки преследовали одну цель, поглощавшую меня всецело: образование и воспитание моего сына, что я в письмах к его величеству королю Прусскому еще из Италии просила его позволить моему сыну сопровождать его на маневры и, получив от него милостивое на то разрешение, не могла терять ни минуты; я объявила, что в тот же вечер осмотрю еще раз чудную императорскую коллекцию и затем буду ужинать у князя Голицына. Я просила и его приехать туда, чтобы провести вместе последние часы, так как должна была уехать с рассветом на следующий день.
После нашего обеда мы пошли в музей, куда сейчас же вслед за нами вошел император с зеленым шелковым зонтом на глазах. Его величество наговорил мне много любезностей, но так ласково, просто и сердечно, что, хотя я и сознавала, что его похвалы преувеличенны и незаслуженны, я не смутилась. Он сказал, что очень сожалеет, что не мог пользоваться моим обществом; об императрице он говорил с благоговением, украшая своими отзывами о ней те немногие часы, которые я провела в его обществе. Затем он мне предложил выбрать из его кабинета какие угодно дублеты и простился со мной, заявив, что, зная мою любовь к естественным наукам, не решается дальше отнимать у меня драгоценное время. Я выбрала кое-какие образцы минералов Венгрии и других провинций.
Мы отужинали у нашего посла и на следующий день отправились в Прагу, где остановились сколько нужно было, чтобы мой сын мог узнать подробности военного искусства в Австрии и осмотреть крепость, стоявшую на страже Богемии. Я купила здесь очень дешево коллекцию окаменелостей различных пород деревьев и образцы мрамора; затем мы поехали в Саксонию. Я пробыла несколько дней в Дрездене, где князь Сакен дал в нашу честь ряд великолепных празднеств. Мы несколько раз посетили картинную галерею; галереи графа Брюля уже не было в Дрездене; она была приобретена Екатериной Великой, которая любила и поощряла искусство и обогатила Россию сокровищами живописи и скульптуры, о которых в России до нее не имели и понятия.
Подходило время смотров и маневров в Пруссии, так что нам нельзя было дольше оставаться в Дрездене и мы поспешили в Берлин. Королевская семья встретила меня с обычной любезностью. Мы с удовольствием увидели нашего дорогого князя Долгорукого на том же посту посланника. Его дружба ко мне и моим детям была искренна; он представил моего сына министру (королевская семья его уже знала), а генерал-адъютант короля, граф Герц, представил его Фридриху Великому в Потсдаме. Его величество принял его очень милостиво и объявил, что будет рад взять его с собой на маневры.
Вскоре король приехал в Берлин на смотр сорокадвухтысячного войска, происходивший в Тиргартене.
Во время смотров король никогда не принимал дам; однако он выразил желание видеть меня и объявил, что, если мне любопытно быть на смотру, меня возьмет с собой супруга наследника и что там его величество меня и увидит. Графу Финкенштейну было повелено объяснить принцессе, где и когда король подойдет ко мне.
В день, назначенный для столь лестного для меня события, принцесса (впоследствии прусская королева) заехала за мной в гостиницу. Каково было мое удивление, когда экипаж остановился в Тиргартене и принцесса сказала мне;
– Выходите теперь, княгиня; здесь старик дядя с нами будет говорить; я сама прокачусь, так как у меня нет никакого желания видеть это старое чучело.
Выходя из экипажа, я, к моему большому удовольствию, увидела князя Долгорукого, стоявшего тут же. Через полчаса король, не отпустив еще войска, подъехал ко мне, слез с лошади и, сняв шляпу, вступил со мною в разговор, к удивлению всей армии: никогда еще король не разговаривал с женщиной во время смотра. Когда король ушел, принцесса приехала за мной. На следующий день я ужинала у королевы, которая, подобно всей королевской семье, обходилась со мной не только милостиво, но ласково и сердечно, как со старой знакомой.
Супруга принца Генриха сказала мне за ужином, что мое имя будет отмечено в истории, так как король сделал для меня исключение из общего правила. Вскоре мой сын уехал с королем на маневры.
Я с сожалением и грустью покинула Берлин, но, сев в экипаж, так спешила догнать сына, что въезжала в ворота города в ту минуту, как король выезжал из него. Он любезно раскланялся мне и сказал потом князю Долгорукому, что только такая хорошая мать, как я, может так точно рассчитать время и не потерять ни минуты, чтобы обнять сына. Я нашла его совершенно здоровым, в восторге от короля; он воздавал должное прусским войскам и офицерам, с которыми старался ближе познакомиться.
Отдохнув один день, мы отправились в Кенигсберг, где генерал Меллендорф сказал мне, что король выразился о моем сыне, как о молодом человеке, обещающем отличиться в военном деле. Впоследствии я узнала, что король писал то же самое своему посланнику в Петербурге.
Через несколько дней мы поехали через Мемель в Ригу. Губернатор Броун уговорил меня остаться два дня в столице Ливонии, где имя моего отца пользовалось глубоким уважением, так как он всегда защищал интересы ливонцев в Сенате и успешно боролся с мнением некоторых своих товарищей. Он был слишком образован и великодушен, чтобы уничтожать целый ряд привилегий, дарованных и подтвержденных нашими государями, только потому, что русское дворянство было лишено их. Екатерина Великая даровала ему эти права и тем сравняла нас с дворянством ливонским. В царствование императрицы Елизаветы ливонское дворянство приняло моего отца в свою среду.
Покинув Ригу, мы останавливались только ночевать и беспрепятственно прибыли в Петербург.
Таким образом закончилось путешествие, которое я имела мужество предпринять для образования моего сына, располагая скудными средствами, и которое довела до конца, сделав только немного долгов, которые я легко могла выплатить в несколько лет, живя уединенно в деревне, что я и намеревалась сделать.
Часть вторая
Яприехала в Петербург в 1782 г. Не имея дома в городе, я поселилась на своей даче в Кирианове, в четырех верстах от Петербурга. Моя сестра Полянская с дочерью первые посетили меня. Из всей моей родни она одна жила в Петербурге. Мой отец был генерал-губернатором во Владимире или, точнее, наместником двух губерний, так как он имел под своим начальством двух губернаторов. Через два дня после моего приезда я узнала, что князь Потемкин бывает каждый день со мной по соседству у своей племянницы, графини Скавронской, которая была больна после родов; я послала лакея сказать князю, что хочу дать ему маленькое поручение и прошу прислать ко мне одного из своих племянников, которому я и передам свою просьбу. На следующий день князь Потемкин сам приехал ко мне, в то время как я была с детьми у графа Панина. Мне было очень досадно, что он не застал меня дома. Через день он прислал мне генерала Павла Потемкина[177], я поручила ему, во-первых, попросить князя Потемкина исходатайствовать у императрицы разрешение приехать в Царское Село (куда никому нельзя было являться без особого приглашения) и представить ей своих детей, во-вторых, справиться у князя, в каком чине состоит мой сын и согласилась ли военная коллегия на назначение его адъютантом к фельдмаршалу графу Румянцеву. Генерал Павел Потемкин через два дня принес мне ответ, что Потемкин доложил о моем приезде императрице и что она повелела мне приехать в ближайшее воскресенье с детьми к обеду в Царское Село, где князь Потемкин сообщит мне все сведения о моем сыне.



