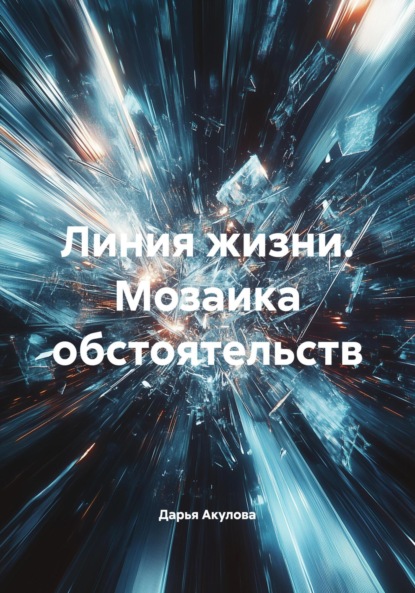
Полная версия:
Линия жизни. Мозаика обстоятельств
Важно, что именно иметь в виду под «выздоровлением». Разумеется, на момент завершения операции строго формально не было никаких оснований считать оперируемого выздоровевшим. Однако, по сути, согласись: именно тогда этот вопрос и обрёл свой ответ: либо ты сделал всё, чтобы он выздоровел. Либо нет.
Да, есть регламенты и технологии послеоперационного наблюдения и выхаживания.
Но это уже, в каком-то смысле, – дело техники. Своего рода техники безопасности.
А главное – оно именно в критический момент и в острый период решается.
Дарья Акулова:
– Чего прибавилось после операции: гордости или уверенности?
Сергей Акулов:
– Опыта. Хотя и до этой операции я был далеко не начинающим практикующим хирургом: иначе бы просто не взялся за то, за что взялся. Про подобные ситуации наш народ давным-давно высказался: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж».
Тут, Даша, есть ещё такой существенный момент: в маленьких городках хирурги, да и не только они, буквально вынуждены быть весьма универсальными. Жизнь заставляет.
Это в крупных городах – широкий простор для узкой специализации. А в провинции – как говорится, и швец, и жнец…
Интеллектуальные мускулы
Дарья Акулова:
– Возвращаясь к теме книг, которые всегда много значили и значат для нас обоих.
Была какая-либо книга, которую можно особо выделить в плане её влияния на твой выбор медицины как дела всей жизни?
Сергей Акулов:
– Книг было немало. Но первая, что приходит на память: «Записки врача» Викентия Вересаева. Предельно искренняя, полная откровенность которой, по словам самого автора, вызвала среди некоторой части читателей бурю негодования, эта книга во многом определила моё отношение и к практической медицине, и к процессу организации здравоохранения как системы, предельно важной для общества.
Дарья Акулова:
– А почему ты вообще стал читать книги про медицину?
Первая случайно на глаза попалась? Кто-то подарил или посоветовал?
Сергей Акулов:
– Книги – это уже следствие того триггера, о котором мы говорили с тобой в самом начале. На старте, во многом благодаря подобным личным проблемам, как та история с сальмонеллёзом, определяется вектор.
А уже дальше на него, как мышцы на скелет, накладывается всё остальное.
И в этом плане книги – своего рода интеллектуальные мускулы, которые прокачиваешь на пути к цели.
Дарья Акулова:
– Тогда, если не против, предлагаю обсудить ключевые моменты «Записок врача», первое издание которых вышло в Петербурге в апреле 1901-го.
Учитывая динамику минувшего века, а тем более – века нынешнего, книга может показаться достаточно архаичной и жестко привязанной к своему времени, когда и сама медицина, и отношение к ней были совсем другими, нежели сейчас.
Однако неслучайно книга выдержала множество изданий и была переведена на английский, французский и немецкий языки, а Иппей Фукуро даже перевёл её на японский: она поднимает многие вопросы, актуальные до сих пор.
И возможно, способна стать своего рода камертоном нашего с тобой разговора.
Сергей Акулов:
– Почему я должен быть против, Даша?
Мне интересно твоё мнение о болевых точках самой медицины как явления со всех точек зрения: научной, практической, этической, социальной…
Дарья Акулова:
– В предисловии к первому изданию своей книги Вересаев пишет: «Мы так боимся во всём правды, так мало сознаём ее необходимость, что стоит открыть хоть маленький её уголок, – и люди начинают чувствовать себя неловко: для чего? какая от этого польза? что скажут люди непосвященные, как поймут они преподносимую правду?».
Как ты считаешь, много общего между формулировками «горькая правда» и «горькое лекарство»?
Сергей Акулов:
– Давай начнём с Пушкина. Наверное, все слышали эти слова Александра Сергеевича: «Ах, обмануть меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад!»
Конечно, иллюзии всегда более сладки и приятны, чем реальность. Но реальность – объективно важнее. Поэтому предложенный тобой лингвистический ряд я бы продолжил так: «диагноз» и «диагностика».
Для каждого больного человека критически ценен своевременный и точный диагноз, а для каждого здорового – своевременная и точная диагностика, помогающая эффективно пресекать болезни в зародыше.
Дарья Акулова:
– Я вот тоже уже язык стёрла, говоря об этом.
Как считаешь, почему многие не слышат? Или не хотят слышать?
Сергей Акулов:
– Часто люди, к огромному сожалению, предпочитают слушать и слышать только самих себя…
Почему я с одобрением встретил твою идею сделать цикл наших с тобой бесед?
Потому что это – возможность поделиться своим практическим опытом, достаточно разносторонним и богатым, не претендуя на истину в последней инстанции.
Собственно, насколько я понимаю, именно это же двигало и Вересаевым, когда он решился написать свои «Записки врача». Как попытку максимально откровенной и местами даже беспощадной диагностики тогдашнего общества в целом и медицины в частности.
Я – за честность. Да, это может быть порой неприятно, но это необходимо.
Дарья Акулова:
– Согласен с поговоркой «Правда глаза колет»?
Сергей Акулов:
– Эта поговорка – про эмоции. А с точки зрения разума – правда глаза открывает.
Поэтому я хочу поддержать твою, Даша, историю, которую ты недавно опубликовала в телеге, как сейчас принято говорить (кстати, сама популярность именно этого обозначения современного мессенджера красноречиво свидетельствует о том, что русскоязычное общество, стремясь идти в ногу со временем, делает это, не забывая о своём прошлом).
Так вот, твоя история… Кстати, как ты её сформулировала?
Дарья Акулова:
– «Первая ценность: Честность. Честность – это не про говорить всё.
Это про быть собой… Даже когда проще было бы надеть маску».
Сергей Акулов:
– Кратко, но ёмко.
Думаю, что Викентий Вересаев, будь в его эпоху не та телега, к которой привык он, а эта, к которой привыкли мы, – написал бы в предисловии к своей книге примерно то же самое.
Дарья Акулова:
– В его предисловии к первому изданию и так много, говоря современным языком, месседжей, которые хочется процитировать.
Сергей Акулов:
– И с какого предлагаешь начать?
Дарья Акулова:
– «С самого поступления моего на медицинский факультет, и ещё больше – после выступления в практику, передо мною шаг за шагом стали подниматься вопросы, один другого сложнее и тяжелее… Но почему же тем не менее о них не говорят, почему разрешения их каждый принужден искать в одиночку?»
Сергей Акулов:
– Даша, наш с тобою формат откровенных диалогов потому и хорош, а может быть, даже полезен, что уже – не в одиночку.
Инженеры человеческих тел
Дарья Акулова:
– Развивая тему «Один в поле не воин»: на твой взгляд, каким в идеале должно быть взаимодействие врача с коллегой, когда приходится действовать в тандеме?
Сергей Акулов:
– Самый эффективный и бесконфликтный вариант – когда один врач более опытный, а второй – более молодой. Так и передаются, как правило, практические знания, навыки и умения. Согласись, Даша, это проявление вполне понятной и естественной гармонии.
В иных случаях – бывает, что каждый начинает тянуть одеяло на себя.
И это всегда плохо.
Дарья Акулова:
– А образец отношений доктора и пациента?
Сергей Акулов:
– Прежде всего, квалификация и ответственность со стороны врача, умноженные на доверие и уважение со стороны больного.
Дарья Акулова:
– Сейчас стало весьма банальным говорить о динамике нашего времени. О том, что оно убыстряется с невероятной раньше скоростью.
Вроде бы всё так. Но вот что пишет Вересаев в марте 1928-го в предисловии к двенадцатому изданию «Записок врача»: «Двадцать семь лет прошло со времени выхода в свет этой книги; в промежуток этих лет легли события, глубокою пропастью отделившие вопросы и интересы прежние от нынешних».
Мне, для которой двадцатый век – это даже еще не младшая школа, а детский сад в самом прямом смысле этих слов, сложно судить об эпохе перемен и реформ, свидетелем и активным участником которых ты стал.
А как ты воспринимаешь своего рода «американские горки», пиком которых можно считать то ли пресловутые, то ли проклятые девяностые?
Сергей Акулов:
– И «пресловутые», и «проклятые» – это больше фигура речи. И как часто случается в истории, чем дальше они уходят в прошлое – тем больше мифологии.
А для нас это была жизнь. Предельно напряженная. И предельно ответственная, если говорить уже применительно к себе лично.
Потому что таков был груз на плечах: система здравоохранения огромного города, который иногда любят называть третьим мегаполисом России.
Дарья Акулова:
– Уверена: этот период мы максимально подробно обсудим в следующих диалогах, а сейчас предлагаю вернуться к «Запискам врача» Вересаева и теме высшего медицинского образования.
В начале своей книги Викентий Вересаев замечает: «В течение семи-восьми месяцев я ревностно занимался анатомией, целиком отдавшись ей, – и на это время взгляд мой на человека как-то удивительно упростился. Я шёл по улице, следя за идущим передо мною прохожим, и он был для меня не более, как живым трупом: вот теперь у него сократился glutaeus maximus, теперь – quadriceps femoris; эта выпуклость на шее обусловлена мускулом sternocleidomastoideus; он наклонился, чтобы поднять упавшую тросточку, – это сократились musculi recti abdominis и потянули к тазу грудную клетку».
Ты сталкивался с подобным эффектом воздействия профессии, если не сказать с фактом, как иногда принято говорить в таких случаях, профессиональной деформации?
Сергей Акулов:
– Я бы не назвал это деформацией.
Да, если брать больше эмоциональную сторону в контексте темы «обмороки в анатомическом театре», то для человека со стороны формулировка «прохожий – не более чем живой труп» неизбежно несёт в себе элементы, скажем так, профессиональной специфики, которую кто-то сочтёт даже цинизмом. И подобные психологические коллизии – пожалуй, одна из главных причин появления книги Вересаева и её актуальности и неоднозначности до сих пор.
Но я бы хотел сделать акцент не на эмоциях, а на рациональности системных подходов. Мы начали нашу беседу с моего детства в рабочем районе Свердловска, где машиностроительные заводы традиционно выделялись и своим количеством, и своим качеством. И понятие «инженерная школа» было для специалистов этих заводов примерно тем же самым, что для тебя, Даша, понятие «мир медицины».
Дарья Акулова:
– «Мир медицины» – понятно. А причём здесь «инженерная школа»?
Сергей Акулов:
– Школа всегда причём. Но ты меня, Даша, не дослушала.
Есть известное выражение о советских писателях: «инженеры человеческих душ». Часто оно приписывается Сталину, поскольку он 26 октября 1932-го произнес это определение на встрече с литераторами в доме у Максима Горького. Но как иногда уточнял сам тогдашний лидер страны, он лишь повторил понравившееся ему высказывание известного советского писателя Юрия Карловича Олеши.
Так вот: есть «инженеры человеческих душ». А есть «инженеры человеческих тел».
И если первое – скорее, образ. То второе – по сути, констатация реального положения дел. Потому что без знания, как всё в организме устроено, эффективно помочь этому организму, согласись, просто невозможно.
Дарья Акулова:
– Аналогичный «инженерный подход» помогал тебе потом и в совершенствовании системы здравоохранения Свердловска – Екатеринбурга?
Сергей Акулов:
– Системный подход – универсален.
И операционная бригада, и бригада скорой помощи, и каждое конкретное отделение поликлиники или больницы, и сами больницы с поликлиниками как единые медицинские учреждения, и система здравоохранения города в целом – это всегда единый организм.
И чем лучше он слажен и согласован – тем лучше результат.
Дарья Акулова:
– Всегда?
Сергей Акулов:
– Всегда. Чтобы добиться максимальной эффективности процесса и максимальной ценности результата, необходимо буквально в совершенстве знать каждую деталь этого организма. Или, если угодно – механизма, где, образно говоря, каждый винтик и каждая гайка с шестерёнкой незаменимы: без всякого унизительного подтекста, что именно иметь в виду под винтиком или шестерёнкой.
Сегодня мы достаточно много внимания уделяем книге Вересаева, но если расширить тему литературы, которая оказала на меня влияние в части решения выбрать профессию медика, то совершенно естественно и логично будет вспомнить Антона Павловича Чехова.
Его «Записки врача» мы сегодня обсуждать не будем, чтобы, как говорится, не растекаться мыслью по древу. Но раз уж речь зашла о «винтиках, гайках и шестерёнках», то хотелось бы упомянуть рассказ Чехова «Злоумышленник».
Дарья Акулова:
– А с чего вдруг злоумышленник-то?
Сергей Акулов:
– Классика достойна того, чтобы её процитировать: «Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам».
И чуть дальше: «Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведёт это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!»
Так что нет мелочей: ни на железной дороге, не тем более в заботе о живых людях.
Детали добра и зла
Дарья Акулова:
– Были на твоей памяти ситуации в медицинской практике, когда, казалось бы, незначительные мелочи приводили к значительным последствиям?
Сергей Акулов:
– Во всей мировой истории таких ситуаций, когда из мельчайшего недоразумения вырастает огромнейшая беда – вагон и маленькая тележка, если продолжить образный ряд чеховского рассказа.
Именно поэтому известная идиома «Дьявол кроется в деталях» столь широко представлена в самых разных языках:
На венгерском: Az ördög a részletekben rejlik.
На испанском: El diablo está en los detalles.
На итальянском: Il diavolo sta nei dettagli.
На немецком: Der Teufel steckt im Detail.
На чешском: Ďábel je skryt v detailu.
На шведском: Djävulen sitter i detaljerna.
Дарья Акулова:
– Ты про болгарский забыл: Малките камъчета преобръщат колата…
Сергей Акулов:
– Даша, я не полиглот: просто меня в Википедии не забанили. Как и тебя, кстати.
Дарья Акулова:
– Твоё мнение: почему столь многие столь дружно и столь часто ходят по столь просторно раскинутым граблям?
Сергей Акулов:
– От избытка самомнения, умноженного на недостаток квалификации.
От неумения адекватно понять, из чего, как и почему складывается сложная система в качестве единого явления, где нет ничего ненужного или случайного.
А правильное отношение к проблеме подразумевает другую идиому: «Бог в деталях», которая лично мне ближе в формулировке, которую приписывают Гюставу Флоберу: «Le bon Dieu est dans le détail» («добрый Бог в деталях»).
Дарья Акулова:
– С добром – понятно. А что тебя злит больше всего? Или даже бесит?
Сергей Акулов:
– В контексте упомянутой выше дилеммы глагол «бесит» вряд ли уместен в принципе: бесов из себя желательно изгонять или, по крайней мере, не давать им особо резвиться.
«Злит» – тоже слово не совсем из моего арсенала. Чего злиться-то? Хочешь бороться за добро – борись действием.
Дарья Акулова:
– И какой же глагол тогда больше всего подходит для выражения твоего недовольства?
Сергей Акулов:
– «Раздражает» – термин достаточно точный.
Со времён советской молодости меня больше всего раздражает одна беда, которая, кстати, во многом и погубила СССР.
Больше всего меня раздражает разрыв между декларациями и практикой.
Расхождение между пожеланиями и жизнью. Между планами и реализацией. Между целями и результатами.
В советской медицине это было очень отчетливо представлено. На словах: забота о человеке как хозяине страны. На деле: то того нет, то этого не достать… Это касалось и оборудования, и инвентаря, и препаратов – буквально всего.
Дарья Акулова:
– Совет «Не бесись!» понятен.
Но мне он напомнил анекдот про сову, которая снискала популярность у всего животного мира как мудрый консультант. И вот приходят к ней мыши и говорят: «Нас замучили кошки. Помоги!» Сова в ответ: «Станьте ёжиками – проблем с кошками не будет: они ваших колючек испугаются!»
Обалдевшие от радости мыши побежали домой, но на полпути вернулись уточнить: «А как именно нам стать ёжиками?». На что сова заметила, что она занимается исключительно проблемами стратегического консалтинга, поэтому просьба тактическими вопросами её принципиально не беспокоить.
Так вот: как обуздать гнев?
Сергей Акулов:
– Гнев – от непонимания и незнания предмета. И соответственно – неуверенности в себе. Из-за которой вместо позитивной рациональной реакции человек предпочитает негативную эмоциональную. И совершенно напрасно, между прочим: формулировка «Все болезни от нервов» имеет под собой объективно весомые практические основания.
Так что управлять гневом достаточно просто: не надо быть тупым.
А тебя, Даша, что раздражает?
Дарья Акулова:
– Если есть фраза, от которой у меня внутри всё сжимается, так это: «Так принято».
Кем принято? Когда принято? Кто это решил – и главное, почему я должна этому подчиняться? Если я чувствую иначе – почему я не могу сделать иначе? Почему мой выбор, моя интуиция, моя честность с собой должны проиграть перед каким-то безымянным «принято»?
Я не боюсь ошибок. Я боюсь жить по чужой логике. Если я ошибусь – это будет моя ошибка. И она научит. А если попаду в цель – то, может быть, это будет то самое решение, которое всем станет лучше. Да, неудобное, непопулярное – но настоящее.
Сергей Акулов:
– Ты не слишком категорична?
Дарья Акулова:
– Считаешь это проявлениями юношеского максимализма и молодёжного бунтарства?
Да, долгое время я думала, что всё это – про разницу поколений. Про другое воспитание, когда не делятся, потому что мужчины, а не выражают эмоции, потому что «надо держать лицо». Однако со временем я поняла: это не только про поколение.
Это про культуру. Про модель. Про стиль выживания.
Сергей Акулов:
– В смысле?
Дарья Акулова:
– В смысле, что терпеть не могу фразу «Нужно делать даже через не могу»!
Эта фраза – ещё одна из тех, которые во мне вызывают внутренний взрыв.
А кто сказал, что только через «не могу» – правильно?
Почему нельзя по-другому?
Почему нельзя – в удовольствии, в ресурсе, в честности к себе?
Я верю, что мир перестроился. Что нам не обязательно жить в героическом надрыве. Что мы можем – не выживать, а выбирать. Выбирать путь, где меньше боли. Больше смысла. И не меньше результата – а, может быть, даже больше.
Сергей Акулов:
– Каждый имеет полное право быть самим собой: это естественно и логично.
А значит – правильно.
Дарья Акулова:
– Вы с бабушкой меняли систему. Спасали. Создавая, сделали для здравоохранения больше, чем делают десятки с «правильными лицами» и статусами.
Но я – другая. И я хочу не повторять, а продолжать. По-своему. Со своей скоростью. Своей чувствительностью. Своей жёсткостью. Своей правдой.
Неслучайно однажды я сказала в школе: «Буду начальником» … И сейчас понимаю: не для того, чтобы командовать. А чтобы иметь право делать по-другому.
Сергей Акулов:
– Вот слушаю тебя и вспоминаю твоё интервью «Любовь к медицине передаётся генетически», опубликованное в журнале «Медицина и здоровье» в 2014 году, когда ты училась на втором курсе медицинского университета. Про то, как уже в три года твердила: «Стану хирургом, как мой дедушка!».
Дедушка пытался было отговорить малышку, напирая на сложность эмоциональную и сложность физическую: «Вот попробуй, Даша, постой на одном месте несколько часов, как будто ты уже доктор на операции. Отойти нельзя. Ведь от каждого твоего движения зависит жизнь твоего пациента. Сможешь?»
А Даша в ответ: «Спортом буду заниматься! Стану сильной!! И смогу стоять столько, сколько нужно!!!»
Первый семейный доктор
Дарья Акулова:
– Возможно, вопрос несколько риторический. Но всё же спрошу: как родители и старший брат отнеслись к твоему поступлению в мединститут?
Сергей Акулов:
– Поддержали. Обрадовались. А как же иначе?
Продолжая тему «Записок врача» Викентия Вересаева, можно процитировать ещё один фрагмент этой книги: «Реальный, живой человек все время, так сказать, заполняет собою всё поле врачебной науки. Он является главнейшим учебным материалом для студента и начинающего врача, он служит непосредственным предметом изучения и опытов врача-исследователя; конечное, практическое применение нашей науки опять-таки сплетается с массою самых разнообразных интересов того же живого человека. Словом, от человека медицина исходит, через него идёт и к нему же приходит».
В этом смысле медицина – центральная наука и для каждого отдельного человека, и для человечества в целом. Так что и родители, и старший брат с пониманием и одобрением отнеслись к логике моего выбора.
Дарья Акулова:
– «Белой вороной», променявшей инженерную династию на белый халат, не сочли?
Сергей Акулов:
– Удивились, конечно. Особенно поначалу: слишком уж непривычным казался сделанный мною шаг. Но когда первое изумление прошло, искренне обрадовались: наконец-то в семье будет свой родной настоящий медик!
В этом плане их реакция очень сильно отличалась от мнения некоторых…
Дарья Акулова:
– Вот сразу поняла, на кого намекаешь…
Опять хочешь вспомнить мою публикацию в журнале «Медицина и здоровье» в 2014 году, когда на втором курсе училась?
Сергей Акулов:
– Почему бы не вспомнить? Очаровательный текст: прямо-таки с удивительной трогательностью зафиксировал ключевые моменты, как вчерашний ребёнок превращается во взрослого, во многом оставаясь тем же, а во многом – становясь другим.
Мне, Даша, особенно вот этот фрагмент твоего повествования понравился:
«В детстве я рассуждала так: расти в семье, где все взрослые – врачи, непросто. Стоит немного заболеть, и тебя начинают лечить все вместе и всем, чем можно. А не заболеешь, так всё равно найдут для лечения повод. Упаду, например, с велосипеда, коленку разобью. Что здесь страшного? Все дети бьются. Зеленка и перекись водорода маме-папе в помощь идёт: обработали и порадовались, что ребёнок малой кровью отделался. Но у нас понятия «малая кровь» не было. Зато было понятие «травма». А это означало компрессы, специальные мази и прочие средства первой помощи. Всё это порядком выводило из себя».



