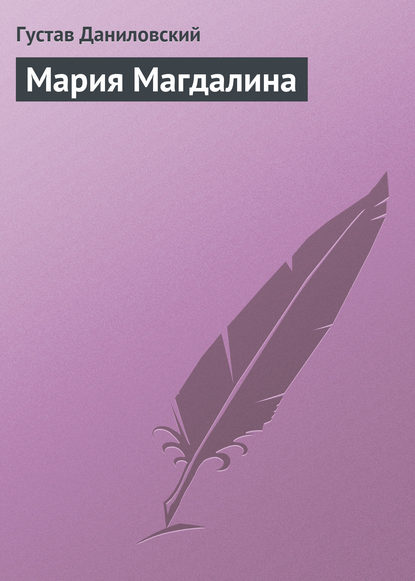 Полная версия
Полная версияМария Магдалина
– Теперь не время падать в обморок, надо спасать его, – сурово бросил он ей.
Эти слова вернули Марии уходящие силы.
– Как же вы могли допустить до этого, ведь вас было двенадцать? Я отниму его, где он?.. Идем.
И, выпрямившись, большими мужскими шагами Мария направилась вниз.
Рядом с ней зашагал Иуда, размахивая длинными руками и покачивая курчавой головой. Он старался объяснить ей, что она должна делать за Вифлеемскими воротами, и в то же время рассказывал ей подробности ареста, обвиняя Иисуса, что он сам во всем виноват.
– Где он? – отвечала на все Мария.
– В доме Анны, – ответил ей Иуда, но ошибался. Иисуса после первого допроса отвели уже к первосвященнику, который немедленно велел созвать синедрион в особом здании, находившемся в южной стороне храма.
И именно в тот момент, когда стража вела Иисуса в синедрион, на площади появилась Мария.
– Учитель! – бросилась она к Иисусу, но шествие уже вошло в ворота. Не успела Мария добежать, как тяжелые ворота захлопнулись со страшным гулом прямо перед ней. Мария свалилась на землю и некоторое время пролежала без памяти, потом очнулась и села, беспомощно заломив руки.
Потрясенный неожиданной встречей, Иуда тоже на миг потерял голову, Пойдем, здесь ничего не высидишь, надо поднять толпу.
– Он там, он там… – стонала Мария.
– Женщина, ты губишь учителя! – негодовал Иуда, наконец, озлился, плюнул и пошел.
Ноги его подгибались, он шатался, и такое страшное утомление охватило его, что Иуда впервые почувствовал отвращение к жизни и что-то вроде жажды вечного покоя.
Заседания синедриона происходили обычно в комнате, построенной из тесаных шестиугольных камней, находившейся между сенями и храмом. Один ход соединял ее с храмом, другой – со двором, обращенным к городу, что должно было символически означать, что синедрион есть посредник между народом и Предвечным. Самый суд состоял из двадцати трех членов, избранных из среды синедриона. Для оправдания подсудимого достаточно было простого большинства голосов, за осуждение должно было голосовать не менее тринадцати.
Голосование начиналось всегда с самого младшего по летам и значению из судей, дабы на решение голосующих не влиял авторитет более старших.
Внезапность собрания, ночная пора и важность самого дела произвели на членов судилища, утомленных ежедневным рассматриванием мелких столкновений, сильное впечатление. Занимая спешно места в слабо освещенной зале, собравшиеся невольно переговаривались шепотом.
Шепот затих и настала тишина, когда на возвышении, как председатель, появился сам первосвященник Каиафа.
– Предвечный с вами, – торжественно приветствовал он суд.
– Да благословит тебя Предвечный.
– Все собрались?
– Все.
Каиафа сел и, возложив руки на священные книги, начал:
– Уважаемые члены синедриона. Сегодня вечером в Гефсиманском саду схвачен Иисус из Назарета, сын Марии и плотника Иосифа, муж тридцати двух лет, который называет себя пророком, а на самом деле является обманщиком. Он соблазняет народ, уговаривает толпу не соблюдать закон и сам постоянно нарушает Моисееве соглашение между Предвечным и народом Израиля. Он говорит, что разрушит наш храм, а себе построит другой. Называет себя Мессией. Он богохульник – а сказано, что кто отвергнет закон Моисея, тот без всякого милосердия, если есть свидетельство двух или трех человек, должен умереть. Не двое и не трое, а целое множество народа дали свои показания. Хотите их выслушать?
– Свидетелей надо выслушать, – раздались голоса.
По знаку Каиафы вышло несколько фарисеев и буквально повторили обвинительный акт. – Как видите, дело ясно, – продолжал первосвященник, – двух мнений тут не может быть…
– Я прошу голоса, – прервал его Никодим.
– Говори.
– Я только спрашиваю: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он сделал? И имеет ли свидетельство значение, если свидетели говорят в отсутствие обвиняемого?
– Справедливое замечание, – подтвердил ригорист судебной процедуры Датан.
– Я не вижу поводов отказывать в этом желании судьям, – ответил первосвященник, смотря на Анну, а когда тот утвердительно кивнул головой, Каиафа велел привести Иисуса.
Наступило напряженное ожидание. Вскоре в сенях мелькнули белые одежды и Иисус вошел в залу. Он остановился посередине и ясными спокойными глазами оглянул присутствующих.
– Я прошу голоса! – вскочил с места Никодим. – Этот человек еще только обвиняемый, а не приговоренный, что в таком случае означают эти веревки?
– Он узник, – сурово ответил Каиафа.
– Но эта зала – суд, место справедливости, а не тюремное заключение, горячился Никодим.
– Справедливое замечание, – снова подтвердил Датан.
– Можно его развязать, раз Никодим так беспокоится об этом, – процедил Анна.
А когда Иисус уже освобожденными руками поправил рыжеватые пряди своих спутанных волос, двое рабов стали по бокам его с зажженными факелами, дабы не было никакого сомнения, что свидетели видят его. И снова были единогласно подтверждены все обвинения.
– Слышали? А теперь я спрашиваю, что такое твое учение и от кого оно исходит? – заговорил Каиафа.
– Я говорил явно, – звучным голосом ответил Иисус. – Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Они знают, что я говорил.
– Ничтожество, сын плотника, как ты смеешь так отвечать первосвященнику! вскочил, сверкая глазами, Нефталим, а в зале послышался ропот негодования.
Иисус выпрямился, обратился лицом к Нефталиму и, смотря спокойно ему в глаза, – возразил:
– Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, зачем же ты оскорбляешь меня?
В зале стало тихо. Благородное поведение Иисуса, его спокойствие, прекрасное лицо и смелый взгляд произвели впечатление.
– Я тебя спрашиваю, ты ли Иисус, сын Предвечного? – повысил голос первосвященник.
– Да, я.
– Слышали? – Каиафа в знак негодования разорвал одежды на груди и воскликнул:
– Какое вам еще нужно свидетельство, он богохульствует устами своими… Что же вы думаете?..
– Достоин смерти, – раздались голоса.
– И ты сын Божий?
– Ты сказал.
– Итак, ты сам свидетельствуешь о себе?
– Свидетельствую я сам и свидетельствует обо мне Отец Небесный, пославший меня, а в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно.
– А когда ты разрушишь храм, где сокровища твои, чтобы построить новый? насмехался Анна.
– Я думал, когда говорил это, не о святыне, построенной руками человеческими, но о святыне духа, которую я воздвигну вместо старой, и она охватит своей любовью весь мир, все народы земли, – ответил Иисус, возвысив голос.
– Заткнуть ему рот, заставить молчать! – раздались крики со всех сторон.
– Напротив, пусть выскажется окончательно, это становится интересно, успокоил всех Анна и снова стал задавать Иисусу различные вопросы.
Но Иисус молчал, понимая, что приговор ему уже вынесен, да у него с самого начала не было намерения защищаться и оправдываться. Он жалел даже и тех немногих слов, которые у него вырвались. Полуприкрыв глаза длинными ресницами, он усмехался своей обычной улыбкой с оттенком превосходства, которая так раздражала священников.
– Ты можешь уйти, – заметил, наконец, первосвященник дрожащим от сдерживаемого гнева голосом, а когда стража увела Иисуса, встал с своего места и сказал:
– Прежде чем мы приступим к голосованию, я спрашиваю, не хочет ли кто высказаться по этому делу?
Встал почтенный, седой как лунь, со слезящимися глазами, дрожащий от старости Гамалиил и заговорил плачущим голосом:
– Уважаемые старейшины, если дело этого человека есть зло, то оно само собой падет в прах, а если этот муж праведный, то снова мы будем повинны в пролитии священной крови.
– Верно, – восторженно подтвердил Никодим.
– Ты глух от старости, Гамалиил, – заметил Каиафа, – если бы ты слышал все, ты судил бы иначе.
– Я не знаю, но я повторяю, слишком много крови, драгоценной крови, проливается среди народа израильского.
Правдивые слова седовласого старца, пользующегося глубоким и заслуженным уважением, значительно смягчили настроение судей.
Эту перемену в настроении немедленно учли первосвященник и его приближенные, и первый поднялся Нефталим с пылающими глазами и подергивающимся от волнения аскетическим лицом.
– Мужи Израиля, верные слуги закона, я напомню вам слова, написанные в пятой книге Моисея:
«Если бы тебя искушал брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена из дома твоего, или друг твой, которого ты полюбил больше, чем душу свою, склоняя тебя поклониться Богу иному, какого не признавал раньше ни ты сам, ни отец твой, ты не позволяй ему, не внимай ему, не прощай ему, не покрывай его, – но убей его, дабы рука твоя была первая на нем, и потом уже рука народа твоего. И побей его камнями, ибо он хотел отвести тебя от Бога твоего, который вывел тебя из земли Египетской, из дома неволи».
А дальше говорится в законе: «Кто богохульствует, поминает всуе имя Господне – подлежит смерти. И пророк каждый, начинающий речью гордой, надменной, пророчествующий противно закону, – подлежит смерти». Он, Иисус, и есть этот надменный пророк, не друг нам, а враг, не сын, не брат, а чуждый пришелец из Галилеи, низкого рода, рожденный, как говорят, от распутства, без чести и отцовского имени.
Нефталим задохся и умолк.
– Буди благословен, Нефталим, во имя Господне, – тяжело поднялся Анна, что ты припомнил нам слова Моисея, лицом к лицу взиравшего на скрытый лик Господа сил. Я рассматриваю теперь другую сторону этого дела. Если мы оставим Иисуса в покое и все уверуют в него – и наш народ, и чужие народы, и, таким образом, все сравняются с нами, – что, спрашиваю я, останется от той и так немногой власти, которая покоится в наших руках на основании закона? Ничего, И как равные к равным придут к нам римляне и отнимут у нас наше место и наш народ. Как на последних укреплениях, мы держимся в этом храме, не в стенах его, но основываясь на духе его, а он стремится изменить именно дух его, который утверждался веками, возрастал столетиями, укреплялся традицией. Если бы даже это был праведный муж, никого не обидевший, – то все равно вред, приносимый его речами, равняется нашей гибели… Нам решительно все равно, кто хочет растерзать нас, довольно того, что растерзают. И я утверждаю, что гораздо лучше, чтобы умер один человек, нежели погиб бы целый народ. И поэтому не только закон, но простая мудрость и здравый рассудок требуют его смерти, простой арифметический расчет, из которого высокий совет, несомненно, вынесет соответствующий вывод… Я кончил.
– Весьма трудно добавить что-нибудь и ничего нельзя откинуть из слов Нефталима и заключений Анны, – заявил первосвященник. – Я приступаю к голосованию, – и он обратился к самому младшему, Медиду.
– Виновен, – тихо ответил юноша.
– Виновен, – подтвердил следующий – Элизафан.
– Виновен, – повторило подряд девять голосов.
Десятым был Никодим. Он молчал и оглянулся вокруг. Судя по ожесточенному выражению лиц, он понимал, что хотя бы даже и трусливый Иосиф из Аримафеи, а может быть, и седовласый Гамалиил и высказались против, но все-таки подавляющее большинство будет за смертный приговор; стоит ли в таком случае компрометировать себя? Но первосвященник смотрел на него так вызывающе, а Анна так насмешливо, что Никодим вспыхнул.
– Нет, – ответил он громко, шумно отодвигая свое сидение, и, тяжело ступая, покинул залу.
– Виновен, – услыхал он уже на пороге.
– Виновен, – донеслось уже из-за дверей. Преследуемый этими возгласами, он торопливо сбежал по лестнице и едва не упал, споткнувшись о чью-то фигуру, прижавшуюся к ступеньке.
– Кто тут? Это ты, Мария? Что ты тут делаешь?
– Дожидаюсь учителя…
– Напрасно дожидаешься. Учитель твой приговорен к смерти.
– Лжешь! Кто смел? – диким голосом закричала Мария.
– Верховное судилище, я как раз возвращаюсь оттуда.
– По какому праву, ты, ты… – и Мария, охватив Никодима за плечи, трясла им, как былинкой.
– Мария, – сжал ее руки Никодим, – я был один против всех. Успокойся. Приговор синедриона еще ничего не значит. У нас отнято право меча, и наш приговор должен еще утвердить Пилат, а Пилат любит делать все наперекор священникам. Когда-то я ненавидел его за это, но сегодня, если бы я мог чего-нибудь добиться, то сам бы стал уговаривать его идти против них. Может быть, у тебя есть кто-нибудь, кто сможет повлиять на него?
– Есть. Пусти меня, – она вырвалась из рук Никодима и убежала.
– Куда это ты бежишь, красавица, – схватил ее в объятия какой-то ночной волокита.
Мария ударила его изо всех сил по переносице, он отскочил и схватил ее за платье; затрещала легкая материя, а Мария побежала дальше. Испуганная, задыхаясь, она добежала до дворца Муция и стала стучать в дверной молоток.
– Кто там? – послышался голос хорошо знакомого ей привратника.
– Мария Магдалина. Господин твой дома?
– Спит.
– Разбуди его немедленно, – велела он усталым голосом и с трудом вошла в атриум.
Мрак, глубокая тишина, прохлада залы, монотонный плеск воды и белевшие во мраке прекрасные статуи подействовали на нее успокоительно.
Ей казалось, как будто бы из мраморных уст этих прекрасных статуй к ней несутся утешения.
– Милости! – говорит стройная фигура Цезаря.
– Верну тебе счастье! – нежно шепчет белоснежная Афродита.
– Да, – серьезно подтверждает бронзовая Гера.
– Заступимся, – обещает прекрасный Эндимион-Муций.
И в усталой, отяжелевшей голове Марии начинают пробуждаться обрывки воспоминаний.
Невольник внес огонь, и перед глазами ее замелькали, как и тогда, бегущие вдаль колонны, пляшущие на цветущем лугу обнаженные девушки, вспыхнули яркими красками фрески с любовными приключениями Юпитера.
Послышались торопливые шаги, и в тунике, наскоро набросив военный плащ, вошел Муций.
– Мария! – воскликнул он и остановился, смотря с изумлением на ее запыленное, измятое, разорванное внизу платье, спутанные волосы и одухотворенное страданием лицо.
– Муций! – бросилась она к нему. – Учителя арестовали священники. Хотят его убить, если позволит Пилат. Но он не может позволить. Ты пойдешь к нему и скажешь ему все, все… – повторяла Мария, рыдая.
– Какой учитель?
– Иисус, тот, который спас меня от избиения камнями, брата моего воскресил из мертвых, сердце мое, утраченное в погоне за телесными утехами, обрел и вновь оживил.
– Так, – проговорил протяжно римлянин, выпуская ее из своих объятий, и лицо его приняло суровое выражение.
– Значит, это тот, который отнял тебя у меня? Ловкий муж, нечего сказать, начал с Марфы, а кончил тобой. Целитель… и вот спустя долгие месяцы ты возвращаешься, будишь меня ночью, чтобы заявить мне, что я должен спасти своего соперника, который наслаждается с тобой.
Мария отступила несколько шагов назад, слезы ее высохли, глаза стали неподвижными, и она проговорила глухо, почти мрачно:
– Ты ошибаешься, Муций, ты обещал мне все, когда я утопала с тобой в распутстве, а он дарил меня своим сердцем, своей милостью и светом своей души за ничто. Ни одного поцелуя не получил он от меня, раз только, вот здесь, здесь… – она приподняла волосы на лбу, – коснулся… однажды только, один раз… – и губы ее жалобно задрожали, Муций молча смотрел на нее и сказал:
– Объясни мне, прошу тебя, что значит твой измятый, запыленный вид и разорванное платье.
– Я выбежала ночью, сидела на мостовой у храма, потому что он был там… Я была уверена, что стоит только заговорить ему – и его отпустят. А они осмелились осудить его. Никодим сказал мне, что они ничего не могут поделать без Пилата, что Пилат охотно сделает все назло священникам. Я обещала, чтобы ты попросил его… Поймал меня какой-то бродяга, я ударила его, разорвал мне платье. Бродяга – только платье, а ты, патриций, – рвешь мою душу… Но ты пойдешь к Пилату, скажешь ему, что если уже непременно нужна чья-нибудь жизнь, то пусть он берет мою.
– Значит, ты так любишь его, что готова жизнь за него отдать?
– Все.
– Мария, не будем создавать из пустяков трагедию; хорошо, я пойду к Пилату – и освобожу твоего учителя, но не даром. Жизнь твоя мне не нужна, но эта ночь, еще раз, последний, моя…
Мария стояла неподвижно, вся кровь, казалось, прихлынула к ее сердцу, лицо стало бледным, словно мрамор.
– Хорошо, – тихо, почти беззвучно проговорила она.
– Ну, так иди в свою комнату, я пришлю невольницу помочь тебе, приведи себя в порядок, ты совсем опустилась. Иди, иди, – торопил он, заглушая упреки совести.
Мария, как неживая, машинально прошла в свою комнату, куда вскоре явилась смуглая иберийка, сняла с нее платье, вытерла тело ароматной губкой, расчесала волосы и заколола их наподобие шлема золотыми шпильками, потом накинула на нее прозрачный голубой шелковый пеплум с глубоким вырезом и разрезными рукавами, отшлифовала ногти и привязала к ногам серебряные сандалии. Мария, словно манекен, без всяких возражений подчинялась ей и, как ребенок, позволила за руку ввести себя в атриум к Муцию, Между тем в душе римлянина поднялись сомнения. Он был глубоко убежден, что Пилат не откажет ему в его просьбе, но все-таки… и он понимал, на какой риск он идет, какое обязательство берет на себя. Да и глядя на непреодолимую, усиленную глубоким выражением страдания, почти нечеловеческую красоту Марии, он искренне взволновался.
– Иди, Мария, спи спокойно, как раньше, в прежние дни, в своей комнате, а роз мы нарвем тогда, когда я уже вернусь с благоприятною вестью.
Мария вздрогнула, словно очнувшись от тяжелого сна, и из ее голубых глаз покатились крупные слезы.
– Я никогда не забуду тебе этого и приду, еще раз приду, непременно, но теперь пусти меня. Я должна сговориться с учениками, может быть, ему что-нибудь нужно. Как я могу спать, когда он в такой опасности? Пусти меня, Муций.
– Но куда ты пойдешь в этом легком платье, да еще ночью?
– Ты дашь мне свой плащ.
– Охотно, но только слепой не поймет, что за прекрасный воин скрывается под складками этого плаща, и глупец будет, если не заденет тебя.
– Так дай мне меч, – ответила Мария, смотря на висевшее на стене оружие.
– Меч? Нет, этого я тебе не дам, – ответил Муций, подметив в ее глазах встревоживший его блеск.
– Ну, вот видишь, ты предлагал мне драгоценные Подарки, сердился, когда я не хотела принимать их от тебя, а теперь отказываешь мне в моей просьбе.
– Хорошо. Но ты поклянись мне головой своего учителя, что никогда не направишь его в свою собственную грудь, хотя бы и случилось самое худшее.
– Клянусь, – торжественно проговорила Мария.
Муций снял со стены короткий меч в кожаных ножнах, обитых гвоздиками, препоясал им Марию и, смотря на нее с восторгом, сказал весело:
– Воистину, со времени основания Рима ни один легион не имел такого дивно-прекрасного трибуна. Ты похожа на сестру Марса Беллону.
Мария печально улыбнулась и ответила:
– Дай мне легион – и учитель будет освобожден уже сегодня.
– О, мой суровый и прекрасный воин, а умеешь ли ты по крайней мере владеть мечом? – и Муций показал ей несколько приемов, а затем привел ее к выходу, говоря:
– Бей прямо в лоб и смелее, меч обоюдоострый, ну и кричи, конечно, погромче.
Он нежно поцеловал ее и смотрел долго вслед. Даже и тогда, когда она уже исчезла на повороте, Муций еще долго прислушивался, не зовет ли она на помощь.
Тихо было вокруг, город спал, погасив все огни. Протрубила четвертая стража, и слабый предутренний свет, слегка освещавший синее небо, говорил о близости рассвета.
Глава 10
Жена Понтия Пилата, Прокула, с большим интересом слушала рассказ Муция, а когда он кончил, так увлеклась романтизмом положения, что воскликнула;
– Но мы должны освободить его. Я видела раз этого равви, его внешность говорит сама за себя, в нем действительно чувствуется что-то необычайное. Я долго не могла его забыть, а сегодня он даже снился мне ночью, весь в белом, словно предчувствие у меня было.
– Прокула, – засмеялся Пилат, – а мне снились те свежие миноги, которые мы получили из Сицилии, вели приготовить их нам на завтрак.
Когда жена вышла, Пилат проговорил уже более серьезным тоном:
– Не только ради тебя, но ради самого себя, для того, чтобы унизить этот синедрион, я буду стараться выпустить этого Иисуса.
– Как стараться? Ведь решение этого дела зависит исключительно от тебя.
– Муций, ты забываешь, что я только прокуратор, а не цезарь, и должен считаться с различными обстоятельствами. Вителий относится ко мне враждебно, а этот милый избранный народец интригует против меня в Риме со всем свойственным его натуре ожесточением, не щадя ни денег, ни клевет, не пренебрегая никакими средствами. Если бы не поддержка Сеяна, карьера моя была бы давно кончена… А Сеян… Сеян прав и стремится выше, но вот это-то именно меня и беспокоит. Пусть только он споткнется, полетит окончательно, а вместе с ним слечу и я… Я уже с утра знал, что они что-то затеяли. Донесли мне с колоннад фортов Антония о необычайном оживлении на дворе храма, и каждую минуту они могут явиться, тогда ты сам сможешь полюбоваться этим всем набожным собранием. Хитры они, как лисицы, а подлы и кровожадны, как шакалы… Ты думаешь, что они войдут в преторию? Ни за что, они станут тогда нечисты и не смогут есть свою святую мацу, этот пресный блин… Ты обрати внимание, этот дворец – жилище их последнего царя, но так как тут живу я, римлянин, то для них позорно переступить мой порог. Закон не позволяет им, закон, благодаря которому я имею постоянные беспокойства, то из-за знамен, то из-за водопровода, для постройки которого я хотел взять немного денег из их храма. А денег у них много, ибо у них каждый иудей после двадцати лет должен ежегодно вносить священникам не менее двух драхм. Когда Антоний посетил их святая святых, куда не только чужие, но даже и верные не имеют доступа, то, правда, он не нашел так Предвечного, но зато нашел сокровищницу, набитую золотом. Этот единственный их бог, уверяю тебя, приносит им гораздо больше доходов, чем все наши боги, взятые вместе… У них постоянно являются так называемые пророки, которые имеют с этим Предвечным какие-то делишки по вопросам закона. А самый закон их решает и вникает в малейшие мелочи жизни. И я ручаюсь тебе, что именно на основании закона они будут добиваться смерти этого юноши.
– А разве их закон обязателен для тебя?
– Нет, Но и то до известной степени. Да и притом они придумают что-нибудь, я знаю их хорошо… Они умеют опутать человека – это пауки… Я знаю их. Кажется идут…
И действительно, издалека слышался неясный гул, который по мере приближения к дворцу, постепенно превращался в шум и крики.
Во главе огромной толпы, в парчовом одеянии и в митре на голове, важно шел первосвященник.
При виде словно выкованной из железа грозной стены тяжелой пехоты – рослых солдат с суровыми лицами, с глазами, бесстрашно устремленными вперед, толпа невольно остановилась. Но священники прошли вперед и остановились лишь перед Преторией около возвышения, построенного из каменных плит, около так называемой бемы.
– Чего вы хотите? – спросил Сервий.
– Мы хотим говорить с Понтием Пилатом, – ответил Каиафа.
– Претор во дворце.
– Закон наш воспрещает нам вступать сегодня на порог претории, – заметил Анна.
– Ах, закон, – иронически усмехнулся трибун и пошел докладывать Пилату.
– Пусть постоят немного; Анна, по-моему, слишком толст, ему будет полезно выпотеть немного на солнце. И скажи им, что если они осмелятся еще раз дергать меня за ремни сандалий и рвать за полы одежды, то я велю солдатам прогнать их, – сказал Пилат.
Заявление это была принято в гробовом молчании, только лица священников омрачились; они тревожно переглянулись и терпеливо стали ждать дальше.
А Пилат ходил по зале и ворчал:
– Видишь, – обратился он к Муцию, словно упрекая его, – у них есть дело ко мне, а я должен выйти к ним, ибо этого требует закон предписания чистоты. Обрати внимание, предписание чистоты, от которой, когда попадаешь в их грязные улички, то нос затыкать приходится. Пусть постоят на солнце.
Пилат опоясался коротким мечом, набросил тогу и взял в руки знак своего достоинства, род булавы, похожий на свиток бумаги, Между тем в толпе фарисеев стали раздаваться враждебные возгласы, направленные против прокуратора, которые вслед за ними повторяла толпа.
– Слышишь? Милая свора. Что? Стая лающих псов, но мы зато поговорим, – он поправил тогу и вышел.
Стало совершенно тихо, когда на возвышении появилась его высокая фигура. По данному знаку с обеих сторон бемы стало по несколько солдат и центурион. Пилат удобно уселся в высоком кресле и, выставив презрительно вперед ноги, обутые в роскошные сандалии, небрежно спросил:

