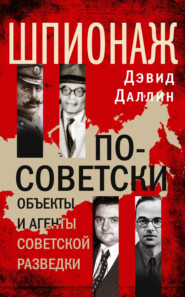скачать книгу бесплатно
Другой замечательной фигурой в этой русско-германской группе был Вильгельм Цайссер – после войны он долгое время руководил восточногерманской полицией. Работа Цайссера в качестве советского тайного агента бросала его то в Китай, то в Малую Азию, то в Испанию, а в 1945 году он вернулся на родину с советским гражданством и стал членом коммунистического правительства.
Высокий, с приятным лицом, интеллигентный и смелый, бегло говорящий на многих иностранных языках, Цайссер имел все качества, чтобы высоко подняться в коммунистической иерархии. В юные годы он был учителем в Рейнской области, потом солдатом кайзеровской армии, где дослужился до чина лейтенанта. Он обосновался в России, когда разразилась Октябрьская революция. Воодушевленный движением масс, он вступил в ряды большевиков и с тех пор так и оставался убежденным коммунистом. Он был членом «Союза Спартака» в Германии и играл ведущую роль в коммунистическом движении в Руре в 1923 году. После прохождения курса в Москве он стал авторитетом в области методов и техники гражданской войны.
В 1925 году Цайссер вступил в ряды советской разведки и был послан в Китай. В Шанхае он основал отделение «Стального шлема» (председателем которого в Германии был генерал-фельдмаршал Гинденбург), завоевал уважение и доверие дипломатов и служащих и получил возможность снабжать Москву ценной информацией. Когда генерал Ганс фон Зеект, бывший шеф германской армии, посетил Шанхай, он останавливался в доме Цайссера. Из Шанхая Цайссер поехал в Маньчжурию, а потом в Малую Азию. В конце тридцатых годов он появился в Испании под именем генерала Гомеса. Из Испании он вернулся в Россию. Даже во время пика его карьеры его окружала атмосфера отчужденности. Он избегал фамильярности в общении со своими товарищами, и многие обижались на него за высокомерие. Где бы ни появлялся Цайссер со своей поразительно красивой и элегантной женой, повсюду он привлекал всеобщее внимание.
Когда Цайссера сняли с высоких постов в Восточной Германии, коммунистическая пресса обвинила его в «социал-демократических тенденциях». По отношению к такому человеку, как Цайссер, эти утверждения просто абсурдны, единственным его «отклонением» была его независимость и чувство собственного достоинства – свойства, которые могли перерасти в «титоизм». И в самом деле, если условия в Восточной Германии позволили бы появиться германскому Тито, Цайссер был бы лучшим кандидатом на этот пост.
Другим известным членом этой выдающейся группы был Артур Илльнер (Штальман), менее привлекательный тип тайного агента, жестокий, безжалостный и эгоистичный. Плотник по профессии, он достиг высокого ранга в коммунистическом подполье, отвечал за поставки оружия, был послан для обучения в Москву, а после окончания школы был направлен в Китай. В интернациональной бригаде в Испании ходили слухи о том, что имя Илльнера как-то связано с ликвидацией некоммунистов и оппортунистов. Из Испании он вернулся в Москву, а летом 1940 года обосновался в Швеции. Оттуда Илльнер руководил небольшой разведывательной сетью в Германии в первой фазе войны. С 1945 года Штальман работал в центральном комитете СЕПГ в Восточном Берлине и ведал тайными коммуникациями (переброска людей, материалов и денег) между ГДР и Западным Берлином и ведущими организациями коммунистического толка Западной Германии. С 1951 года Штальман работал в Институте экономических исследований, где занимался главным образом разведкой.
Другим агентом советской разведки в Германии был Эрнст Вольвебер, ставший впоследствии министром государственной безопасности ГДР. Эрнст Фридрих Вольвебер, сын шахтера, в юные годы был докером. К началу своей службы в кайзеровском военном флоте девятнадцатилетний матрос уже являлся членом молодежной социалистической организации, которая, однако, казалась ему слишком умеренной, поэтому он перешел в «Союз Спартака», который был зародышем коммунистической партии. Его революционные подвиги начались в ноябре 1918 года, когда его крейсер «Гельголанд» стоял в Кильском канале. Молодой бунтарь, воодушевленный рассказами о восстаниях на русском флоте, поднял красный флаг над кораблем и возглавил революционные демонстрации в Киле, Бремене и Вильгельмсхафене.
В начале тридцатых годов Вольвебер был послан в Москву для обучения в специальной школе, где прошел хорошую подготовку к подпольной работе. В 1928 году он был избран в прусский парламент, а в 1932 году в рейхстаг. Его настоящий взлет, однако, начался уже в нацистскую эру, когда он достиг положения «самого опытного диверсанта, какого когда-либо видел мир», как говорила о нем пресса.
Много других начинавших свою деятельность в ранний период германского коммунизма впоследствии достигли высоких постов в Германской Демократической Республике. Среди них был и Эрих Мильке, который в 1931 году убил двух полицейских.
Берлинские мастерские по изготовлению фальшивых документов были уникальными во всей истории. В искусстве изготовления фальшивых паспортов, удостоверений и других документов ни шпионские штабы воюющих стран, ни дореволюционные подпольщики, проявившие большое умение в этой области, даже не приблизились к берлинскому «Пасс-аппарату». Он пережил не только несколько налетов полиции, но смог даже противостоять гестапо. Чтобы оценить масштабы его деятельности, достаточно сказать, что на руках во все времена должно было находиться до 2 тысяч паспортов, что у них был набор из 30 тысяч печатей и что персонал «Пасс-аппарата» в Германии и за рубежом в 1931–1933 годах составлял 170 человек, преимущественно мужчин.
«Пасс-аппарат» Коммунистической партии Германии был ее ровесником, его организовали в 1919–1920 годах в обстановке гражданской войны и «неминуемой» революции. Он был маленьким, примитивным и бедным. В 1921 году его разгромила полиция. После реорганизации 1923 года он быстро развивался. Несмотря на то что на него с 1924-го по 1932 год не менее четырех раз налетала полиция, за десятилетие, с 1923-го по 1933 год, он достиг беспрецедентных высот в смысле качества и количества продукции. В те времена существовала одна мастерская по изготовлению паспортов в Москве, одна – в Берлине и третья – в Соединенных Штатах. Для потока важных советских агентов, едущих на Запад, Берлин был первой остановкой. Здесь они должны были «освободиться» от советских документов, потому что полиция проявляет особое внимание к их владельцам. Их снабжают другими паспортами с вымышленными именами и новой биографией, которую они должны выучить до мельчайших деталей. На обратном пути они сдавали фальшивые паспорта и получали обратно свои, подлинные.
Такая же процедура применялась и к иностранным коммунистам, особенно если они ехали в Россию. Чтобы скрыть тот факт, что они ездили в Страну Советов, их настоящие паспорта, где последней стояла германская или чешская виза, оставались в Берлине, и они продолжали путь со сфабрикованными паспортами. Когда они возвращались из России, то получали свои паспорта, которые теперь могли служить доказательством того, что они все это время пробыли в Германии.
Душой «Пасс-аппарата» в Берлине была группа из пяти или семи преданных людей, виртуозов в своей профессии. Мастерство немецких наборщиков, механиков и печатников было гораздо выше, чем у других подобного рода профессионалов во всей разветвленной подпольной сети Коминтерна. В Москве они пользовались таким высоким уважением, что им прощали даже некоторые нарушения правил конспирации[15 - В кругах «Пасс-аппарата», например, было хорошо известно, что талантливый специалист Вальтер Тигер был любовником жены механика Рихарда Кваста и что фрау Кваст, преподавательница гимнастики, делила свою любовь между ними. Счастливую троицу часто видели вместе – это было грубейшее нарушение правил конспирации. В обычных условиях ГБ быстро бы навела порядок, но в данном случае ничего такого не произошло.]. Проще всего было бы переместить эту группу в Москву, но это означало разрушить сеть и убить курицу, которая несет золотые яйца.
В 1932 году ведущая группа германских коммунистов, насчитывающая примерно 600 человек, получила распоряжение готовиться к нелегальному положению. Всем надо было дать фальшивые паспорта и фиктивные адреса, хотя они пока продолжали жить на своих прежних местах. Во время выборов в рейхстаг в 1932 году каждый из них регистрировался дважды: один раз под своим настоящим именем, а второй – под вымышленным. Им даже приказали голосовать дважды, чтобы избежать возможных вопросов.
В 1933 году, накануне захвата Гитлером власти, в распоряжении аппарата было более 5 тысяч паспортов, среди них, в округленных цифрах, 75 шведских, 300 датских, 75 норвежских, 400 голландских, 100 бельгийских, 300 люксембургских, 400 саарских[16 - С 1919-го по 1935 год Саарская область находилась под юрисдикцией Лиги Наций.], 200 подлинных швейцарских и 700 фальшивых, 300 австрийских, 600 чешских, 100 данцигских, 1000 подлинных германских и около 500 германских паспортных форм.
«Пасс-аппарат» был формально подчинен Коммунистической партии Германии и косвенно Коминтерну.
Главой ОМС Коминтерна был Осип Пятницкий, а Миров-Абрамов, его помощник в Берлине, с 1926 года руководил также «Пасс-аппаратом». Без его согласия нельзя было сделать никаких изменений в персонале. Лео Флиг возглавлял паспортный центр от Коммунистической партии Германии с 1923-го по 1935 год. Два молодых человека, Рихард Гросскопф и Карл Вин (Тургель и Шиллинг), которые только что вышли из коммунистической молодежной лиги, в 1923 году были направлены к Флигу и работали у него около десяти лет, до конца 1932 года. В 1933 году оба были арестованы и провели двенадцать лет в концентрационном лагере.
Трудно представить весь клубок проблем, связанных с работой «Пасс-аппарата». «Хороший» фальшивый паспорт должен охранять своего владельца от всех ловушек и соответствовать его облику. В «Пасс-аппарате» говорили, что «паспорт должен быть как костюм, сшитый хорошим портным». Когда западный коммунист получал паспорт, первым вопросом было, к какой национальности его отнести. К паспортам некоторых стран относятся с большим уважением, так, например, владелец паспорта нейтральной Швейцарии мог пересекать многие европейские границы без визы. Датские и шведские документы тоже считались хорошими. Британские паспорта были бы замечательны, но их труднее подделывать. Польские и прибалтийские паспорта не пользовались успехом, потому что вызывали подозрения у полиции, которая чувствовала в них что-то русское. Германские коммунисты, которые не знали никакого языка, кроме немецкого, предпочитали паспорта Саара, где население говорит по-немецки и которые позволяли легко проникать в разные страны.
Будущий обладатель паспорта должен бегло говорить на нужном языке, потому что даже самый лучший документ может стать ловушкой, если его предъявитель не говорит на своем «родном» языке. Допустим, он говорит только по-немецки, и решено снабдить его паспортом, «выданным» в Мюнхене. Ганс Рейнерс, бывший эксперт по паспортам в Коминтерне, так описывает эту процедуру:
«Мы, конечно, имеем бланк германского паспорта и хотим заполнить его для господина Мюллера из Мюнхена. Но мы должны иметь в виду, что Мюллер в один прекрасный день может появиться в Мюнхене и его документы будут тщательно проверены полицией. Какие чернила применяются в Мюнхене для паспортов? Как зовут офицера, который подписывает паспорта? Мы даем указания нашему агенту в Мюнхене узнать это и получаем от него подпись Шмидта, шефа полиции, а это отнюдь не простая операция. Теперь надо узнать время подписания, а это новая головоломка, мы должны знать, что господин Шмидт не был в отпуске или болен, когда им был «подписан» паспорт. Кроме того, в некоторых странах полицейская печать подтверждается штампом об оплате пошлины, значит, надо подделать и этот штамп.
Штампы время от времени меняются по важным или не особенно важным причинам. Поэтому требуется громадная коллекция штампов сотен городов и поселков.
Когда эти операции закончены, работа по изготовлению паспорта только начинается, самая трудная часть еще впереди. Мюллер не может так просто появиться в обществе, снабженный только паспортом, он должен иметь документы, которые косвенно подтверждают его личность: свидетельство о рождении, записи о службе, книжка социального страхования и т. д. Это целая коллекция документов, и, чтобы она была полной, человек, выдающий ее, должен быть историком, географом и знатоком полицейских привычек.
Если свидетельство о рождении должно подтверждать, что господин Мюллер родился в Ульме в 1907 году, «Пасс-аппарат» обязан выяснить, какая форма применялась в этом городе сорок или пятьдесят лет назад, какие нотариальные термины использовались в то время, какие имена были популярны, а какие – нет. Имя Ивар звучало бы странно для города Ульма, а имя Зепп казалось бы странным в Гамбурге или Копенгагене. Главное правило заключалось в том, чтобы сделать эту личность похожей на сотню других, без особых примет, которые могли бы запомнить полицейские, попутчики или прохожие.
Наконец, возникал вопрос с печатями. Какими они были в тех местах в то время? Был ли там на гербе лев, медведь или орел? Требовалось знание геральдики, и целые тома, посвященные этому вопросу, стояли на полках.
«Пасс-аппарат» иногда изготовлял и брачные свидетельства для своих клиентов. Было нелегко вовлечь другого человека в подпольные дела, если только мужчина и женщина не предназначались для особой работы, например как хозяева магазина, гостиницы и тому подобное. Однако все они должны были иметь свидетельство о занятости, потому что первым вопросом, который задавала полиция, был вопрос о месте работы. В этом отношении было важно никогда не представлять человека как служащего или рабочего, потому что простая проверка откроет всю фальшь документов. Профессии торговца, свободного писателя или художника лучше всего подходили для подпольщика, потому что им не требуется отчитываться в своих перемещениях и поступках.
В среднем около 400 комплектов документов готовилось берлинским «Пасс-аппаратом» ежегодно с 1927-го по 1932 год, некоторые из них изготовлялись про запас, а около 250 передавались другим ведомствам. В 1933 году потребность, естественно, сильно возросла.
Когда набор документов был готов, возникала еще одна проблема. Если Ивар Мюллер будет пересекать первую границу, его паспорт не должен выглядеть новым. Если в нем будут проставлены многие визы, которые свидетельствуют о том, что путешественник проверен и перепроверен, полиция не обратит внимания на то, что ей предъявляют «свежеиспеченный» документ. Вот почему «Пасс-аппарат» проставлял многие фальшивые визы и пограничные штампы на паспорт. Маршрут должен быть хорошо продуман и соответствовать той легенде, которой снабдили нелегала».
В дополнение к поддельным паспортам аппарат должен был иметь запас подлинных документов, купленных или похищенных из полицейских структур различных стран. Прежде всего это были чистые бланки паспортов, однако они применялись с осторожностью. Выданные ранее паспорта требовали доработки: надо было удалить фотографию прежнего владельца и заменить ее другой. Приходилось также подделывать ту часть печати, которая попадала на фотографию. Подлинный паспорт, конечно, был более надежным, но чтобы изменить его, требовалось большое искусство.
Чистых бланков паспортов постоянно не хватало, их добывали разными способами. Так, жена одного коммуниста по имени Хоффман, работала уборщицей в полицейском управлении и имела возможность время от времени похищать бланки паспортов. В Базеле Макс Хабиянич, полицейский чиновник, о котором будет рассказано в пятой главе, снабжал коммунистическое подполье прекрасными швейцарскими паспортами. В одном случае большая партия паспортов была получена в Берлине из Праги. В 1932 году чешская полиция подготовила меморандум о коммунистическом подполье, и ГБ вознамерилась заполучить его, чтобы узнать, как много известно чешским властям. На полицейское управление был организован налет. Налетчики были разочарованы: они не нашли меморандум, зато им удалось захватить 1500 паспортов. Чешские документы были в большом ходу в подполье, они использовались вплоть до убийства короля Югославии Александра и французского премьер-министра Барту в октябре 1934 года, когда обнаружилось, что усташи (террористическая подпольная организация в Югославии) тоже пользуются фальшивыми чешскими документами. Полиция во всей Европе стала проявлять повышенный интерес к владельцам чешских паспортов. С французской границы «Пасс-аппарат» получил сообщение о том, что полиция начинает удивляться, почему так много чешских граждан, не знающих ни слова по-чешски, пересекают германско-французскую границу. Было решено изъять 200 чешских паспортов и заменить их другими.
В начале тридцатых годов два полицейских офицера из Саарской области, оба члены нацистского немецкого фронта, продавали паспорта коммунистам. У одного были бланки паспортов, а у другого – штампы, и они вели дело совместно. Эти два лишенных воображения нациста брали за каждый бланк со штампом около двух марок. И однажды они поставили условие: продавать паспорта партиями менее 500 штук. Чтобы удержать эту пару в деле, у них купили 1000 саарских паспортов, из которых 700 тут же уничтожили. Но как только произошло это аутодафе, тут же потребовалось 100 саарских паспортов. Снова пришлось купить 1000 паспортов, из которых 800 были сожжены.
Мастерские по изготовлению паспортов и места их хранения были разбросаны по всему Берлину. Только три или четыре руководителя знали о всей системе, а рядовым работникам был, как правило, известен один адрес.
«Пасс-аппарат» имел шесть мастерских.
Печатная мастерская имела в 1932 году 1,7 тонны наборного материала, включая шрифты особых типов, которые требовались для «старых» документов. Двое наборщиков, которые здесь работали, были серьезными, хорошо образованными людьми, надежными во всех отношениях. Главным наборщиком был коммунист Дюринг. Они отдавали все свое время «Пасс-аппарату», и им хорошо платили. Их собственные фальшивые паспорта свидетельствовали, что один из них торговец, а другой – студент технической школы.
Шумные печатные станки были установлены в подвале мастерской по изготовлению ящиков. Раз в неделю, иногда реже, когда два человека приезжали, чтобы отпечатать документы, наверху запускались на полную мощность все машины.
Третья мастерская занималась репродукцией подлинных документов и подписей. Для этих целей был установлен большой и дорогой фотоаппарат, лучший был только в торговом представительстве. Вальтер Тигер, руководивший этой мастерской, был экспертом во всех этапах подделки паспортов.
Специальная мастерская для резиновых штампов размещалась в магазине резиновых изделий, потому что горящая резина издавала сильный специфический запах. Владельцем магазина был коммунист, который не имел членского билета партии, очень осмотрительный человек, у которого в числе клиентов были и полицейские. Гравер Кениг был хозяином граверной мастерской в Нойкельне. Его престиж рос из года в год. После двенадцати лет работы в Берлине его послали в Москву в такую же мастерскую. Когда к власти пришла нацистская партия, сын Кенига оказался в тюрьме. Отец в Москве был уволен с работы по соображениям безопасности, а потом тоже арестован.
В дополнение к своим постоянным людям аппарат завербовал двух работников самого большого германского предприятия «Штемпель-Кайзер», которое изготовляло штампы для всех правительственных учреждений. Эти двое систематически изготовляли дубликаты штампов любой важности. Эта счастливая ситуация, однако, закончилась в 1932 году, когда оба агента по разным причинам отказались от сотрудничества. Был еще магазин штампов Виндуса на Германплатц, владелец которого, будучи коммунистом, оказал большую помощь «Пасс-аппарату».
Огромные запасы резиновых штампов были спрятаны в разных тайных местах, каждое из которых содержало штампы определенной страны или области[17 - Когда в 1941 году началась война против СССР, германское правительство объявило, что в подвалах советского посольства полиция обнаружила металлические печати с надписью «Консульство Республики Чили в Бреслау».].
Две особые мастерские занимались «основными документами», такими, как свидетельства о рождении и крещении, а также школьными аттестатами. Одна из них продолжала работу, если другая попадала в поле зрения полиции, потому что все необходимые материалы хранились в трех или четырех разных местах.
Специальная мастерская занималась переделкой подлинных паспортов. Опытный мастер копировал оттиск печати с убранной фотографии. Иногда убирались и заменялись фальшивыми отдельные страницы, ставились новые визы. За эту работу отвечал Рихард Кваст, по кличке Абель. Мастерские такого типа обычно размещались в ателье по ремонту обуви, поэтому в коммунистическом подполье специалисты по изготовлению фальшивых паспортов назывались «сапожниками».
«Пасс-аппарат» держал отделения по всей Европе. Они, как говорилось, были «посажены» в Дании, Швеции, Норвегии, Голландии, Бельгии, Саарской области, Швейцарии, Австрии, Чехословакии и Данциге. Сама Германия была разделена на двадцать четыре области, в каждой из которых работало четыре или пять агентов, а в Берлине их было десять. В одиннадцати странах насчитывалось около двадцати агентов. Вместе с работниками «Пасс-аппарата» это составляло 170 человек без учета временных помощников, работавших без оплаты.
Агенты в провинции и за границей, перед которыми ставилась задача добывать паспорта от сочувствующих партии людей или от членов организаций «Рот-Фронта», временами работали очень успешно. Чтобы помочь партии, сочувствующие подавали прошение о получении паспорта, а потом передавали документ партии. Другой задачей провинциальных агентов было наблюдать за паспортными отделами, добывать формы и подписи и сообщать центру о любом изменении в паспортном режиме.
Запасы штампов, паспортов и других документов прятали в самых невероятных местах. Один тайник был устроен в основании большого телескопа берлинской обсерватории, которой руководил коммунист-подпольщик Герман Дюнов[18 - Клички Конрад, Райх, Рейнгольд, Доктор Штуттнер.]. Второе место было в письменном столе служащего Дрезденского банка, третье – в церкви Назарета.
До прихода нацистов к власти полиция совершила не менее пяти рейдов на различные помещения «Пасс-аппарата». Из сотен находившихся в обороте фальшивых паспортов некоторые неизбежно должны были попасть в руки полиции, и, несмотря на все предосторожности, несколько мастерских были раскрыты. Тяжелым ударом был арест в Вене курьера Клозе с мешком, набитым паспортами. В январе 1932 года на датской границе были арестованы три немецких путешественника, которые на самом деле оказались советскими гражданами с поддельными паспортами. Примерно в это же время в Гамбурге был задержан сотрудник торгпредства Чубарь-Онищенко, на его вилле нашли пять фальшивых паспортов, сделанных так хорошо, что не оставалось сомнений в существовании неизвестной мастерской по изготовлению документов. В декабре 1932 года женщина с поддельным паспортом пыталась проехать на автомобиле через границу в Голландию, и она была арестована вместе с «шофером», роль которого играл Паукер, муж будущего коммунистического лидера Румынии Анны Паукер[19 - Паукер был казнен примерно в 1937 году, когда жена донесла на него, считая его троцкистом.]. Полиция определила, что их паспорта были изготовлены в Берлине.
Результаты полицейских рейдов поначалу были весьма скромными. Однако в ноябре 1932 года полиция захватила серьезную добычу, когда совершила налет на квартиру на Кайзер-аллее. Там она нашла паспорта разных стран, американские паспортные бланки, свидетельства о рождении, школьные аттестаты и другие документы. Кроме того, там были сотни печатей, в том числе и штампы полиции Анкары, Софии и Амстердама. Были найдены образцы подписей шефа Скотленд-Ярда и других руководителей британской полиции. По обнаруженным заметкам стало ясно, что за последние шесть месяцев было изготовлено 1500 паспортов.
«Берлинер тагеблатт» опубликовала полицейский отчет:
«В мастерской было обнаружено 2000 штампов, 600 бланков паспортов, 35 почти законченных паспортов, 807 фотографий для паспорта, 716 штампов для подтверждения уплаты пошлины, 300 официальных бланков, 73 формы расписок, 57 штампов об уплате налогов, 165 свидетельств, 700 полицейских документов, 30 трудовых книжек и 650 бланков различных фирм.
Эта мастерская фальшивых документов была самой большой из всех, которые были раскрыты в Европе со времен войны».
Во время рейда были арестованы Карл Вин и Эрвин Кольберг. Однако полиция изъяла лишь часть материалов, остальные мастерские продолжали работать.
Приход нацистов к власти стал тяжелым ударом для «Пасс-аппарата». В апреле 1933 года полиция нашла еще один крупный склад печатей и паспортов и арестовала Рихарда Гросскопфа. Вместе с Вином Гросскопф был приговорен к двенадцати годам и просидел в концентрационном лагере до 1945 года.
Вскоре произошло другое несчастье. Альфред Каттнер, работавший в штаб-квартире коммунистической партии в Берлине и знавший многих из подпольного мира, выдал своих товарищей гестапо. (Потом Каттнер был убит своими бывшими товарищами.) Среди тех, кого он предал, был и Герман Дюнов. В его обсерватории нацистские власти, к своему удивлению, нашли не только множество паспортов, но и подписи казначеев своей партии, членские билеты и фальшивые расписки, подтверждающие уплату нацистских взносов.
Хотя эта потеря и не была фатальной, обстановка стала угрожающей. В руководстве «Пасс-аппарата» было решено перевести все в Саарбрюкен, который в то время находился под управлением Франции. В 1934 году, после почти десяти лет успешной работы в Берлине, мастерские, инструменты и запасы штампов и паспортов были переправлены в Саар. Резиновые штемпели надо было отделить от деревянных ручек и уложить под двойное дно чемоданов. Документы и печати упаковывали в специально сделанные пустоты в ножках столов. Чернила специальных сортов заливали в стеклянные трубки, спрятанные в мебели. Казалось, что перевезти через границу все движимое имущество «Пасс-аппарата», спрятав его среди мебели, невозможно, но с помощью инженера-коммуниста, с каменоломни вблизи границы, который хорошо знал привычки и приемы таможенников, остаток оборудования был успешно вывезен из Германии. Вместе с материалами в Саарбрюкен переехали и некоторые специалисты, где мастерская возобновила свою работу. Но условия в Сааре стали ухудшаться. Росло влияние нацистов, активизировалась их агентурная сеть, и было похоже, что Германия скоро захватит эту область. В 1935 году Саар проголосовал за воссоединение с Германией. Москва приказала переслать в Россию весь запас паспортов, другие бумаги и штампы следовало отправить в Париж.
Вынужденный покинуть Германию, «Пасс-аппарат» так и не смог восстановить свою былую славу. Когда в 1936 году началась гражданская война в Испании, открылся новый источник паспортов. Не только бойцы интербригад, но и тысячи симпатизирующих им иностранцев в Испании сдавали свои национальные паспорта. Аппарат изучал их и отбирал для своих агентов прекрасные британские, американские, канадские и другие документы. Этот запас, насчитывавший тысячи паспортов, покрывал все нужды вплоть до начала войны.
Промышленность как главная цель
Германский уголовный кодекс признавал шпионаж, только когда дело касалось военных секретов, в случаях промышленного шпионажа могло быть применено максимальное наказание в виде одного года заключения, что облегчало в некоторой степени работу советской разведки.
Одним из первых дел о промышленном шпионаже был процесс Кнепфле, в котором отразились все особенности методов советских спецслужб в Германии того времени. Главой и казначеем группы был Ганс Барион, сотрудник центрального комитета коммунистической партии. Его главным агентом на юго-западе был Карл Кельцер из местной организации коммунистической партии в Дюссельдорфе. Кельцер в свою очередь поручил рабочему Альберту Кнепфле, секретарю коммунистической ячейки в Аувайлере, проводить операции в Леверкузене, где размещался один из заводов концерна «И.Г. Фарбен». Рассматривая это поручение как партийное, Кнепфле обратился к пяти или шести рабочим, как коммунистам, так и сочувствующим партии, за информацией о секретных технологиях, образцах и планах. Добытые материалы поступали к Кельцеру, а от него через Бариона к русскому начальнику. Не делалось никакого секрета из того, что Россия была получателем шпионских донесений, напротив, этот аспект работы широко и откровенно обсуждался всеми участниками. Сколь велик был интерес России к химической промышленности Германии, видно из того факта, что одновременно с группой Кнепфле на заводах «И.Г. Фарбен» в том же Леверкузене появилась еще одна, которой руководил бригадир Георг Херлофф. Он сам собирался поехать в Россию и обещал хорошую работу техникам и рабочим. Херлофф собирал информацию и передавал ее советским представителям. Активность такого рода не могла долго оставаться в тайне, и в начале 1926 года было арестовано около двадцати человек. Их судили в мае того же года, и они получили мягкие наказания: от трех месяцев до одного года.
Связь коммунистической партии с советскими спецслужбами стала ясной во время суда над Вилли Киппенбергером, братом Ганса, будущего руководителя коммунистического подполья. Лишенный твердых убеждений, молодой человек побывал в отрядах Эрхарда, но к середине двадцатых годов попал под влияние брата-коммуниста. Он нашел работу на химическом заводе в Биттерфельде, где копировал секретные планы и передавал их Гансу. Разоблаченный и арестованный, Вилли Киппенбергер в октябре 1926 года был приговорен к четырем месяцам заключения.
До революции химический завод «Сольве» в Бернбурге, пригороде Дессау, имел отделение в Москве. Русский филиал был национализирован в 1918 году, и теперь его собирались модернизировать в рамках первого пятилетнего плана. Москва решила сманить с завода «Сольве» старого и опытного химика, которому были известны все новые технологии, чтобы он возглавил русский завод. Лури, московский агент, вошел в Гамбурге в контакт с господином Мейером с предложением занять пост главного управляющего филиала завода «Сольве» с окладом 5 тысяч рублей в месяц, бесплатной квартирой и 4 тысячами 500 рублей на дорожные расходы. Со своей стороны Мейер должен был выдать своим потенциальным русским нанимателям коммерческие и технические секреты «Сольве». Перед отъездом в Россию он попытался убедить других помочь ему в разведывательной работе. После доноса его арестовали, судили и приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.
В октябре 1930 года частное сыскное агентство заводов Круппа в Магдебурге задержало инженера Калленбаха и обнаружило у него в портфеле секретные документы, описание патентов и чертежи новых машин. В ходе расследования было установлено, что Калленбах и два других инженера передавали важную информацию своему бывшему начальнику, который собирался в Россию. Калленбах тоже готовился уехать в Москву через пару недель. Приговор был обычным – четыре месяца Калленбаху и еще меньшие сроки остальным.
Эта форма шпионажа стала обычной. Так, например, русский инженер Федор Володичев, который работал на заводах «Сименс» и «Хальске», снабжал микрофонами и телетайпным оборудованием отдел торгового представительства, ему помогали двое молодых немецких инженеров. «Чертежи, найденные у Володичева, отражали последние достижения в телеграфии и представляли громадную ценность для немецкой индустрии», – отмечал эксперт на судебном заседании. Но тем не менее суд оказался снисходительным и приговорил Володичева к одному месяцу и десяти дням.
Инженера Вильгельма Рихтера, работника цементного завода «Полисиус» вблизи Дессау, советские представители уговорили передать секретные планы и чертежи для завода, который должен был строиться около Москвы. Рихтер стал часто ездить в Москву и, наконец, прекратил работу в Германии. После его отъезда была обнаружена пропажа секретных бумаг. В январе 1931 года Рихтера арестовали. В сентябре 1931 года Карл Либрих, химик научно-исследовательской лаборатории в Эберфельде, член КПГ, был осужден на четыре месяца за промышленный шпионаж. В Ротвайле трое рабочих – Роберт Мольт, Юлиус Шетцле и Адольф Кох – пытались завладеть промышленными секретами по изготовлению химических волокон и пороха для таинственного Георга, агента из Штутгарта. Шарлотта Ланд, сотрудница химического завода в Берлине, собирала секретную информацию о химической и металлургической промышленности. Ее арестовали и судили в марте 1932 года. Для военных целей компания «Телефункен» изобрела ранцевый телефон, это было серьезным, до сих пор неизвестным делом. Один из работников фирмы «Телефункен», некто Зайферт, передал фотографии и образцы советским экспертам еще до того, как начался массовый выпуск продукции. Образцы новых коленчатых валов, произведенных фирмой «Рейнметалл», стараниями рабочих попали в руки советских спецслужб в самом начале их производства.
В деле Липпнера, которое слушалось в Берлине в 1931 году, торговое представительство оказалось в центре внимания. Австрийский инженер Липпнер был нанят представительством в Берлине для исследований в области горючего. Действуя от имени представительства, человек, назвавшийся Глебовым, вел с Липпнером переговоры и подписал контракт. Через несколько месяцев Глебов настоятельно потребовал от эксперта выдать секреты в области очистки бензина на заводе компании «И.Г. Фарбен» в Фридрихсхафене. Липпнер немедленно оставил представительство и потребовал от него предусмотренную контрактом сумму в 9 тысяч марок. В своем ответе торговое представительство сообщило суду, что Глебов им совершенно незнаком и что документы, подписанные этим человеком, не имеют никакой силы. Глебова так и не нашли, а его помощник, которого вызвали в суд как свидетеля, спешно уехал в Россию.
Поворотным пунктом стало дело Штеффена – Динстбаха в 1931 году. До этого общественное мнение в Германии, формируемое министерством иностранных дел, было склонно рассматривать советские шпионские дела как отдельные эпизоды, не обязательно связанные с политическим курсом СССР, который с 1926 года считался дружественной страной. Когда взорвалось дело Штеффена и размах и разветвленность шпионажа стали известны всем, не осталось места для сомнений и самодовольства. Стало очевидно, что Советский Союз, используя дружественные советско-германские отношения, развернул разведывательную деятельность в громадных размерах. И чем более «дружественными» становились отношения между двумя странами, тем глубже проникал советский шпионаж.
На этот раз объектом шпионажа стал химический концерн «И.Г. Фарбен», где Эрих Штеффен был руководителем агентурной сети. Он стоял во главе революционной профсоюзной оппозиции химической промышленности. Штеффен использовал ее как центр связи со своими агентами, разбросанными по всей стране. К тому же Штеффен и его жена работали при советском торговом представительстве, а с 1930 года Штеффен занимался и другой частью промышленного шпионажа – проверкой немцев, которые собирались ехать на работу в Россию. В Людвигсхафене, где располагался крупный химический завод, его доверенным лицом был Карл Динстбах, уволенный из правления «И.Г. Фарбен», но сохранивший контакты и своих людей на химических заводах во Франкфурте, Кельне, Рурской области и других местах. Всего на него работало около двадцати пяти человек.
По указанию Штеффена Динстбах обращался к своим многочисленным помощникам с техническими вопросами, касающимися промышленных секретов, и обычно получал ответ. Как показал горький опыт, в основном французский, обширные вопросники могут выдать агента даже на ранней стадии его работы. В Германии такие вопросники были разделены на отдельные части. Собранные вместе, они давали требуемую информацию.
Главная опасность тем не менее крылась в размерах аппарата, число источников переросло разумные пределы. Среди агентов и информаторов Динстбаха был стенографист Генрих Шмидт, который обратился к рабочему Карлу Крафту с вопросом о технологическом использовании карболовой кислоты и аммониума. Тот доложил об этом своему начальству. Следуя инструкциям, он продолжал поддерживать связь с советской разведкой. Через два месяца, в апреле 1931 года, Динстбах, Штеффер, Шмидт и большое число других инженеров и рабочих были арестованы, и суд признал их всех виновными. В доме Штеффена нашли секретные химические формулы, в его записной книжке – имена и адреса его агентов. Из его банковской книжки стало ясно, что в течение трех месяцев он положил на свой счет 24 тысячи марок.
После месяца, проведенного в тюрьме, Динстбах сознался и открыл все известные ему тайные связи, но он ничего не знал о русской части шпионской сети. Обвинение решило проверить советское торговое представительство, чтобы вскрыть имена русских руководителей агентуры, но министерство иностранных дел отказалось дать на это разрешение. Тем временем торгпредство выступило в прессе с заявлением, в котором все отрицало: «Лица, названные в связи с этим делом, или те, кто арестован, неизвестны торговому представительству. Не существует ни прямой, ни косвенной связи с теми, кто фигурирует в этом деле».
На самом деле аресты встревожили представительство. Аппарат сделал нужные выводы, и некоему Александру было поручено позаботиться об арестованных. Низенький, круглолицый мужчина, которому было чуть за сорок лет и чье настоящее имя осталось неизвестным, Александр был важным агентом советской военной разведки в Германии. Он занимал одну из задних комнат в посольстве на Унтер-ден-Линден, он не был ни атташе, ни секретарем, его специальностью была подпольная деятельность. Он принимал все доступные меры конспирации, например он никогда сам не отвечал на телефонные звонки. Его деловые сотрудники должны были звонить в посольство и оставлять свои имена, и потом Александр сам звонил им. Его местонахождение оставалось тайной, и его не могли подслушать даже агенты ГБ, которые дежурили на коммутаторе.
Александр организовал и финансировал защиту Штеффена под прикрытием Международной организации помощи борцам революции. Он нанял адвоката-коммуниста, который мог посещать посольство и ездить по стране, не вызывая подозрения. Например, в Ахене был инженер, правдивые показания которого могли вызвать большие неприятности. Адвокат ехал в Ахен, обещал инженеру хорошую работу в России и тем самым покупал его молчание. С теми же целями была предпринята другая поездка, в Нюрнберг. Однако Александра больше всего тревожил сам Штеффен. Тот легко признавался на допросах и посылал своим друзьям-подсудимым слишком уж откровенные записки. Об этих записках, где упоминались многие имена, стало известно обвинению. В одной из них говорилось: «Мы называем все это не шпионажем, а промышленной помощью». И это было ударом, разрушающим всю систему защиты, которая строилась на том, что подсудимые якобы интересовались только условиями труда на химических предприятиях, а письменные отчеты, найденные у них, предназначались для профсоюзной газеты «Фабрикарбайтер». Так как дело Штеффена касалось только промышленного шпионажа, приговор снова оказался снисходительным: Штеффен, Динстбах и Шмидт получили по десять, а остальные – по четыре месяца тюремного заключения.
Хотя обвинение опротестовало приговор, прошло немного времени, и все обвиняемые оказались на свободе. Но теперь советское руководство стало сомневаться в надежности пары Штеффен – Динстбах. Возникло опасение, что если их снова арестуют, то они откроют слишком многое. Следуя инструкции Александра, коммунистадвокат убеждал чету Штеффен поехать в Россию, но они категорически отказались, потому что у фрау Штеффен были родственники-нацисты. (Она и сама позже вступила в нацистскую партию.) В конце концов, Штеффены согласились уехать в Чехословакию. В Праге Штеффена удалось уговорить переехать в Москву, и он был ликвидирован во времена большой чистки.
Одним из результатов шумихи, поднятой вокруг дела Штеффена, стало ужесточение законодательства. Первого марта 1932 года президент Гинденбург подписал Декрет в защиту национальной экономики, который увеличивал до трех лет максимальное наказание за кражу промышленных секретов, а в случае передачи их за границу – до пяти лет. Новые санкции, введенные с первого апреля 1932 года, сохраняли силу, пока нацистское правительство снова не ужесточило наказание и ввело высшую меру наказания за промышленный шпионаж.
Военные цели
Хотя промышленный шпионаж поглощал почти всю энергию и средства советской разведки в Германии, чисто военные цели тоже не оставались в стороне.
Самой крупной удачей ГРУ в донацистской Германии был случай с генерал-полковником Хаммерштайном и его дочерьми, которые симпатизировали России, хотя и каждая по-своему. Генерал Курт фон Хаммерштайн-Экворд, наследник старинной военной династии, занимал высокие посты, а в ноябре 1930 года стал главнокомандующим сухопутных войск рейхсвера. Человек консервативных взглядов, он разделял настроения офицеров и генералов донацистской эры, которые склонялись к военному сотрудничеству с Советской Россией. Он посещал Россию в эти годы, встречался с советскими высшими военными деятелями и другими представителями власти. Дочери Хаммерштайна были настроены более прокоммунистически по сравнению с отцом.
Наставником этих девушек стал редактор «Роте фане» Вернер Хирш, чья мать принадлежала к аристократическим кругам Пруссии. Она же и представила его Хаммерштайнам.
Обе девушки быстро схватывали то, что им внушал Хирш. Согласно его представлениям, революционный фронт, на котором они должны бороться, располагался в кабинете их отца. Годами они похищали и фотографировали документы, которые находили на его письменном столе. Они подслушивали все разговоры, которые велись в доме, и обо всем сообщали Хиршу. Они стали одними из лучших советских агентов секретной службы в германской армии.
Четкой разделительной линии между промышленным и военным шпионажем не существовало. Например, авиация и судостроение интересовали советскую разведку, как с промышленной, так и с чисто военной точек зрения.
Так как советская военная авиация в двадцатые годы находилась еще в младенческом состоянии, раскрытие секретов германской авиационной техники стало одной из важнейших задач военной разведки. В 1927 году в Берлин из Москвы приехал инженер Александровский, который должен был собрать все основные данные о германской авиационной промышленности. Его правой рукой был латыш Эдуард Шайбе, работник советского торгового представительства, который имел многочисленные связи. Однако главные свои надежды Александровский возлагал на немецкого инженера Эдуарда Людвига, способного авиационного специалиста, который в 1924–1925 годах работал в Москве в филиале фирмы «Юнкерс». Советские власти намекнули ему, что он может стать профессором в университете, если согласится вернуться. Возвратившись в Германию, Людвиг продолжал работать в авиации. Он часто менял места и уже через два года знал все особенности производства на заводах «Юнкерса» в Дессау, «Дорнье» во Фридрихсхафене, а также разработки Исследовательского института аэронавтики в Адлерсхофе.
В конце 1927 года советское посольство известило Людвига, что место профессора скоро освободится, а пока он должен «сотрудничать» с Эдуардом Шайбе. Чтобы доказать свою преданность, Людвиг начал забирать домой документы из Института аэронавтики (в основном касающиеся авиамоторов). Шайбе доставлял их фотографу Эрнсту Хуттингеру, и негативы шли прямо к Александровскому. Когда офицеры секретной службы института обнаружили пропажу документов и чертежей, все улики указывали на Людвига. Людвиг, Шайбе и Хуттингер были арестованы в июле 1928 года. Александровский исчез, а советский атташе Лунев срочно покинул Берлин.
На суде обвиняемые попытались выдвинуть аргумент, который стал популярным через двадцать лет в делах, связанных с атомным шпионажем: наука интернациональна, и Россия не должна подвергаться дискриминации. Суд не принял их аргументы: «Хотя институты обмениваются своими достижениями и опытом в международном масштабе, – говорилось в приговоре, – обвиняемые не были уполномочены выдавать русским то, что не следовало им открывать». Так как дело было связано с военным шпионажем, то наказания оказались суровыми: пять лет для Людвига, шесть лет для Шайбе и три года для Хуттингера. Александровского так никогда и не нашли.
В другом деле о военно-промышленном шпионаже целью было пуленепробиваемое стекло, потому что Советский Союз все еще не мог производить такой тип стекла и зависел от дорогого импорта, а в случае войны поставки вообще могли прекратиться. В 1930 году коммунист и инженер-химик Теодор Пеш, работавший в финансируемой британцами компании «Нойтекс» в Ахене, передал секретные документы и образцы агентам советской разведки. Советское торговое представительство, замешанное в этом деле, опубликовало двадцать седьмого апреля 1931 года серьезное опровержение: «Ни торговое представительство, ни его работники не имеют никакого отношения к этим лицам». Суд принял во внимание молодость Пеша, посчитав это смягчающим обстоятельством, и приговорил его к двум месяцам заключения.
В 1928–1929 годах, когда Германия приступила к постройке своего первого послевоенного крейсера, на его проект немедленно было нацелено сразу несколько групп. Одна из них должна была добыть все детали корабельных орудий, которые делались на заводах «Рейнише металлварен» в Дюссельдорфе. Германское правительство не успело подписать решение о постройке крейсера, как группа проектировщиков и технологов под руководством инженера Вилли Адамчика начала похищать чертежи. Главными помощниками Адамчика были братья Рудольф и Эрвин Гроссы. Группа работала без помех полгода, пока не была разоблачена в марте 1929 года[20 - Адамчик был приговорен к шести годам каторжных работ, Рудольф Гросс – к трем годам тюрьмы, а Эрвин Гросс – к шести месяцам.].
Не успели арестовать эту группу, как появилась другая, более мощная, которая должна была следить за процессом постройки крейсера. В нее были вовлечены рабочие-коммунисты с верфей Бремена и Гамбурга, они подчинялись человеку по имени Герберт Зенгер. Но главным их руководителем являлся Лотар Хоффман (он же Ганс Рихтер и Доктор Шварц), опытный разведчик, работавший в качестве секретного агента на Дальнем Востоке, во Франции и в Бельгии. Переведенный в Германию, он стал одним из шефов шпионажа, и его поле деятельности простиралось далеко за пределы кораблестроения. Другой член группы, Рихард Леман (Ровольд), имел большую современную фотокопировальную мастерскую, оборудованную в подвале его дома.
Страсти, разгоревшиеся вокруг постройки крейсера, могли бы показаться совершенно заурядными, если бы не война между шпионскими группами и германской контрразведкой. В феврале 1930 года некий Ганс Ширмер, автор коротких рассказов, коммунист, не всегда подчинявшийся партийной дисциплине, решил установить связь с советской резидентурой и сделал это способом, который можно было бы назвать дурацким, если бы в конце концов все не кончилось с пользой для него. В феврале 1930 года он послал письмо по адресу: Коммунистический партийный центр в Гамбурге, Валентинскамп. Внутри был другой конверт с надписью: «Шефу шпионского отдела». На нем было написано: «Если адресата не существует, пожалуйста, верните письмо, не вскрывая, по указанному на нем обратному адресу».
В письме говорилось:
«Как бывший работник военных верфей в этом городе, я имею самые лучшие связи с рабочими и военным персоналом. Я мог бы снабжать вас информацией, представляющей для вас особый интерес, и был бы очень благодарен, если бы вы сообщили мне, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы обсудить это дело».
Скоро из Гамбурга пришел ответ, напечатанный на машинке и с собственноручной подписью «Герберт Зенгер»:
«Я с интересом прочитал ваше письмо и хотел бы прежде, чем мы встретимся, получить больше информации, чтобы решить, достаточно ли полезны ваши связи».
Обратного адреса не было, поэтому Ширмеру пришлось снова адресовать письмо в шпионский центр КПГ в Гамбурге:
«Я с интересом прочитал ваше письмо. Однако должен уведомить вас, что не могу сообщать в письме детали, и поэтому прошу о встрече».
Через три или четыре недели был получен ответ от Зенгера:
«В виде исключения готов встретиться с вами в воскресенье. Буду ждать вас в зале ожидания главного вокзала, черное пальто, спортивное кепи, в руке носовой платок. С наилучшими пожеланиями…»
Встреча состоялась. Ширмер повторил свои слова о связях на военных верфях и военно-морском флоте. Зенгер сказал, что у них тоже есть свои хорошие связи и что многие морские офицеры охотно идут на контакт. Естественно, осторожный и подозрительный, Зенгер не торопился принять предложение Ширмера. Он отговорился тем, что его интересует только политика и он хотел бы знать о настроениях на флоте и имена недовольных офицеров. Эта встреча не принесла ничего существенного, если не считать того, что Ширмер получил тайный адрес для корреспонденции. Прошло несколько месяцев, а дело не сдвинулось с мертвой точки.
В октябре того же года Ширмер явился в контрразведку военно-морского флота и рассказал о своих контактах. С одобрения своих новых хозяев Ширмер опять связался с Зенгером и предложил ему документы, представляющие значительный интерес. С этого момента Лотар Хоффман, настоящий глава группы, стал активно работать с Ширмером. Офицеры контрразведки снабжали Ширмера фальшивыми документами и чертежами, а тот передавал их Хоффману, каждый раз получая от 30 до 100 марок. После того как документы фотографировались в подвале у Лемана, их возвращали Ширмеру, а тот отдавал их в контрразведку.
В мае 1931 года, когда связи группы Хоффмана были прослежены контрразведкой, их арестовали. В апреле 1932 года состоялся закрытый судебный процесс, и члены группы были приговорены к длительным срокам: Хоффман к четырем годам каторжных работ, двое других – к двум годам[21 - Но это не было концом карьеры Хоффмана. В 1941 году, когда Дания была оккупирована немецкими войсками, его арестовали, привезли в Германию и приговорили к смертной казни. Однако он не был казнен. Как он вел себя в тюрьме, так и осталось неизвестным, но когда его освободили в 1945 году, то обратно в коммунистическую партию его не приняли и он три года пробыл в «изоляции». После 1948 года Хоффман снова обрел расположение Москвы и правительства ГДР.].
Как много других советских разведгрупп работало на верфях, разумеется, осталось неизвестным. Однако не подлежит никакому сомнению, что, когда крейсер был спущен на воду, фотографии и чертежи главных его узлов лежали на письменных столах Генерального штаба Красного Флота.
Убийство советского агента людьми из ГБ на австрийской территории, которое случилось примерно в то же время, привлекло всеобщее внимание в Центральной Европе и сильно обострило политическую ситуацию. Жертвой стал Георг Земмельман, он восемь лет работал на советскую разведку в Германии, якобы являясь служащим советского торгового представительства в Гамбурге. По секретным приказам своих начальников Земмельман ездил в Москву и по всей Европе, выполняя разнообразные поручения, а иногда даже такие опасные, как освобождение коммунистического издателя Отто Брауна и его жены Ольги Бенарио из берлинской тюрьмы в апреле 1928 года. Его много раз судили, он провел некоторое время в заключении, его высылали из многих стран. Весной 1931 года Земмельман потерял доверие своих хозяев по неизвестным до конца причинам[22 - Похоже, что девушка, на которой женился Земмельман, не была одобрена его начальством, которое боялось утечки информации.]. Рассерженный, беспринципный Земмельман решил преследовать своих бывших шефов, что было бы равносильно разглашению секретов ГБ широкой публике. Но он не сделал этого, а написал письмо в венскую газету, предложив серию статей, в которых собирался рассказать о методах советской разведки и контрразведки и о вербовке агентов, а также о роли КПГ во всей этой неблаговидной деятельности.
ГБ немедленно узнала о планах Земмельмана и, естественно, вынесла ему смертный приговор. Двадцать седьмого июля 1931 года Андрей Пиклович, сербский коммунист, который выдавал себя за студента-медика, пришел на квартиру к Земмельману и застрелил его. Пиклович был арестован австрийской полицией. Его судили в марте 1932 года, и решение суда было таким же показательным, как и само убийство. Обвинение утверждало, что Земмельман был убит, потому что слишком много знал, и что Пиклович совершил умышленное убийство. Пиклович ничего не отрицал и не раскаивался, он заявил, что будет до конца бороться с капиталистическим режимом и что если бы Земмельман остался в живых, то предал бы многих пролетарских бойцов. Между тем Москва развернула кампанию в защиту Пикловича. Коммунистическая пресса и сочувствующие требовали его оправдания, а на суде была зачитана телеграмма Анри Барбюса с тем же требованием.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: