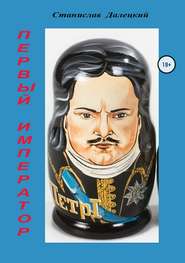
Полная версия:
Первый император. Сборник
«27 октября. Эта казнь резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными… Эта громадная казнь могла быть использована только потому, что все бояре, сенаторы царской думы, дьяки – по повелению царя – должны были взяться за работу палача. Мнительность его крайне обострена. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр».
«Мятежников за упорное молчание подвергают пыткам неслыханной жестокости. Высеченные жесточайшим образом кнутами, их жарят на огне; опаленных секут снова, и после вторичного бичевания опять пускают в ход огонь… Царь сам составляет допросные пункты, спрашивает виновных, доводит до сознания запирающихся, велит подвергать жестокой пытке особенно упорно хранящих молчание; с той целью в Преображенском (месте этого в высшей степени строгого допроса) пылает ежедневно , как может всякий это видеть, по тридцать и более костров».
И все эти описанные казни сочетались с веселыми пирушками.
14 октября: «Франц Яковлевич Лефорт отпраздновал день своих именин великолепнейшим пиршеством, которое почтил своим присутствием царь»
22-23 октября: «Вторично несколько сот мятежников повешены у белой Московской стены».
26 октября;
«когда пробило десять часов, его Царское Величество приехал в экипаже на роскошно устроенный пир… В общем с лица его Царского Величества не сходило самое веселое выражение, что являлось признаком его внутреннего удовольствия».
Чиновники датского посольства решили посетить пыточные казематы Преображенского, полагая, что находятся под дипломатической защитой:
«Они обходили разные темничные помещения прорываясь туда, где жесточайшие крики указывали место наиболее грустной трагедии… Они уже успели осмотреть, содрогаясь от ужаса, три избы, где на полу и даже в сенях виднелись лужи крови, когда крики, раздирательнее прежних, и необыкновенно болезненные стоны возбудили в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе.
Но лишь вошли туда, как в страхе поспешили вон, ибо наткнулись на царя… Царь стоявший перед голым подвешенным к потолку человеком, обернулся к вошедшим, видимо, крайне недовольный, что иностранцы застали его при таком занятии… В погоню за ними пустился офицер, намереваясь обскакать и остановить их лошадь. Но сила была на стороне чиновников – их было много. Впоследствии я узнал фамилию этого офицера – Алексашка, царский любимец и очень опасен».
Почему же столько тысяч человек отчаянно сопротивлялись пыткам и молчали?
«Пришествие Антихриста ожидалось в 1666 году, а когда оно не исполнилось, стали считать 1666 не от рождения Христа, а от его Воскресения, то есть в 1699 году. За несколько дней до наступления этого года,… Петр вернулся из своего заграничного путешествия (в те времена новый год наступал 1 сентября)».
«всем вдруг стало ясно, что Петр это и есть антихрист. Потому сопротивление Петру для русского человека приняло характер борьбы за веру, наступившей в последние апокалипсические дни. И здесь стойкость его (русского) оказалась просто потрясающей; ломались кости, лопалась под страшными ударами кнута прорванная кожа, разрывались ткани тела и брызгала из ран святая мученическая кровь, но доносов друг на друга царь-антихрист так и не услышал».
Начиная живодерню против стрельцов, Петр не забывал и об устройстве личных дел.
Прибыв из-за границы, царь сразу же навестил Анну Монс в немецкой слободе и лишь спустя несколько дней, посетил свою жену Евдокию в Кремле, где объявил ей, чтобы она удалилась в монастырь и постриглась в монахини. Получив отказ от царицы, обоснованный тем, что малолетний сын Алексей нуждается в материнском присмотре, царь выслал Евдокию в Суздальский монастырь, где она была насильно пострижена в монахини, под именем Елены. Средств монастырю на содержание царицы-монахини казной выделено не было и царица жила за счет монастыря, зачастую испытывая нужду даже в пропитании.
Не забыл царь и о царевне Софье, запертой в Новодевичьем монастыре. Хотя никаких следов заговора с участием Софьи обнаружено не было и даже челобитной от стрельцов с просьбой к Софье взойти на престол тоже не было найдено, Софья, постриженная в монахини под именем Сусанна, была заключена в келье монастыря, под окнами которой постоянно висели тела стрельцов с подобием челобитной грамоты вставленной им в руки.
Все время зверств Петра против стрельцов, Федор находился в Преображенском дворце, видев царя лишь изредка, когда он пьяный являлся из Немецкой слободы или, устав от пыточных дел в приказе, посещал дворец, где ему приводили девку для умиротворения плоти и, справив телесную нужду, царь забывался беспокойным сном, чтобы назавтра продолжить пыточные дела в застенках и увлечения в Немецкой слободе: жестокость к людям Петр всегда совмещал с увеселением себя и своих подручных дел мастерами, главным из которых становился Алексашка Меншиков.
Имея свободные вечера, но в ожидании неожиданного появления Петра во дворце, Федор бродил по комнатам, не зная чем ему заняться и частенько, увидев истопника Акима, который растапливал печки во дворце с наступлением холодов, сопровождал его от печи к печи, помогая разжечь печи и ведя неторопливо беседы с этим молчаливым и замкнутым слугой, каким был и сам Федор.
Акима, который уже много лет не покидал Преображенского, очень интересовала поездка царя в Европу и особенно жизнь прочих людей в дальних странах, на что Федор давал подробные ответы, если, что-то видел или даже слышал во время пребывания царя за границей, поскольку всегда находился поблизости и был свидетелем многих событий с участием царя и его приближенных.
– Скажи-ка Федор, правду ли говорят слуги во дворце, будто царь Петр за границами многим делам обучился: морскому делу корабельному, плотницкой сноровке, пушечной стрельбе и еще каким-то неведомым ремеслам?
– А как ты думаешь Аким, можно ли с наскока овладеть ремеслом в две-три недели, – осторожно отвечал Федор, оглядываясь по сторонам, не подслушивает ли чье-то ухо разговоры про Петра, что само по себе было крамолой, а уж неуважительное слово о царе и вовсе каралось плетьми или даже смертоубийством. Аким-то слухи дальше не пускает, но кто-либо сторонний может враз донести и не миновать тогда пыток в Преображенском приказе, благо, что и вести провинившегося далеко не надо – пыточные избы совсем рядом, в минутах пешей ходьбы от дворца. Но русский человек так устроен, что общаясь между собой не думает об опасности грозящей ему и собеседникам за неосторожно сказанное слово, особенно, если слово это правдивое.
– Я так думаю, что невозможно овладеть совершенно хоть одним ремеслом даже за год обучения, не говоря уж про другие ремесла, – отвечал Аким, растапливая печь,– вот возьми хоть меня истопника: кажется какая нужна мудрость при растопке печи? Бросил поленьев, сунул бересты и готово – печь дальше сама растопится, только успевай добавлять поленьев. Ан, нет – и здесь требуется опытная рука: разжечь печь надо так, чтобы огонь охватывал весь под, дрова горели равномерно и давали много жару, но не прогорели быстро, иначе печь не прогреется, и не будет отдавать накопленное тепло всю ночь впредь до утренней топки… Я этому делу года три обучался от прежнего истопника, которого по старости лет отправили в дальнее село, когда он не стал успевать управляться с печами, которых в тереме два десятка – пока дойдешь до последней, в первой печи огонь уже может кончиться, и тогда начинай растопку заново и тепла от этой печи придется ждать долго, в комнате этой будет холодно и меня, как истопника могут наказать плетьми, невзирая на то, что я есть вольный человек, а не холоп вроде тебя, Федор.
– Вот теперь и посуди, Аким, чему и как наш государь обучился в заграницах, особенно если иметь в мыслях, что Петр правой рукой всегда трясет, голова у него в ту же сторону дергается, да еще и хлебным вином он балуется каждый божий день: к вину этому, что горит синим пламенем, если его поджечь, царь пристрастился в Немецкой слободе – я его пробовал пару раз, так на другое утро голова гудит, будто барабан рядом бьет и во рту как коты переночевали – какая уж тут учеба – кваску бы выпить холодного – вот и все мысли.
Больше я, Аким, про царскую учебу в заграницах не желаю говорить, потому, что не хочется мне висеть на дыбе за поношение нашего господина. Добавлю только, что головы стрельцам царь рубит ловко, ничуть не уступая нашему палачу Кондрашке Тютюну: этим палачом уже люди друг дружку пугают: смотри, мол, кондрашка хватит. Ты лучше об чем другом спроси, – закончил Федор свои слова, глядя как умело истопник ворошит угли в печи и, дождавшись их угасания без синего пламени, закрывает вьюшки, чтобы тепло не уходило через трубу и печь держала обогрев комнаты до самого утра.
–Хорошо, Федор, тогда скажи мне как там в Европах простые люди живут? Как у нас на Руси или лучше? Там же нет крестьянской крепости и все люди свободными являются.
– Не являются, а считаются, – поправил Федор истопника.– Крепости крестьянской за боярином или монастырем, там конечно нет, но есть крепость посильнее – это крепость денег.
Крестьянской земли общинной, как на Руси там нет вовсе, а есть владение землей: хочу пашу сам на земле, хочу сдам землю в пользование кому-либо за оброк, а то и вовсе можно землю продать и уйти в города заниматься другим ремеслом, но это в случае, если ты никому не должен денег. Если же ты в долгу, то обязан вернуть долг, прежде чем уйти в другое место на жительство.
За неуплату долга тебя могут наказать телесно, или отобрать дом, если он есть или заставить этот долг отработать. Потому простой человек в Европах вроде бы и свободен, но если без долгов, а таких там совсем немного. Знатные люди так же живут, как и наши бояре, потому что земля почти вся в их собственности. Отсюда и города у них тесные с узкими улочками и домами в три-четыре окна вверх, что земли мало, под города было выкуплено их жителями у этих бояр, которые называются графьями, лордами или баронами – как не назови, а хрен редьки не слаще.
В деревнях ихних я не бывал и про жизнь крестьянскую мало что могу сказать, но в городах насмотрелся и скажу тебе Аким, что такой жизни я себе, холопу, не пожелаю. Едят они всякую дрянь, даже лягушек едят в городе Париже, прости Господи.
Люди там почти не моются, бань нет вовсе, нужников при домах нет и потому дерьмо свое люди прямо из окон выплескивают на улицу не глядя. Был случай, когда царь Петр со свитой пошел прогуляться по Парижу и его там на улочке облили из окна дерьмом, – он так взбеленился, что хотел убить того жителя, что облил его грязью, но толмач сказал, что этого делать нельзя, такие здесь правила, которых житель не нарушал.
И вот представь себе Аким, что идешь ты по улице, узенькой, что две подводы не смогут разъехаться, и вдруг из окна тебя обольют дерьмом, захотел бы ты такой жизни? Нет, и я не хочу. Нужников там нет вовсе, и люди прямо на улице справляют нужду бесстыдно. Я этим делом, как золотарь, занимаюсь здесь и потому знаю, что говорю. Ты бы, Аким, интересовался ихними печками, а я интересовался нужниками, которых там нет, впрочем, и печек в домах тоже нет, а есть камины, как их зовут – это когда огонь горит свободно, а дым уходит в трубу вместе с теплом.
Не ведаю я, чему там царь Петр хотел обучиться, только мне в этих Европах ничего хорошего не показалось. Ну, как там жить, если города их будто выгребная яма пахнут, по улицам дерьмо лежит, а люди не моются в банях – одно слово – латиняне. Про город Париж я уже говорил, так вот, подъезжая к городу, еще верст за десять начинаешь чуять запах дерьма, если ветер дует с той стороны. Москва хоть и будет поменьше Парижа, но зато без запаха нужника стоит.
Я тебе так Аким скажу: чем по границам шастать и иностранные обычаи перенимать, надо здесь людям русским свободу дать, чтобы интерес к делу проявился, а дальше наш народ православный своим умом все ремесла освоит и новые заведет, которые Европам этим и не снятся.
Федор хотел еще что-то сказать Акиму, но здесь послышался шум от повозок – это царь приехал с Немецкой слободы и золотарь поспешил к царским покоям, чтобы быть начеку и выполнить уход за царем, если в этом будет надобность.
Нарва
Во время «большого посольства» в Европу, где Петр находился около полутора лет, перенимая европейские манеры и как бы обучаясь ремеслам, а на деле пьянствуя и развратничая, европейские монархи Польши, Дании, Австрии и Пруссии всячески подталкивали русского царя на войну со Швецией, которая успешно громила войска этих государств своим 30-ти тысячным, великолепно выученным войском.
Монархи убеждали Петра, что без выхода к Балтийскому морю, Россия никогда не будет европейским государством и царь проникся идеей отвоевать Прибалтийские земли, утраченные Россией во времена смуты после царя Ивана Грозного.
Царь Иван Грозный стремился овладеть Прибалтикой и вернуть России исконные земли, где даже основные города носили русские названия: Иван-город, Юрьев, Орешек и другие. Царю Ивану не удалось выстоять против Польши и Швеции одновременно, и Прибалтийские земли были отторгнуты от России.
Борис Годунов пытался занять Нарву, царь Алексей Михайлович, отец Петра, осаждал Ригу, но эти попытки не принесли успеха, против сильной армии шведов.
Затем, по Столбовскому миру со шведами, Русь уступила Прибалтику шведам, чтобы сохраниться как государство, ибо Швеция, вкупе с Польшей, в то время вполне могли договориться о разделе Руси между собой.
Софья, будучи у власти, не решилась на войну со Швецией, полагая, что победы над турками и захват Крыма будут более выгодны Московии, нежели пустынные Прибалтийские земли.
Да, для торговли с Европой, учитывая войны европейцев: Польши, Саксонии, Австрии, Франции и Швеции и Дании между собой, Прибалтика была важна, но традиционная торговля через Архангельск вполне позволяла обмениваться товарами в летнее время, когда Белое море освобождалось ото льдов и иностранные корабли спокойно, в обход Норвегии, совершали плавание на Русский север, загружаясь пенькой, ворванью, мехами, лесом и зерном – традиционными товарами Руси для торговли с Европой.
Кроме Архангельска торговля, в небольших размерах, велась и через незамерзающий зимой порт Мурманск, освоенный поморами задолго до царствования Романовых.
Конечно, продвижение Руси на юг к теплым морям было более выгодно для развития страны и потому с такой настойчивостью все правители от Рюриковичей и до Романовых, пытались отвоевать южные земли, примыкающие к морям Каспийскому, Черному и Азовскому, чтобы на этих землях, по существу ничейных, развить земледелие, и обеспечить торговлю с Востоком и Западом, оказавшись между ними в случае успеха южных походов.
Петр, следуя традиции, свои первые походы тоже организовал на юг и со второй попытки овладел Азовом, обеспечив России выход к Азовскому морю, через которое, усилившись флотом, обеспечивался выход в Черное море, когда-то называвшееся Русским морем, а теперь ставшее внутренним морем Османской империи, которая захватила все его побережье вокруг.
Однако, вместо того, чтобы развивать успех и с помощью флота, построенного под Воронежем, освободить Крым, который еще во времена Киевской Руси был исконно русским и даже крещение Руси произошло на Крымской земле в Херсонесе при князе Владимире, Петр, забросив все дела, уехал в Европу, где метался из страны в страну, вызывая брезгливость и отвращение своими манерами, замашками и внешностью.
Но европейские правители смогли внушить Петру мысль об освобождении Прибалтики от шведов, обещая, что в этом случае Россия станет европейским государством наподобие Польши, которая в это время находилась на грани развала под ударами шведских войск.
Государи Европы полагали, что Россия должна ограничиться восточной частью Балтии, именуемой Ингерманландией и, возможно, Карелией и Финляндией, которые их не интересовали, а западную Прибалтику: Эстляндию и Лифляндию захватят Польша и Саксония.
Петр проникся идеями своих новых европейских друзей, каковыми считал королей Польши, Саксонии и Дании и возвратившись в Москву и залив стрелецкой кровью половину страны, возвратился к мысли отвоевать Прибалтику у шведов.
С этой целью он окончательно перевел армию на западный манер построения, отказавшись, почти, от стрелецких полков. Основой войска нового вида стали потешные полки Петра: Измайловский, Преображенский и Семеновский, под командованием иностранных офицеров, хотя эти полки и не показали воинской доблести в походах на Азов, но были вполне надежны для расправ со стрельцами и любыми другими смутьянами, не признающих власти Петра и считающих его нехристем и даже исчадием ада.
Сказку о том, что Петр организовал регулярную армию впервые в России, распространяли прихлебатели царя и его зарубежные советники, которые знали, как царь Петр падок на лесть и безудержную похвалу, и делал все возможное, чтобы иноземцы в Москве и в Европе считали Петра европейцем истинным. Еще при царе Алексее русское войско наполовину состояло из полков иноземного строя, служивших постоянно, а не от случая к случаю, как полки стрелецкие. И платье иноземное для этих войск было введено еще при Федоре Алексеевиче, который хотя и правил всего шесть лет, но показал себя вполне разумным правителем, не чуждавшимся новшеств, если считал их полезными для государства.
В конце 1699 года был заключен наступательный союз польского короля Августа с царем Петром против Швеции и по этому договору царь обязался начать военные действия тотчас как будет заключен мир с Османской империей.
Договор этот был тайным, поскольку Петр продолжал уверять шведов, почуявших неладное, в своем миролюбии и поддержке мирного договора, имеющегося со шведами, о чем шведский посланник сообщал, что намерение Петра напасть на Ревель и Ригу, несмотря на только что возобновленный мир со Швецией, не заслуживает внимания, поскольку царь расположен к миру, несмотря на случившийся эпизод в Риге.
Этот эпизод, оскорбивший царя, случился во время поездки в Европу, когда Великое посольство во главе с Лефортом, где и сам царь Петр был участником, под именем Михайлов, однако все знали, что это царь Петр. Так вот, прибыв в Ригу без предупреждения, посольство в составе двухсот человек и сотен подвод не нашло в Риге достаточного пропитания людям и фуражу коням, поскольку Рига в это время испытывала нехватку продовольствия и не могла в нужной мере обеспечить посольство всем необходимым.
Царь, как всегда, пришел в ярость, но не в силах выместить ее на шведской Риге, затаил злобу, чтобы в дальнейшем использовать это обстоятельство как повод для нарушения мирного договора при нападении на шведские земли.
Его европейские союзники вели себя не лучше, и Польша заключила тайный договор с Лифляндским рыцарством, для совместной обороны, если царь Петр захватив Нарву, будет пытаться овладеть Эстляндией и Лифляндией.
В общем, европейские политики вели себя как пауки в банке, жаля и кусая друг друга, но объединяясь и кусая Россию вместе, если она начинала отстаивать свои интересы или пыталась восстановить свои справедливые границы, утраченные в предыдущее времена смуты и разлада в Государстве Российском, когда на престоле оказывались самозванцы и бояре, после того, как царская власть Рюриковичей прервалась на Иване Грозном и его сыне – Федоре Иоановиче.
Но вступать в открытую войну со Швецией, имевшей лучшее европейское войско, царь Петр опасался и выжидал подходящего момента, который по его разумению наступил, когда в Швеции сменился король и вместо умершего Густава на престол взошел юный Карл XII, продолживший войну против четырех европейских государств.
Петр намеревался напасть на Швецию внезапно и подло: без объявления войны и при наличии мирного договора и это свое нападение царь осуществил вполне успешно.
В ноябре 1699 года «Август (Польский) и Петр I официально оформили военный союз против Карла XII, а через несколько дней «Петровская дипломатия внушает «шведскому посольству, прибывшему в Москву специально для выяснения, что не имеет к скандинавам никаких претензий и будет свято соблюдать условия последнего мира».
Узнав о заключении мира с турками в августе месяце, Петр собирает войско и двигается к Нарве, полагая «ударом в спину воюющего сразу на три фронта соседа (Швеции), в данный момент находящегося аж за морем под стенами далекого Копенгагена, где по всем расчетам войско Карла должно было увязнуть слишком надолго… Против его (Петра) шестидесятитрехтысячного войска в самой Нарве находился крепостной гарнизон:
«Шведский гарнизон Нарвы и Иван-города имел 1,9 тыс. чел» и несмотря на это совершенно не собирался ему сдаваться без боя, чему Петр, придя в Ливонию со своим воинством и был столь поразительно удивлен».
«Петр не просто забрался грабить своего воюющего с коалицией четырех европейских государств соседа, отделенного от него на данный момент Балтийским морем. Сосед же вел затяжную изнуряющую войну на три фронта и не имел никакой возможности в какие-либо даже самые ближайшие месяцы вообще появиться в Ливонии, так как шведский флот был заблокирован англичанами, а потому и должен был стоять в бездействии. Высадке же десанта в Ливонии к тому же должен был воспрепятствовать участвующий в коалиции воюющих со Швецией европейских держав король Польский и Саксонский – Август».
«Он (Петр) не знал, что условия Травендальского мира, которые должен был принять его союзник (король Датский) были подписаны в тот самый день, когда русская армия тронулась в поход».
Подписав мир, Карл бросается на выручку Нарвы. Воспользовавшись дурной погодой и обманув английский флот, Карл погрузил часть своего войска на суда и высадился в Ливонии.
«Высадка в Ливонии, куда дурная погода помешала привести часть полков, была безумием…»
«Чтобы достигнуть со своими восемью тысячами человек Нарвы, Карл должен был, сделав переход через совершенно пустынную местность, перейти узкую, перерезанную ручьями долину. Если бы она была укреплена, пришлось бы остановиться. Но Карл, продвигаясь вперед, продолжает вести свою рискованную игру. Солдаты изнемогли: лошади не ели два дня».
«Петр не ожидал найти шведского короля в Ливонии. Он предполагал, что ему достаточно долго придется воевать с королем датским. Он весело отправился во главе своей гренадерской роты, рассчитывая на легкий успех. Явившись к городу (Нарве) 27 сентября, он был удивлен тем, что город, по-видимому, приготовился к серьезной обороне».
«Войско, которое решило было начать осаду Нарвы, состояло из трех вновь сформированных дивизий под командой генералов Головина, Вейде и Репнина, из 10500 казаков и нескольких иррегулярных отрядов – всего 63520 человек. Дивизия Репнина, насчитывающая 10834 человека и малороссийские казаки, находились еще в пути, что сводило наличный состав к 40000 человек. Но Карл XII со своей стороны не мог привести осажденному городу больше 5300 пехоты и 3130 конников».
«Кроме того, принужденное идти от Везенберга по совершенно опустошенной стране, отделенное от своего лагеря и вследствие этого вынужденное нести с собой жизненные и боевые припасы, это войско, очутившись после ряда усиленных переходов перед врагом, в пять раз более многочисленным, оказалось в состоянии полного истощения».
«Узнав о приближении восемнадцатилетнего мальчишки Карла с восемью тысячами, Петр повторяет свой уже испытанный прием: покидает нарвскую армию, как одиннадцать лет тому назад покинул свои потешные войска, – а потешных у него по тем временам бывало до тридцати тысяч. Софья же сконцентрировала против них триста стрельцов».
«Петр вообще был человек очень сильного воображения, чрезвычайной мнительности и опасливости, переходящей в робость и испуг».
«Карл быстро шел к Нарве и утром 19 ноября явился перед русским лагерем, имея около 8500 человек войска и 37 орудий».
«К 19 ноября численность русских войск составила около 35 тыс. чел. (27 тыс. пехоты, 1500 драгун, 6500 полистной конницы) и 173 орудий».
Русская армия была деморализована бегством царя: «Карл проникает в неприятельский лагерь и через полчаса овладевает им».
«Часть русских тонет в Нарве. – Если бы на реке был лед, – сказал Карл насмешливо, – то я не знаю, удалось бы нам убить хоть одного человека».
«Пехота бросилась через мост, мост обрушился, и много народа потонуло в Нарве».
«Победитель так боялся своих побежденных, что за ночь поспешил навести новый мост, чтобы помочь им поскорее убраться».
«Пришлось этой, сорокатысячной толпе соглашаться на любые, самые унизительные условия, выдвигаемые им горсткой шведов, пришедших в свой разрушенный дом. И Петровские птенчики архилюбезно: «согласились отступить, отдавши шведам артиллерию»
«Имея пятикратное преимущество в людях и такое же в орудиях, царская армия позорно сдалась и отступила, оставив орудия шведам и потеряв половину состава».
«Весть о Нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он выехал в Новгород» («Вот как неслабо драпанул «великий» от противника впятеро уступающего числом»).

