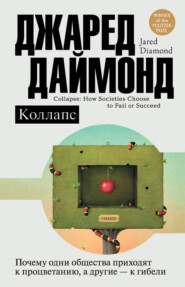
Полная версия:
Коллапс. Почему одни общества приходят к процветанию, а другие – к гибели
На исходе полинезийского периода истории острова Пасхи разрушению подверглись не только старое политическое мировоззрение, но и старая религия, влияние которой упало вместе с властью вождей. Предания гласят, что последние аху и моаи были воздвигнуты около 1620 года, в том числе и Паро – самая высокая статуя. Поля в горах, урожай с которых выращивался под надзором надсмотрщиков из правящей касты и шел на питание рабочих, занятых в производстве и установке статуй, между 1600 и 1680 годами были постепенно покинуты. То, что размеры статуй увеличивались, может не только указывать на соперничество стремившихся превзойти друг друга вождей, но и содержать в себе адресованный предкам крик отчаяния, вызванный неотвратимым разрушением окружающей среды и привычного уклада жизни. Около 1680 года, во время военного переворота, враждующие кланы переключились с установки все увеличивающихся статуй на свержение статуй противника, опрокидывая их на расположенные перед аху плиты с таким расчетом, чтобы статуя попадала на эти плиты и разбивалась. Таким образом, как мы еще увидим в частях 4 и 5, посвященных цивилизациям анасази и майя, крах, постигший цивилизацию острова Пасхи, настал без промедления вслед за достижением обществом пика своего развития – максимальной с момента заселения численности населения, кульминации монументального строительства и воздействия на окружающую среду.
Нам неизвестно, как далеко зашло свержение статуй ко времени первых визитов европейцев, потому что Роггевен в 1722 году высаживался ненадолго только на один из берегов, а испанская экспедиция Гонсалеса в 1770 году вообще не оставила никаких сведений, кроме записи в судовом журнале. Первым из европейцев, кто сделал более или менее удовлетворительное описание своего посещения, был капитан Кук в 1774 году. Он пробыл на острове четыре дня, отослал отряд для разведки внутренних районов, кроме того, его сопровождал таитянец, чей полинезийский язык был в достаточной мере схож с местным наречием, что позволило ему общаться с аборигенами. Кук в своем описании отметил как свергнутые статуи, так и стоящие на своих постаментах. Последнее упоминание европейцами стоящих вертикально статуй относится к 1838 году; в 1868 году уже ни одна не была отмечена как стоящая. Предания гласят, что последней свергнутой статуей была Паро (примерно в 1840 году), предположительно воздвигнутая некой женщиной в честь своего мужа; враги ее семьи опрокинули статую так, что она переломилась посередине.
Сами аху были осквернены тем, что некоторые лучшие плиты вынули для сооружения ограждений для огородов (манаваи), разбитых в непосредственной близости к аху, другие плиты были использованы для устройства погребальных ям, куда складывали тела умерших. Как результат, в настоящее время те аху, которые не восстановлены (т. е. большинство из них), выглядят на первый взгляд всего лишь грудами камней. Когда мы с Джо Энн Ван Тилбург, Клаудио Кристино, Соней Хаоа и Барри Ролеттом объезжали остров Пасхи и мимо нас один за другим проплывали аху – груды булыжника с обломками статуй, – мы не могли не думать о гигантских усилиях, столетиями приносимых в жертву строительству аху, вырубанию, транспортировке и установке моаи, затем вспоминали, что не кто иной, как сами же островитяне разрушили созданное их же предками, и наши сердца преисполнялись неизбывным ощущением трагедии.
Разрушение аборигенами острова Пасхи созданных пращурами моаи напоминает мне русских и румын, свергавших статуи Сталина и Чаушеску, когда коммунистические режимы в их странах потерпели крах. Должно быть, островитяне были преисполнены долгое время не находившим выхода чувством гнева к своим вождям, подобно тому как это позже случилось в России и Румынии. Интересно, сколько статуй сбрасывалось поодиночке, время от времени, личными врагами владельца статуи, а сколько было разрушено в моменты внезапных вспышек ярости и разочарования, как это имело место при крушении коммунизма? Еще это мне напомнило трагический для культуры и верований туземцев случай, о котором я услышал в 1965 году в горной деревушке Бомаи в Новой Гвинее, где назначенный в Бомаи христианский миссионер с гордостью рассказывал мне, как однажды призвал новообращенных «собрать их языческие артефакты» (т. е. свое культурное и художественное наследие) на местном аэродроме и сжечь их – и они послушно это выполнили. Вполне возможно, что мататоа на острове Пасхи отдавали такие же приказания свои подчиненным.
Но я не хочу изображать общественное развитие острова Пасхи после 1680 года полностью негативным и деструктивным. Оставшиеся в живых приспосабливались как могли – и в повседневной жизни, и в религии. Не только каннибализм пережил бурный рост после 1650 года, но и количество курятников: в самых древних кучах отбросов, раскопанных в Анакена Дэвидом Стедменом, Патрисией Варгас и Клаудио Кристино, куриные кости составляют менее 0,1 процента от общего количества костей животных. Мататоа подкрепили захват власти принятием религиозного культа, основанного на поклонении богу Макемаке, который в прежние времена был всего лишь одним из многих в пантеоне богов острова Пасхи. Религиозные церемонии совершались в деревне Оронго, на краю кальдеры Рано Кау, которая возвышается над тремя самыми большими прибрежными островами, куда постепенно перебрались гнездящиеся морские птицы. Новая религия создала новый изобразительный стиль, особенно выразившийся в петроглифах (резьбе по камню) – изображениях женских гениталий, ловцов птиц и самих птиц (в порядке убывания количества петроглифов), вырезанных не только на монументах в Оронго, но и повсюду на поваленных моаи и пукао. Каждый год во время религиозной церемонии культа Оронго устраивались состязания между мужчинами, заключавшиеся в том, чтобы переплыть холодный, кишащий акулами пролив шириной в одну милю, отделяющий мелкие острова-спутники от собственно острова Пасхи, найти первое отложенное в этом сезоне темной крачкой яйцо и вернуться назад, не повредив его. Победитель провозглашался «птицеловом года» на весь срок до следующего состязания. Последняя церемония Оронго состоялась в 1867 году и была охарактеризована католическими миссионерами как пережиток прошлого острова Пасхи, которое уничтожалось уже не только самими туземцами, но и всем окружающим миром.
Печальную историю европейского влияния на аборигенов острова Пасхи можно изложить вкратце. После кратковременного пребывания капитана Кука в 1774 году на остров тонкой струйкой потянулись европейцы. Как свидетельствуют документы в отношении Гавайев, Фиджи и многих других островов Тихого океана, ответственность за привнесение на эти острова своих болезней, от которых погибло много аборигенов, не имевших естественных защитных барьеров от неизвестных инфекций, лежит на европейцах, хотя первым конкретным упоминанием такого рода эпидемий была оспа в 1836 году. Опять же, как и на других тихоокеанских островах, захват туземцев в плен для продажи в рабство начался на острове Пасхи примерно в 1805 году и достиг кульминации в 1862–1863 годах. Это был самый зловещий год в истории острова, когда больше двух десятков перуанских кораблей захватили около 1500 человек (что составляло примерно половину уцелевшего к тому времени населения) и продали их на невольничьем аукционе для использования на добыче гуано и других тяжелых работах. Большая часть пленников погибла в неволе. Под давлением международного общественного мнения Перу вернула на родину двенадцать выживших пленников, которые привезли с собой на остров следующую эпидемию оспы. Католические миссионеры поселились тут в 1864 году. К 1872 году на острове Пасхи осталось только 111 туземцев.
Европейские торговцы завезли в 1870-х годах на остров овец и заявили о своих правах на владение. В 1888 году чилийское правительство аннексировало остров Пасхи, фактически ставший овцеводческой фермой, которая управлялась базирующейся в Чили шотландской компанией. Всех туземцев принудили проживать в одной деревне и работать на компанию, стараясь оплачивать их труд продукцией компании, а не деньгами. Восстание островитян в 1914 году было подавлено прибывшим чилийским военным кораблем. Выпас принадлежащих компании овец, коз и лошадей вызвал эрозию почвы и погубил большую часть того, что еще оставалось от местной растительности, включая последние дожившие примерно до 1934 года экземпляры хаухау и торомиро. Аборигены острова Пасхи стали считаться гражданами Чили только в 1966 году. Сегодня коренное население острова Пасхи переживает период возрождения национального самосознания, экономика подпитывается постоянным воздушным сообщением с Сантьяго и Таити – самолеты чилийской национальной авиакомпании прибывают несколько раз в неделю, привозя партию за партией привлеченных знаменитыми статуями туристов (среди которых были однажды и мы с Барри Ролеттом). Однако даже в течение короткого визита нетрудно заметить существующее напряжение в отношениях между аборигенами и пришлыми чилийцами, в количественном отношении те и другие составляют примерно равные половины населения острова.
Знаменитая письменность ронго-ронго была, несомненно, изобретена жителями острова Пасхи, но нет никаких доказательств ее существования до 1864 года – первого упоминания о ней проживавшего на острове католического миссионера. Все 25 сохранившихся табличек с письменами появились на свет уже после контакта с европейцами; некоторые из них сделаны из отсутствующих на острове пород деревьев или весел европейцев, а некоторые, возможно, были изготовлены туземцами специально для продажи представителям епископа Таити, который заинтересовался письменностью и разыскивал образцы. В 1995 году лингвист Стивен Фишер объявил о расшифровке текстов ронго-ронго, по его мнению, это записанные песнопения, но его интерпретация оспаривается другими учеными. Большинство специалистов по острову Пасхи, включая Фишера, пришли к единому мнению, что изобретение системы записи ронго-ронго было вызвано первым контактом туземцев с письменностью как таковой во время высадки испанцев в 1770 году или же последствиями перуанского рейда за рабами в 1862–1863 годах, в ходе которого очень многие носители передаваемых изустно знаний погибли.
Отчасти из-за связанного с европейцами периода эксплуатации и угнетения как среди коренных жителей острова Пасхи, так и среди ученых существует неприятие, вопреки всем приведенным мною подробным доказательствам, того положения, что в действительности туземцы сами, еще до прибытия Роггевена в 1722 году, нанесли непоправимый ущерб своей окружающей среде. По существу, островитяне говорят так: «Наши предки никак не могли так поступать», им вторят прибывающие ученые: «Эти милые люди, которые нам так понравились, никогда бы так не поступили». Например, Мишель Орлиак писал о подобных проблемах изменения окружающей среды на Таити: «…по крайней мере, вполне возможно – если не сказать больше, – что изменения в окружающей среде происходят скорее по естественным причинам, чем в результате человеческой деятельности. Это весьма спорный вопрос, на который я не претендую дать окончательный ответ, даже если моя привязанность к полинезийцам побуждает меня выбирать природные явления (например, циклоны) для объяснения разрушений, нанесенных окружающей среде». Против тезиса о вине самих аборигенов было выдвинуто три возражения или альтернативных теории.
В первом высказывалось предположение, что причиной отсутствия лесов на острове Пасхи, которое отметил Роггевен в 1722 году, была не вырубка деревьев туземцами, но некое точно не установленное разрушение, вызванное неотраженными в истории визитами на остров европейцев еще до Роггевена. Вполне возможно, что хотя бы одно, а то и больше таких незафиксированных посещений острова произошло: множество испанских галеонов бороздили просторы Тихого океана в XVI и XVII веках, и спокойная, бесстрашная, любопытная реакция туземцев на появление экспедиции Роггевена наводит на мысль, что европейцы были здесь не в диковинку. В противном случае от людей, живущих в полной изоляции и считающих себя единственными в мире, следовало бы ожидать более резкой реакции. Тем не менее мы не обладаем какими-либо сведениями относительно визитов на остров Пасхи до 1722 года, да и непонятно, как это могло повлечь за собой полное исчезновение лесов. Даже для времен, предшествующих экспедиции Магеллана, который первым из европейцев пересек Тихий океан в 1521 году, существует большое количество свидетельств, подтверждающих массированное воздействие человека на природу острова Пасхи: вымирание всех видов наземных птиц, исчезновение дельфинов и тунца из рациона аборигенов, снижение количества пыльцы лесных деревьев из кернов Фленли перед 1300 годом, обезлесение полуострова Поике около 1400 года, отсутствие датированных радиоуглеродным методом пальмовых орехов после 1500 года и так далее.
Второе возражение состоит в том, что исчезновение лесов могло произойти из-за изменения климатических условий, таких как засуха или появление Эль Ниньо. Меня бы совершенно не удивило, если бы и для острова Пасхи появились свидетельства о роли изменения климата в исчезновении лесов, поскольку мы увидим, как ухудшение климата обострило человеческое воздействие на окружающую среду на примерах анасази (часть 4), майя (часть 5), гренландских норвежцев (части 7 и 8) и, вероятно, многих других цивилизаций. Но в настоящий момент мы не располагаем информацией об изменениях климата на острове Пасхи в самый важный период с 900 по 1700 год: неизвестно, становился ли климат суше, ветренее и менее благоприятствующим для выживания лесов (как считают критики) или более влажным, менее ветреным и в целом более благоприятным? Но, как мне кажется, существуют неотразимые доводы против того, что вымирание лесов и птиц было обусловлено именно климатическими изменениями: исследования пальмовых стволов, упавших под напором потоков извергавшейся из вулкана Теревака лавы и застывших в ней, показывают, что гигантские пальмы на острове Пасхи существовали в течение нескольких сотен тысяч лет. Аналогично проведенный Фленли анализ осадочных кернов выявил в образцах наличие пыльцы пальмы, торомиро и еще нескольких других видах деревьев в промежутке между 38 000 и 21 000 лет назад. Следовательно, за столь долгое время существования растительность острова Пасхи пережила бесчисленное количество засух и проявлений Эль Ниньо, поэтому было бы весьма странным, если бы все произраставшие здесь деревья терпеливо дожидались, чтобы всем одновременно упасть замертво, именно той засухи или того проявления Эль Ниньо, которые последовали бы сразу за появлением здесь человеческих существ. В действительности результаты исследований Фленли показывают, что холодный засушливый период на острове Пасхи в период между 26 000 и 12 000 лет назад, более суровый, чем любое похолодание где-либо на планете в последнее тысячелетие, вызвал лишь отступление верхней границы леса с нагорий ниже в долину, откуда впоследствии леса постепенно заняли прежние зоны распространения.
Третье возражение формулируется так: аборигены острова Пасхи не могли быть столь неблагоразумны, чтобы вырубить все деревья, когда последствия этого были столь очевидны для них. Катрин Орлиак выразилась так: «Зачем уничтожать лес, который каждому человеку (т. е. жителю острова Пасхи) нужен для собственного физического и духовного выживания?» Это, конечно, ключевой вопрос, и он занимал не только Катрин Орлиак, но и моих студентов из Калифорнийского университета: он адресован каждому – и мне в том числе, – кто размышлял о нанесенном своими же руками ущербе собственной окружающей среде. Я часто задавал себе такой вопрос: «Что говорил человек в тот самый момент, когда рубил последнюю пальму?» Может, подобно современным лесорубам, кричал: «Работу, а не деревья!» Или: «Техника решит все наши проблемы, не волнуйтесь, мы найдем замену дереву». Или: «У нас нет доказательств, что нигде на острове нет больше пальм, мы нуждаемся в исследованиях, предлагаемый вами запрет на вырубку непродуман, преждевременен и продиктован паникой». Схожие проблемы встают перед каждым обществом, которое не уберегло свою среду обитания. Когда мы вернемся к этой проблеме в главе 14, то увидим, что существует целый ряд причин, почему, несмотря ни на что, многие цивилизации совершают такие ошибки.
И все же мы пока так и не решили вопрос, почему именно острову Пасхи выпала доля послужить столь ярким примером полного сведения лесов. В конце концов, в Тихом океане разбросаны тысячи населенных островов, практически все обитатели которых вырубали деревья, корчевали лес под посевы, жгли дрова, строили каноэ, использовали древесину и канаты в домашнем хозяйстве и для прочих целей. И тем не менее среди всех этих островов только три – все в Гавайском архипелаге – по масштабам вырубки лесов приблизились к острову Пасхи: два маленьких островка – Некер и Нихоа и один большой – Ниихау, причем климат на всех этих трех островах гораздо засушливее, чем на острове Пасхи. На Нихоа один вид пальмы все же остался, а что касается Некера – крошечного островка, чья площадь едва достигает сорока акров, – то здесь и вовсе не ясно, существовали ли на нем когда-либо деревья. Почему же только аборигенам острова Пасхи удалось извести все деревья до одного? Предлагаемые время от времени ответы наподобие того, что «пальмы острова Пасхи и торомиро очень медленно растут», явно ошибочны, ибо не в состоянии объяснить, почему по меньшей мере 19 других видов деревьев и растений, точно таких же или подобных тем, что до сих пор широко распространены в Восточной Полинезии, на острове Пасхи исчезли, а на остальных островах нет. Подозреваю, что за этой проблемой стоит нежелание самих островитян и некоторых ученых признать тот факт, что аборигены виноваты в полном уничтожении лесов, потому что такое умозаключение будет подразумевать их исключительные, не имеющие себе равных в Океании нерадивость и недальновидность.
Мы с Барри Ролеттом были весьма озадачены этой очевидной уникальностью острова Пасхи. В действительности это лишь часть более общей загадки: почему уровень обезлесения вообще неодинаков на островах Океании. Например, Мангарева (рассмотрим в следующей главе), большая часть островов Кука и Аустрал, а также подветренные стороны главных островов Гавайев и Фиджи в значительной степени обезлесены, хотя и не полностью, как остров Пасхи. На островах Общества и Маркизах, наветренных сторонах главных Гавайских и островов Фиджи сохранились коренные леса в горных местностях, а в долинах – вперемешку вторичные (выросшие на месте коренных) леса, папоротники и луга. Тонга, Самоа, большинство Соломоновых и островов Бисмарка и Макатеа (самый крупный из островов Туамоту) в значительной степени покрыты лесами. Как объяснить все эти различия?
В поисках нужной информации Барри начал тщательно изучать бортовые журналы первых европейских исследователей Тихого океана, систематизируя описания островов, особое внимание уделяя «внешнему виду» – наличию растительного покрова и т. д. Это позволило ему определить уровень вырубки лесов на 81 острове по состоянию на момент появления там первых европейцев, т. е. спустя сотни и тысячи лет освоения их аборигенами Тихого океана, но до появления европейцев. Для этого 81 острова мы составили список девяти физических факторов, вариации которых от острова к острову, как мы полагали, могли способствовать объяснению различия в уровне обезлесения. Некоторые тенденции были столь очевидны, что хватило и беглого взгляда на данные, но мы подкрепили эти значения статистическим анализом множества других данных, с тем чтобы иметь возможность обосновать любую кривую конкретными цифрами.
Что приводит к обезлесению на островах Тихого океана?
Обезлесение сильнее на:
• засушливых островах, чем на влажных;
• более холодных островах умеренных широт, чем на теплых экваториальных островах;
• старых вулканических островах, чем на молодых вулканических островах;
• островах, где отсутствует выпадающий в виде осадков пепел, чем на островах с такими осадками;
• островах, находящихся на более значительном расстоянии от центральноазиатского пыльного шлейфа, чем на тех, которые располагаются ближе;
• островах, на которых отсутствуют макатеа (приподнятые борты коралловых рифов), чем на тех островах, где они есть;
• низких островах, чем на высоких;
• более удаленных островах, чем имеющих близких соседей;
• небольших островах, чем на крупных.
Оказалось, что все девять факторов вносят свою лепту в конечный результат (см. список выше). Важнейшей стала разница в значениях количества осадков и широты: засушливые острова и более холодные острова, находящиеся дальше от экватора (в более высоких широтах), оказались в итоге более обезлесенными, чем влажные экваториальные острова. Это вполне предсказуемо: интенсивность роста растений и всхожести семян растет с увеличением количества осадков и повышением температуры. Если воткнуть росток в землю во влажном жарком месте вроде низин Новой Гвинеи, он в течение года взметнется на 20 футов в высоту, но в прохладном и засушливом месте дерево будет расти намного медленнее. Соответственно, возобновление лесов возможно на влажных жарких островах с умеренным темпом рубки деревьев, позволяющим этим островам оставаться под лесным покровом.
Влияние трех других составляющих – возраста острова, выпадения пепла и пыли – мы не смогли оценить, поскольку не знакомы с научной литературой, посвященной тематике поддержания плодородности почвы. Старые (в геологическом смысле) острова, на которых вулканическая активность не проявлялась на протяжении больше миллиона лет, оказались в итоге более обезлесенными, чем молодые, вулканически активные острова. Это вызвано тем, что свежие лава и пепел содержат необходимые для роста растений питательные минеральные вещества, которые на более старых островах оказываются в большей степени вымыты дождями из почвы. Одним из двух главных способов пополнения содержания минералов в почвах океанических островов является выпадение вулканического пепла, выбрасываемого в атмосферу в процессе извержений. Но дно Тихого океана разделено разломом, известным в геологической среде как андезитовая линия. В юго-западной части Тихого океана, с азиатской стороны этой линии, вулканы извергают пепел, который может переноситься ветром на сотни миль и удобрять почву даже на тех островах (таких как Новая Каледония), где нет своих вулканов. В центральной и восточной частях Тихого океана, за андезитовой линией, основным воздушным источником поступления питательных веществ для восстановления плодородия почвы является пыль, переносимая ветрами в верхних слоях атмосферы из степей и пустынь Центральной Азии. Соответственно, острова, находящиеся восточнее андезитовой линии и на дальней стороне азиатского пылевого шлейфа, оказываются более обезлесенными, чем острова в пределах андезитовой линии или располагающиеся ближе к берегам Азии.
Другая переменная требует внимания только для шести островов, состоящих из породы, известной как макатеа, – это, по существу, коралловый риф, выдавленный на поверхность в результате горизонтального сжатия горных пород. Такой тип строения получил название от расположенного в архипелаге Туамоту острова Макатеа, который состоит преимущественно из этой породы. Поверхность Макатеа абсолютно непригодна для пеших прогулок: она вся испещрена глубокими трещинами, острые как бритва кораллы режут обувь, ноги и руки. Когда я впервые столкнулся с макатеа на Реннелле – одном из Соломоновых островов, – то за 10 минут едва преодолел сто ярдов, при этом я подвергался большому риску изрезать ладони об острые камни, когда ненароком их касался, инстинктивно вскидывая руки для поддержания равновесия. Макатеа способен изрезать новые крепкие ботинки за несколько дней ходьбы. Несмотря на то что аборигены Океании каким-то образом ухищряются передвигаться по острову босиком, это не избавляет их от проблем. Никто из тех, кому пришлось перенести страдания, идя пешком по макатеа, не удивился бы, что на островах с макатеа леса в итоге подверглись меньшему опустошению, чем на островах без них.
Остаются три фактора с более сложным воздействием: высота над уровнем моря, удаленность и занимаемая площадь. Возвышающиеся острова имеют тенденцию становиться менее обезлесенными (даже в имеющихся на них низинах), чем плоские низкие острова, потому что горы способствуют возникновению облаков, выпадающие осадки ручьями стекают вниз и орошают низменности, принося с собой вымытые из горных пород минеральные вещества и осажденную атмосферную пыль, тем самым благоприятствуя росту имеющейся растительности. Сами по себе горы могут оставаться покрытыми лесами, если они достаточно высоки или чрезмерно круты для возделывания посевов. Уединенные, обособленные острова более подвержены обезлесению, чем окруженные соседями – вероятно, потому, что у островитян гораздо меньше возможностей тратить время и энергию на посещение других островов для торговли, набегов или заселения; таким образом, вся активная деятельность сосредоточена в пределах собственного острова, что увеличивает нагрузку на окружающую среду. Крупные острова по многим причинам менее подвержены дефорестации (обезлесению), чем небольшие, в частности, включая меньшее отношение длины береговой линии к площади, следовательно, меньше морских ресурсов приходится на одного человека и меньше плотность населения, больше времени требуется для полного сведения всех лесов и больше площади остается непригодной для сельскохозяйственного использования.



