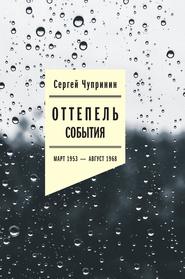скачать книгу бесплатно
В «Правде» статья Алексея Суркова «Под знаменем социалистического реализма», обвиняющая «новомирских» критиков, которые «своими принципиально неправильными положениями наносят прямой ущерб развитию литературы» (с. 3).
Назвав эти обвинения «чистейшей демагогией», Федор Абрамов 27 мая заносит в дневник:
Зачем все это я записываю? Иной мерзавец, прочитав мои записки, пожалуй, еще скажет: «Ба! Да ему наша действительность не нравится». Так знайте же: я не хочу другой власти, кроме советской власти. Вне ее для меня нет жизни. Я за нее кровь пролил на войне, умирал с голоду. Но я хочу, чтобы у нас было меньше заблуждений, ошибок и произвола.
Я хочу, чтобы русский мужик жил лучше. Я хочу большой советской литературы (цит. по: А. Пинский. Значение искренности. С. 607).
26 мая. По приглашению Союза советских писателей в Москву прилетел Жан-Поль Сартр.
27 мая. В «Литературной газете» редакционная статья «Об одной фальшивой пьесе», указывающая, что
в пьесе Л. Зорина <«Гости»>, так же как и в некоторых других произведениях драматургии, есть бьющая на сенсацию мнимая острота, ложное разоблачительство, которое ведет к ложному, неправдивому освещению отношений в советском обществе (с. 3).
В «Правде» статья Всеволода Кочетова «Какие это времена?» – резкая критика романа Веры Пановой «Времена года»:
Хочется задать вопрос: почему В. Панова, писательница отнюдь не начинающая, почему она написала роман «Времена года», по духу его, по проблемам и персонажам лежащий вне нашего времени? Почему в ее романе оказались искаженными образы наших современников – советских людей, в особенности образы коммунистов? (с. 2).
3 июня Вера Панова направила Н. С. Хрущеву письмо с жалобой на несправедливую критику:
Я надеюсь, что ЦК КПСС оградит писателя, стремящегося честно выполнять свой долг перед партией и народом, от огульного охаивания и заушательской проработки (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 221).
Однако 27 августа травлю этого романа продолжил первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Ф. Р. Козлов, заявив в докладе на пленуме обкома КПСС «О состоянии и мерах улучшения идеологической работы в Ленинградской партийной организации», что
партийное бюро допустило захваливание нового романа В. Пановой «Времена года», когда отдельные писатели и критики стали выдавать его за образец художественного произведения о советской действительности. <…> Роман «Времена года» имеет серьезные недостатки, за что он справедливо был раскритикован (цит. по: М. Золотоносов. Праздник на станции Кочетовка // Литературная Россия, 22 июня 2012. С. 8).
Журналы в мае
В «Новом мире» (№ 5) статья Марка Щеглова «„Русский лес“ Леонида Леонова». В «Знамени» (№ 5) повесть Ильи Эренбурга «Оттепель»[60 - «<…> средне беллетристическое, газетно-злободневное произведение, давшее название целому периоду нашей истории» (Р. Орлова, Л. Копелев. С. 13).] (вторая часть – «Знамя». 1956. № 4).
В печати «Оттепель» неизменно ругали, – вспоминал Эренбург, – а на Втором съезде писателей в конце 1954 года она служила примером того, как не надлежит показывать действительность. В «Литературной газете» цитировали письма читателей, поносившие повесть. Я, однако, получил много тысяч писем в защиту «Оттепели» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Т. 3. С. 338).
Название романа «Оттепель», – прокомментировал эту публикацию Давид Самойлов, – было намеком на то, что реформы общественной жизни являются лишь началом, что после оттепели нужно ожидать весны. Этот намек был понят и раздражил среду власти. Эренбург несколько просчитался. Несколько забежал вперед. Он пытался подтолкнуть на новые реформы, определить время как переходное. Власти же считали, что по линии общественных свобод сделано достаточно. Им ближе были авторы, провозгласившие не оттепель, а вечную весну, прямые идеологи нового класса, вроде Грибачева или Кочетова, которым нельзя отказать в точном сословном чутье и которые целой системой иносказаний старались одернуть и припугнуть деятелей либерализации. <…>
Старый слуга Эренбург просчитался. Он был переведен в состав официальной оппозиции и не раз подвергался критике. Будучи человеком казенным, он болезненно переживал свою отставку с места директора конторы либеральных идей (Д. Самойлов. Памятные записки. С. 446–447).
И вот, наконец, позднейшая оценка уже отставленного от дел Н. С. Хрущева:
Эренбург пустил в ход слово «оттепель». Он считал, что после смерти Сталина наступила в жизни людей оттепель. Такую характеристику того времени я встретил не совсем положительно[61 - См., например, реплику Хрущева на заседании Президиума ЦК КПСС 25 апреля 1963 года: «<…> понятие о какой-то оттепели – это ловко этот „жулик“ подбросил, Эренбург <…>».]. Безусловно, возникли послабления. Если выражаться полицейским языком, то мы ослабили контроль, свободнее стали высказываться люди. Но в нас боролись два чувства. С одной стороны, такие послабления отражали наше новое внутреннее состояние, мы к этому стремились. С другой стороны, среди нас имелись лица, которые вовсе не хотели оттепели и упрекали: если бы Сталин был жив, он бы ничего такого не позволил. Весьма отчетливо звучали голоса против оттепели. А Эренбург в своих произведениях очень метко умел подмечать тенденции дня, давать характеристику бегущего времени. Считаю, что пущенное им слово отражало действительность, хотя мы тогда и критиковали это понятие.
Решаясь на приход оттепели и идя на нее сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно побаивались ее: как бы из?за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас и с которым нам будет трудно справиться. Подобное развитие событий возможно во всяком политическом деле. Поэтому мы вроде бы и сдерживали оттепель.
Что значит – захлестнет? Мы боялись потерять управление страной, сдерживали рост настроений, неугодных с точки зрения руководства, не то пошел бы такой вал, который бы все снес на своем пути. Опасались, что руководство не сумеет справиться со своими функциями и не сможет направлять процесс изменений по такому руслу, чтобы оно оставалось советским. Нам хотелось высвободить творческие силы людей, но так, чтобы новые творения содействовали укреплению социализма. Вроде того, что, как говорят в народе, и хочется, и колется, и мама не велит. Так оно и было (Н. Хрущев. Время. Люди. Власть. Т. 4. С. 282–283).
Июнь
1 июня. На собрании секции московских драматургов, где выступали В. Ермилов, И. Кремлев, Г. Мдивани, И. Назаров, А. Симуков, К. Симонов, единодушно признано, что пьеса Л. Зорина «Гости» – серьезная идейная и художественная неудача автора, в ней искажена наша действительность, отсутствует реальная жизненная атмосфера советского общества.
В ряде выступлений подчеркивалось, что одной из главных задач советской литературы является задача создания боевой, острой политической сатиры, произведений, изображающих истинные жизненные конфликты (Литературная газета, 3 июня. С. 2).
Не позднее 3 июня
Секретариат правления ССП отметил, что редакция журнала «Октябрь» допустила грубую политическую ошибку, напечатав в № 4 за 1954 год примечание П. Вершигоры к его статье «Братья по оружию», огульно опорачивающее научный труд Академии Наук УССР «История Украинской ССР» и являющееся недостойным выпадом против целого коллектива ученых, работавших над книгой» (Там же).
Главный редактор «Октября» Федор Панферов и его заместитель Иван Падерин освобождены от своих обязанностей и выведены из состава редколлегии. Главным редактором журнала утвержден Михаил Храпченко.
3 июня. В «Правде» статья Владимира Ермилова «За социалистический реализм» (с. 4–5) – об ошибочных тенденциях в литературе и критике последнего времени (пьесы А. Мариенгофа «Наследный принц», И. Городецкого «Деятель», Л. Зорина «Гости», А. Сурова «Порядочные люди», стихотворение Б. Пастернака «Свадьба», роман Ф. Панферова «Волга-матушка река», статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» и др.).
Снова, – заносит в дневник Сергей Дмитриев, – нудное повторение задов против декаданса (Мариенгоф, Пастернак за стихотворение «Свадьба» в последнем, 4-м, номере «Знамени», где этот поэт после ряда лет вынужденного молчания пискнул при содействии В. Инбер – заведующей отделом поэзии в этом журнале) и вульгарного социологизма (Суров, Панферов). Разумеется, заушательство «новое» Померанцеву, поборнику искренности, вполне ненужной для таких защитников соцреализма, как Ермилов. В самом деле, сколь опасно поучать писателей необходимости искренности, когда от них нужна прежде всего идейность! А идейность на практике – это политиканство, умение чуять, куда ветер дует. Уважение к искренности может только нюх, чутье товарищей писателей попортить (Отечественная история. 1999. № 6. С. 123–124).
В галерее на Кузнецком Мосту открытие единственной прижизненной выставки Степана Эрьзи после его возвращения в СССР в 1951 году.
«Одно могу сказать: очень хорошо! Приветствую Вас, Эрьзя!» – записал в книгу отзывов Сергей Коненков.
6 июня. В Москве на Советской площади (ныне Тверской), напротив Моссовета (ныне здания Мэрии Москвы) открыт скульптурный памятник «основателю города» князю Юрию Долгорукому. Авторы памятника – скульпторы С. М. Орлов, А. П. Антропов, Н. Л. Штамм, архитектурное оформление В. С. Андреева.
Спустя два года на это событие откликнулся Евгений Евтушенко в стихотворении «И другие»:
Я не люблю
в ее надменной ложности
фигуру Долгорукого
на лошади.
(Весь Евтушенко. С. 52)
9 июня. В «Известиях» статья Владимира Орлова «Против обывательщины», резко осуждающая «порочные» публикации, появившиеся в журнале «Театр», культивирующем «чуждые советской печати тенденции и нравы» (с. 2).
10 июня. Полагая, что его
новая поэма «Теркин на том свете» <…> только в силу некоего предубеждения была охарактеризована тов. П. Н. Поспеловым как «пасквиль на советскую действительность», как «вещь клеветническая», Александр Твардовский обращается к членам Президиума ЦК КПСС с письмом, где говорит, что он: «<…> решительно не согласен с характеристикой ее идейно-политической сущности, данной П. Н. Поспеловым. Пафос этой работы, построенной на давно задуманном мною сюжете <…> в победительном, жизнеутверждающем осмеянии „всяческой мертвечины“, уродливостей бюрократизма, формализма, казенщины и рутины, мешающих нам, затрудняющих наше победное продвижение вперед. Этой задачей я был одушевлен в работе над поэмой и надеюсь, что в какой-то мере мне удалось ее выполнить.
<…> Менее всего, конечно, мог я ожидать, что такой характер примет рассмотрение важных литературных вопросов в столь высокой инстанции.
Прошу Президиум Центрального Комитета уделить этим вопросам внимание и разрешить их по всей справедливости» (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 226, 227).
10–11 июня. На партсобрании московских писателей с докладом выступает А. Сурков, подвергший жесткой критике «моральную распущенность» А. Сурова, Н. Вирты, Ф. Панферова, Л. Коробова, Ц. Галсанова, «пасквильные пьесы» А. Мариенгофа «Наследный принц», Л. Зорина «Гости», Н. Вирты «Гибель Помпеева», И. Городецкого «Деятель», Ю. Яновского «Дочь прокурора», Ф. Панферова «Когда мы красивы», «идейно-порочные статьи» В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лифшица, М. Щеглова.
Их статьи – систематическая атака на многолетний плодотворный творческий опыт советской литературы, освещенный политикой партии в области литературы, это атака на основополагающие фундаментальные положения метода социалистического реализма (Литературная газета, 15 июня. С. 1).
Г. Николаева резко критикует сначала привлекшую ее своей мнимой смелостью статью В. Померанцева, которая направлена не против недостатков литературы, а против самой нашей жизни, заушательскую, но написанную с внешним блеском статью М. Лифшица, в которой явно чувствуется злорадство по поводу недостатков разбираемой книги (Там же. С. 2).
Собрание, как сказано в газетном отчете, не удовлетворило зачитанное заместителем главного редактора «Нового мира» А. Дементьевым заявление о признании редакцией своих ошибок. Выступавшие вслед за А. Дементьевым отметили недостаточность этого заявления. Н. Лесючевский, в частности, заявил, что редакция «Нового мира», главный редактор журнала А. Твардовский проявили «идейную незрелость», напечатав статью В. Померанцева. «А в том, как А. Твардовский игнорирует критику этой статьи и линии журнала, сказывается и его зазнайство» (Там же). В заключительном слове А. Сурков остановился на повести И. Эренбурга «Оттепель», подчеркнув, что, при всем осуждении ее недостатков, эту повесть «крупного писателя и общественного деятеля» нельзя ставить «в один ряд с клеветнической пьесой Л. Зорина „Гости“» (Там же).
13 июня. Запись в дневнике Корнея Чуковского:
Был у меня Леонов. Говорит, что вместо Твардовского редактировать «Новый Мир» будет Ермилов (К. Чуковский. Т. 13. С. 170).
15 июня. На общем собрании ленинградских писателей с докладом выступает Валерий Друзин, подвергший критике статьи В. Померанцева и Ф. Абрамова, напечатанные в «Новом мире», повесть И. Эренбурга «Оттепель», роман В. Пановой «Времена года». Из воспоминаний Даниила Гранина о том, как на этом собрании прорабатывали Михаила Зощенко:
Доклад и прения и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из?за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. <…>
Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Это ахнуло, как взрыв, посыпалось, затрещало… Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме» (Огонек. 1988. № 6. С. 9).
М. Зощенко, от которого потребовали объяснений, в частности, сказал:
Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?
<…> В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы. <…> В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что я во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель, и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе – именно о том, что я не советский писатель, – не могу согласиться! <…>
Вот уже восемь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое человеческое достоинство…
<…> Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим! Не могу! <…> Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? По-вашему. Я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган? <…>
У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить! Не надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше, чем устал! Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею (Там же. С. 9–11).
В отчете «Ленинградской правды», озаглавленном «Теснее связь с жизнью!», об этом собрании сказано:
Никого не могло удовлетворить путаное выступление М. Зощенко, свидетельствующее о том, что он до сих пор не только не разобрался в допущенных им ошибках, но и не осознал всей порочности своих позиций (с. 2).
Из отчета «Литературной газеты» (19 июня):
Попытка М. Зощенко оправдать свои порочные позиции, в свое время подвергшиеся справедливой партийной критике, вызвала единодушное осуждение всех участников собрания (с. 2).
Извлечение из стенограммы собрания опубликовано (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 230–247)[62 - Полуслучайно встретившись с Анной Ахматовой 7 июля, Константин Федин излагает в дневнике ее осмотрительную трактовку ленинградских событий:«Все это рисуется ею совсем не так, как передается сплетниками: беда, конечно, в том, что негодники английские студенты, перед к<о>т<о>рыми Зощенко сказал свое неуклюжее слово, по приезде в Лондон расписали в газетах и раздули его выступление как бог знает что… <Зощ>енко затем выступил на собрании ленинград<ских> писателей, желая, по-видимому, оправдаться, и с ним случилась истерика… Вряд ли он избудет теперь свое несчастье…» (Константин Федин и его современники. Т. 1. С. 49–50).].
14–20 июня. Фестиваль венгерских фильмов в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик.
20 июня. Исполком Международного ПЕН-клуба, рассмотрев предложение Союза писателей СССР направить своих представителей на XXVI международный конгресс, проходивший в Амстердаме, постановил:
Любое предложение советских писателей об организации русского центра будет встречено с интересом в духе традиции Пенклуба (Вопросы литературы, 1996, январь – февраль, № 1. С. 228).
21 июня. Василий Шукшин становится кандидатом в члены КПСС.
24 июня. В «Литературной газете» (с. 2–3) статья Николая Лесючевского «За чистоту марксистско-ленинских принципов в литературе» – резкая критика статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе». Указано, что «проникновение подобной статьи в печатный орган Союза советских писателей – серьезный сигнал, над которым следует очень задуматься руководству Союза писателей».
29 июня. Степан Злобин обращается к Н. С. Хрущеву с письмом, где говорится:
В Союзе советских писателей сложилась групповщина бюрократической верхушки руководства, с круговою порукой чисто приятельского значения. Сегодня перед «угрозою» Второго писательского съезда эта групповщина все более сплачивается, и главный застрельщик и организатор этой группочки администраторов тов. А. А. Сурков стремится превратить Второй писательский съезд в послушную парадную говорильню <…>
Ведь то, что кричат сейчас Сурков и др. о вредности критической линии «Нового мира» – это не принципиальная борьба, а склочническая драка Суркова против Твардовского. Так об этом писатели и говорят, так это и понимают, но потерпевшей-то в этой драке будет наша советская литература! Можно ли это допустить? <…>
Лицемерить и лгать больше нельзя. Партия, жизнь всей нашей страны, интересы советских людей требуют от нас правды, а руководство Союза советских писателей создает атмосферу, когда в кулуарах писатели говорят одно, а публично вынуждены говорить другое под угрозой получить от Суркова с его друзьями клеймо на лоб (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 253, 255, 256).
Июнь. На площади Маяковского в здании, в котором был когда-то ресторан «Альказар», а затем работал Театр сатиры, открывается Московский государственный театр эстрады под руководством Николая Смирнова-Сокольского.
Журналы в июне
В «Новом мире» (№ 6) повесть Владимира Тендрякова «Не ко двору».
«Прочел повесть Тендрякова в „Н.М-6“ – понравилась мне, хотя бы потому, что прочел ее, не скучая, а с увлечением, – 3 августа откликнулся Василий Гроссман в письме к Семену Липкину. – Он хорошо передал глубокую, лежащую под „конфликтом“ драму – дочь не пожелала жить по законам мужа, а осталась верна – закону и сердцу – отца и матери. Это тысячелетняя драма. Вообще он молодец – но мне кажется, что ситуации его дышат жизнью больше, чем характеры» (Знамя. 2016. № 6. С. 133).
Июль
1 июля. Совет министров СССР принимает постановление о введении совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других городов.
В «Литературной газете» редакционная статья «О критическом отделе журнала „Новый мир“» – резкая критика статей В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лифшица, М. Щеглова. Подчеркивается, что это – «нигилистические эстетские выступления. Они не содействуют росту нашей литературы, а, напротив, способны затормозить, задержать ее» (с. 3).
2 июля. Александр Фадеев направляет Василию Гроссману телеграмму:
За правое дело сдается печать обсуждения секретариате союза не будет тчк вопрос решен положительно и окончательно крепко жму вашу руку Фадеев (А. Фадеев. Письма и документы. С. 189).
Генеральный секретарь Пен-клубов Давид Карвер отсылает в адрес Константина Симонова письмо с информацией о решении исполкома Международного Пен-клуба от 20 июня и приглашением к сотрудничеству.
От ответа на это письмо К. Симонов уклонился (Вопросы литературы. 1996. № 1. С. 231).
6 июля. Отдел науки и культуры ЦК КПСС направляет Н. С. Хрущеву и П. Н. Поспелову записку «О состоянии советского изобразительного искусства», где, в частности, говорится:
В связи с ослаблением идейно-воспитательной работы за последнее время среди художников оживились формалистические и эстетские настроения. При обсуждении художественных выставок поднимаются на щит художники, еще не преодолевшие формалистических пережитков в своем искусстве (А. Дейнека, С. Герасимов, М. Сарьян, А. Матвеев, А. Гончаров и другие). <…>
Эстетски настроенные художники и критики тенденциозно раздувают значение творчества скульптора Эрьзи, находящегося под сильным влиянием буржуазно-модернистского искусства. <…>
Особенно обнаженно нездоровые эстетские настроения в отношении советского искусства выражены в повести И. Эренбурга «Оттепель». <…> Приверженность И. Эренбурга к французской «модной» живописи известна. В защиту этого искусства он и выступает в повести «Оттепель» (Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953–1957. С. 260).
7 июля. Принято постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», где отмечено, что
этот важнейший участок идеологической работы находится в запущенном состоянии. <…>
Неудовлетворительно занимаются научно-атеистической пропагандой Министерство культуры СССР и Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Лекции и доклады на атеистические темы читаются крайне редко, причем количество этих лекций из года в год сокращается, идейно-научный уровень лекций очень низок. Особенно плохо ведется естественнонаучная пропаганда среди сельского населения. Слабо привлекаются к этому делу многочисленные кадры советской интеллигенции.
Совершенно недостаточно ведется научно-атеистическая пропаганда в печати. Центральные и местные газеты, общественно-политические и художественные журналы занимают позицию сторонних наблюдателей и за последнее время почти прекратили печатание популярных материалов, а центральные и местные издательства крайне мало издают книг и брошюр на научно-атеистические темы. <…>
В научно-атеистической пропаганде не используется кино. Новые научно-популярные и художественные фильмы на атеистические темы не выпускаются (Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. С. 428, 429, 430).
Вопрос о неопубликованной поэме А. Твардовского «Теркин на том свете» и публикациях журнала «Новый мир»[63 - Уйдя в запой, А. Твардовский на этом заседании отсутствовал. И, как подчеркнул Александр Фадеев в процитированном выше письме М. И. Твардовской, «никакие формальные отговорки не могут снять нехорошего впечатления, произведенного отсутствием Саши. Если бы он был в больнице, все-таки было бы понятней, почему он не может быть на секретариате. Но надо сказать, что на эту сторону дела никто не педалировал, если не считать того, что один из секретарей поставил вопрос Сергею Сергеевичу <Смирнову>, во время речи последнего, почему же отсутствует редактор, и когда С. С. ответил, что „болен“, потребовал расшифровать, чем болен. Потом уже никто к этой теме не возвращался. Первый секретарь сказал: „Не пришел, потому что в результате общественной критики понял, что ему либо придется отступать, либо встать против мнения такой инстанции, которой он обязан подчиняться“» (А. Фадеев. Письма и документы. С. 331).] рассмотрен секретариатом ЦК КПСС[64 - Как отмечено в докладной записке Отдела науки и культуры ЦК КПСС от 21 ноября, «с резким осуждением поэмы Твардовского выступили писатели Катаев, Сурков, Федин, Симонов и секретари ЦК КПСС» (цит. по: Р. Романова. Александр Твардовский. С. 436). Их-то годы спустя Твардовский и винил: «<…> не будь квалифицированной интерпретации Суркова и др. – эта штука могла быть опубликована, ее бы читали и похваливали те же идейно-выдержанные вурдалаки, которые запретили ее (предварительно сняв для себя копийку). Распространенность вещи в списках, по-видимому, огромная: письма из разных мест, изустные свидетельства и т. п.» (А. Твардовский. Дневник. С. 239).].
Как рассказывает Александр Фадеев в письме от 8 июля к М. И. Твардовской, жене поэта,
и поэма и статьи в «Нов<ом> мире» были единодушно осуждены решительно всеми – и секретарями, и работниками аппарата, и присутствующими членами редколлегии «Нов<ого> мира», и секретарями ССП, и мною. Выступления, в общем, распадались на более или менее «агрессивные», то есть учитывающие только ошибки, и на более или менее объективные, то есть учитывающие весь путь Саши в литературе, в том числе и эти ошибки. К выступлениям последнего рода относились выступления двух Сашиных заместителей, Константина Александровича <Федина>, Константина С<имонова> и мое. И, конечно, наиболее объективным, широким и спокойным было выступление первого секретаря – и по отношению к Саше, и по отношению к журналу, и по отношению к Сашиным заместителям. Стало всем ясно, что здесь не «проработка», а желание установить правду-истину и дать всем, кто ошибался, перспективу (А. Фадеев. Письма и документы. С. 331–332).
Судя по стенограмме, Н. С. Хрущев, в частности, сказал:
Не может быть двух мнений – обсуждаемые статьи «Нового мира» и поэма Твардовского «Теркин на том свете» заслуживают осуждения.
<…> Трудно судить, с каких позиций критикует Твардовский. Одно ясно, что товарищ Твардовский человек политически незрелый.
<…> Как он мог это написать? Зачем он загубил хорошего солдата, послал Теркина на тот свет? Твардовский человек малопартийный! Возможно, на него подействовало членство в рев<изионной> комиссии ЦК? Возможно, он думает, что раз он член ревкомиссии ЦК, то сможет повлиять и на ЦК? ЦК никому своих прав не уступит.
Не стоит списывать Твардовского со счетов литературы. Надо повозиться с ним, но не уговаривать. Надо попытаться спасти его, если он сам к этому склонен.
Разгромного решения ЦК по журналу принимать не следует. Надо спокойнее пройти мимо этого случая. Мы настолько сильны, что никакие мертвые Теркины не потрясут устоев нашего государства (Дружба народов. 1993. № 11. С. 227, 228).