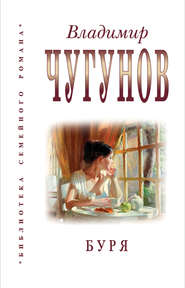скачать книгу бесплатно
– Свободна… Ишь! Знамо, свободна. А ты в церкву ездил или куда? Там тебя так выучили со старшими разговаривать?
– Там!
– Та-ам… Дать бы тебе по брылам! Не стыдно?
Я молчал.
– Не стыдно, спрашиваю?
Я безмолвствовал.
– У-у, неудашный!
И она удалилась. Нет, определенно мне сегодня было не до нежностей. Но оговорюсь сразу, всю эту безмозглую околоцерковную толпу я всё-таки не смешивал с Евангелием. Они – одно, Евангелие – совершенно другое. И это было для меня ясно, как Божий день.
Вечером уже на трезвую голову и в нормальной обстановке мы обсуждали вчерашнее происшествие. И пришли к общему выводу: православие – одно, клерикалы – совершенно другое. И отнесли это к работе спецслужб. Приглянулся всем и мой нацеленный на будущее обновленческий проект. Скажу сразу, навеян он был содержимым отцовой тетрадки. Тут я впервые, шёпотом, упомянул о ней. И что тут началось! Принеси да принеси! Дай почитать да дай почитать!
– Только из моих рук! А лучше у нас дома. Мама с Митей завтра на две недели к своим родителям под Владимир уезжает, у отца какие-то неотложные дела в университете. Хотите – приходите.
– А удобно? – спросила Mania.
Я, разумеется, не унизился до своей плоской шутки об одеяле, которое спадает, когда спишь на потолке, и сказал:
– Бабушка только рада будет. Предлагает поехать в Великий Враг.
– Село? – спросила Mania. Я кивнул. – Красиво! Вели-икий Вра-аг! И что там?
Я рассказал про отца Григория, немного про Дедаку.
– Хочу! Вер, Люб – вы как?
Они неопределённо пожали плечами. Mania приняла это за согласие, спросила:
– Когда?
– У бабушки и спросим.
Решено было собраться завтра у нас к двенадцати. Бабушку я должен был не только известить, но после сегодняшней выходки умаслить.
Вечером по пути на родину я заскочил к Елене Сергеевне. И, как в песне поется, «от первого мгновенья до последнего» был ею потрясён. Такою я её ещё не видел. Она порхала по дому как мотылёк, опахивая меня дурманом навитых кудрей, взбитых локонов, смущая порывом телячьих нежностей, вульгарностью неосторожно обнажавшихся ног. Относительно обнажённых ног у меня имелась теорема: почему их голизна на пляже должна означать одно, а в других местах – совсем другое? В школу, например, почему не ходят нагишом? Когда я был маленьким, думал, потому что холодно. Но это же взгляд невинности! Что спрашивать с недоразвитого младенца? Но! Разденься, например, передо мной на пляже до плавок Елена Сергеевна, и ни она, ни я и глазом не моргнём. А попроси я её сейчас скинуть халатик (тепло же!), и был бы неправильно понят. Оставляю теорему без решения, не предвижу оного ни в одной учёной башке. Бабушкино решение знаю заранее, выражается оно одним-единственным словом, которое не привожу потому, что не хочу никого обижать.
– Какой-то ты сегодня молчали-ивый, – склонившись сзади над стулом, с которого я всё это безобразие созерцал, шепнула почти на ухо, естественно, вызвав при этом во мне неприличный пожар, Елена Сергеевна. – Скажи же что-нибудь!
– А что вы хотите услышать?
– Ну-у… как тебе, например, моя причёска? А мой новый костюм не хочешь посмотреть? Погоди, сейчас покажу!
Наряды Елена Сергеевна шила себе сама. Работала она в одном из самых лучших городских ателье, была прекрасным модельером, закройщицей и швеёй. Практически все модницы и вообще многие в нашем посёлке и немало из города шили себе наряды только у неё. Она неплохо на этом зарабатывала.
Елена Сергеевна распахнула платяной шкаф, достала висевший на плечиках какого-то немыслимого покроя, с разными штучками, костюм и сказала:
– Отвернись! Смотри не подглядывай! Вниз, вниз, а не на телевизор смотри, хитрец!
– А то я не видел! Больно надо… – обиделся я.
– Где это ты видел?
– На пляже.
– Да-а? Значит, ты на пляж; только за тем и ходишь, чтобы на обнаженных девушек посмотреть?
– А их никто и не просит. Сами раздеваются. И ещё ходят, как эти… папуасы всю жизнь.
– Всю жизнь? О Господи! Ну, смотри!
Я повернулся. Сказать, что ахнул – значит, ничего не сказать.
– Ну и зачем вам это? – только и смог выговорить я.
– Красивой хочу быть!
– Зачем?
– Низачем. Просто. Красивой.
– Для кого?
– Для себя хотя бы. А что? Для тебя, в конце концов. Не нравится, что ли?
– Почему? Нравится. Только на одну мысль наводит.
– Это на какую же на такую мысль?
– Вы, случаем, не замуж; собрались?
Она на мгновение задумалась.
– Замуж? А что? Пожалуй, и замуж;! Думаешь, не получится?
– У вас как раз получится.
– Почему так думаешь?
– Да какой осёл мимо такой Офелии пройдёт?
Она самодовольно улыбнулась, подошла и, чего я никак не ожидал, взяла в ладони моё лицо и мучительно долго-долго разглядывала его. Я даже чуть не задохнулся от мысли, что она хочет меня поцеловать. Но она только легонько ущипнула меня за щеку и ещё раз в этот вечер поразила:
– Откровенность за откровенность. Помнишь, что на прощание тогда говорил? Так вот, знай. Будь ты постарше, я бы сама… Понимаешь? Ну, ты понимаешь… – и уже для себя самой: – Ну всё, посходили с ума и хватит! Отвернись, переоденусь.
И, когда переоделась, стала уже совершенно другой, такой грустной, такой несчастной, что, казалось, ещё чуть-чуть и заплачет. Мне стало её бесконечно жаль, чего бы я не сделал в эту минуту, лишь бы она была счастлива.
Если б я только мог предположить, если б только знал, для кого и для чего всё это!.. И что? Не знаю, но что-то бы, наверное, всё-таки предпринял, что-нибудь да придумал!
Расстались мы, как всегда, закадычными друзьями. На этот раз на прощание я не посмел ничего подобного тогдашнему произнести. Что-то помешало.
Однако, оказавшись на улице, под чудным звёздным небом, я, почти не помня себя, произнес:
– Милая, дорогая Елена Сергеевна!
И вздрогнул! Показалось, кто-то шевельнулся за ближним кустом акации. Прислушался. Было так чудесно и чудовищно тихо, что я, с трудом переведя дыхание, ещё раз благодарно глянув на соседскую дверь, на сказочно светящиеся во мраке окна, пошёл к своему дому. И идти было – смешно сказать – всего двадцать шагов.
Перед тем как лечь в постель, Митя меня убил. Собираясь к завтрашнему отъезду, он извлёк из кармана брюк изжёванный неизвестным существом тетрадный лист, на котором его собственными каракулями были означены рекомендуемые к летнему прочтению произведения, которые он просил меня найти в отцовой библиотеке наверху. Прочтённые уже были старательно, до дыр, зачёркнуты. Среди непрочтённых значились: Михаил Горький «Старуха из Виргилии» и Гоголь «Тарас и бульба».
– И что это за бульба?
Митя ничтоже сумняся ответил:
– Собака, наверно, человека же так не назовёшь.
Пока я покатывался со смеху, он стоял с кислой физей.
– И ничего смешного.
– А папу… – придушенный свист смеха, – что… – опять, – не… – ещё дольше, – не попросишь?
– А! Сердитый он.
– На тебя?
– На ма-аму. А она на него. Говорит: «Не знаю, какие у тебя дела! Дома никогда не видать, воспитанием детей не занимаешься! Как дяденька чужой! С утра уехал, поздно вечером приехал. Не до нас! Да ещё на рыбалку на всю ночь на ту сторону заладил! И где твоя рыба? И ещё недоволен!» А он – х-х! – представляешь, Никит? «Это, – говорит, – просто какое-то рабство!» И давай маме конституцию читать… Она хлопнула дверью и в зале спать легла. Заходиил. Пла-ачет. Бабушке говорю, а она: «Сама знаю, иди». Мо-олится старуха.
Я задумался. Конечно, скандалы не были новостью. А вот рыбалка действительно была полной неожиданностью. Если бы речь шла об охоте, я бы внимания не обратил, но рыбалка, да ещё ночная…
И я ушёл в себя. Митя несколько раз пытался меня извлечь оттуда. И наконец, махнув рукой, удалился.
Ну точно, возвращаясь от Паниных, видел я позапрошлой и прошлой ночью костер на том берегу! И что? Костёр и костёр. Мало ли у нас желающих порыбачить? А это, оказывается, отец… Но скажу: и только. Всё. Мысль дальше очередного отцова «бзика» не пошла. А вдруг он хочет, подобно Куинджи, написать картину июльской ночи? Ночи-то, ночи какие чудные стояли! И потом, я был так занят своим. Вы только представьте! Завтра у меня в гостях будет любимая девушка! Пройдёт по дому, всё с любопытством осмотрит. Походя, коснётся кое-чего рукой. Может быть, даже присядет на мой стул у письменного стола и что-нибудь спросит. Возможно, это кому-то покажется и смешным, но любимая девушка в доме – весеннее солнышко и проталинки после холодной зимы.
С ощущением солнца в душе я и заснул.
13
Бабушку умасливать не пришлось. Как только скрылись за дверью напутствуемые скрываемыми от сердитых отцовых глаз её широкими крестами родители с Митей, я сказал, что у нас будут гости. Узнав, что за гости, бабушка всплеснула руками:
– А ба-а, неужли невесты в гости пожалуют?
И тут же погнала меня наверх прибираться.
Сама занялась стряпнёй. Пока я, засучив рукава и закатав трико, носился с половым ведром сверху вниз, чего-чего она только не наготовила. А вскоре и гости пожаловали. Я даже ахнул – принарядились. И Mania – особенно. От её смущённой под любопытным бабушкиным взглядом улыбки, от её глаз, лёгкого, светленького платьица, белых носочков и босоножек ещё светлее стало в доме.
– Милости просим. Не разувайтесь. Сухо на воле. Проходите. Что встал, как пень? – толкнула она меня. – Дом покажи. Проходите, проходите.
– Ба-аб, это Mania, – представил я. Маша мило улыбнулась, сказала: «Здрасте». – А это моя бабушка Анастасия Антоновна.
– Кака там Анастасия Антоновна? – махнула рукой она. – Просто – баба Настя! Милости просим. Вера, Люба, что как не родные?
Маша с любопытством осмотрела все комнаты. И хотя не присела, но всё-таки подержалась за спинку моего стула. Пока я водил Машу по комнатам, сёстры помогали бабушке накрывать на стол. Перед тем как сесть, помолились, когда бабушка, как бы между прочим, обронила: «Раньше, прежде чем сесть, молились, да вы ноне, как говорится, молодёжь, какой с вас спрос, садитесь, а я перекрещу», Mania предложила: «А давайте и мы, как раньше?»
И бабушка, очень довольная, прочитала «Отче наш» и благословила стол. Уходя вниз, шепнула мне: «Золото девка! Смотри не упусти!» Я про себя усмехнулся: «Не упусти… Даже прикоснуться боюсь!»
Пока ели, Mania между делом рассматривала картины. На одной остановила внимание, даже поднялась из-за стола и, подойдя поближе, долго смотрела. На картине был изображён порхающий, зависший на месте белый голубь. Всего один голубь и необыкновенной синевы небо. Не знаю, что необычного показалось ей тут – голубь и голубь, но возвратилась она к столу задумчивая. Я не решился спросить, о чём думает. Люба же с Верой до того были заняты бабушкиными пирогами, что на картины совершенно не обращали внимания.
Когда, как выражается бабушка, откушали, я предложил перейти в небольшие простенькие кресла, за журнальный столик, стоявший у выхода на балкон. В мансарде было хоть и душновато, но всё же не так, как на солнце. Дверь на балкон стояла настежь, но тюль не шевелился.
Прежде чем сесть в кресло, Mania захотела выйти на балкон. И мы все вышли.
– Высоко! Неужели отсюда прыгнул? – глянув вниз, спросила она.
Я обомлел от неожиданности.
– А откуда… – и догадался. – Дядя Лёня сказал? Предатель!
– Ну почему – предатель? Он, между прочим, с уважением рассказывал. Не сильно зашибся?
– Грядку видите? Если б не в неё угодил – хана!
– Ну и словечки!
– Хана-то? Да у нас все так говорят. Ну всё, говорят, тебе – хана! Диалектизмы!
– Скорее – жаргон.
– Да у нас такого жаргона знаешь сколько? Жив, в общем. Ну что, идём?
Я достал с верхней полки «Капитал» Маркса, стоявший, как и все книги, корешком наружу, а из его аккуратно вырезанных внутренностей извлёк общую тетрадь. Это заинтриговало. Для большей интриги я приложил указательный палец к губам. Водворилась тишина.
Скажу сразу, далеко не всё мы поняли, но что-то всё-таки поняли, поскольку по прочтении завязалась оживлённая дискуссия, и даже был составлен план дальнейших действий. Но об этом после. Вот эта рукопись со странным названием.
ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В «Московском Еженедельнике» (№ 27 за 1906 год) профессор церковной истории Московского университета А. Лебедев в статье: «Раскол, старообрядчество и православие» пишет:
«Причина раскола лежит глубже, нежели обыкновенно полагают: она касается самого существа Церкви и основ церковного устройства и управления. Различие в обрядах, само по себе, не привело бы к расколу, если бы дело обрядового исправления велось не так, как повело его иерархическое своевластие.
«Ничто же тако раскол творит в церквах, яко же любоначалие во властех», – утверждал известный вождь старообрядчества протопоп Аввакум в своей челобитной к царю Алексею Михайловичу.
Так это любоначалие, века угнетающее церковь, попирающее церковную свободу, извращающее само понятие о церкви (церковь – это я, а не мы), и вызвало в русской церкви раскол, как протест против иерархического произвола.
Любоначалие было виною, что для решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волновавшего весь православный люд, собран был собор из одних только иерархов без участия народа, и старые, дорогие для народа обряды, которыми, по верованию народа, спасались просиявшие в русской церкви чудотворцы, беспощадно были осуждены; а на ревнителей обрядов, не покорившихся велениям собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая: