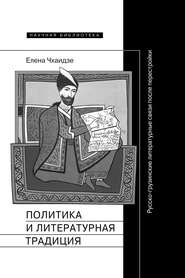скачать книгу бесплатно
Ситуация, колеблющаяся между понятиями «выделения» и «неделимости» (Гусейнов, Драгунский, Цымбурский, 1990), разрешилась в пользу обретения независимости. Политическая деколонизация, сопровождавшаяся стремлением построить новые национальные государства, предполагала появление «новых» национальных идентичностей «старых» культурных сообществ (наций)[28 - Мне близко определение нации как «социально-мобилизованного сообщества индивидуумов, считающих себя объединенным набором характеристик, которые отличают его (в его собственных представлениях) от „других“», и стремящихся создать или сохранить собственное государство, (Торбаков, 2001. С. 393), а также воображающих себя объединенными общностью культуры. Это определение обращает нас к определению нации как «воображаемого сообщества» (Anderson, 1983).]. Этот процесс основывался на двух сложностях – избавлении и удержании. Бывшие советские республики и автономии одна за другой оказались перед дилеммой: с Россией (Абхазия, Южная Осетия) или без (Грузия)? И тот и другой приоритет привели к плачевным последствиям в виде постсоветских вооруженных конфликтов[29 - См. также в книге Марии Кастро Варела (Mar?a do Mar Castro Varela) и Никиты Даван (Nikita Dhawan) «Postkoloniale Theorie: Eine kritische Einf?hrung» («Постколониальные теории. Критическое введение»), где авторы говорят о национализме как о борьбе, целью которой является освобождение из-под господства («Projekt Nationalismus – als Widerstandskampf – mit Ziel der Befreiung aus kolonialer Beherrschung – Dekolonisierung», 2005. S. 17).]. С одной стороны, война – это выход напряжения, копившегося годами, с другой – точка отрыва, благодаря которой появляется новое:
Война стабильно занимает важное место не только в истории и политике, но и в историко-государственном и национальном самосознании: в национальных мифологиях о зарождении государства неизменно присутствуют отсылки к войнам – об этом свидетельствуют устоявшиеся представления об истории, образы врага и такие национальные символы, как памятники и мемориалы, служащие объединяющими факторами и платформой общностной (само)идентификации (Цимбаев, 2015. C. 9–10).
Исход войны (победа или поражение) объединяет население нового государства. В Грузии отношение к другим менялось в зависимости от президентской политики. Ведущим идеологом времен распада СССР того времени был Звиад Гамсахурдия. Если в его правление преобладали остро антироссийские настроения, то правление второго президента Грузии – Эдуарда Шеварднадзе, бывшего крупнейшего советского функционера в ранге министра иностранных дел СССР, прошло под установкой переходного типа: «Запад – не враг». Позже, при третьем президенте, Михаиле Саакашвили, Грузия развивалась, исходя из политической установки «Запад – друг, потому что Россия – враг». В период правления Саакашвили националистический дискурс преобразовался в «государственный», то есть под грузинским обществом понимались все этнические группы страны. С начала 1900-х Грузия теряла территории, оставшиеся после краха СССР.
В России начала 1990-х, как и в Грузии, наблюдался всплеск национализма. Этнолог, антрополог Виктор Шнирельман в книге «Порог толерантности: Идеология и практика нового расизма» в главе «Кавказофобия» пишет, что в начале 1990-х годов в Москве и Петербурге был отмечен резкий всплеск кавказофобии, и причины раздражения отличались от тех, которые прослеживались по отношению к России в Грузии. Заключались они в неприемлемости моделей поведения кавказцев-торговцев и в методах достижения экономического благополучия. Автор приводит результаты социологических опросов, согласно которым, например, в сентябре 1992 года 83,2 % респондентов считали, что «чем меньше будет в городе кавказцев, тем будет спокойнее» (Шнирельман, 2007. C. 630–632). Как отмечает исследователь, в 1999–2005 годах структура ксенофобии стабилизировалась, и у людей сложилась отчетливая иерархия образов «внутренних врагов», возглавлявшаяся кавказцами (Там же. C. 638). Одной из составляющих кавказофобии была грузинофобия. Отдельным предметом исследования она стала для грузинских филологов советского поколения – Нодара Поракишвили, Омара Гогиашвили и Георги Цибахашвили. В постсоветский период вышло три книги этих авторов. Они считают, что грузинофобия – сложный целенаправленный проект, отразившийся и в литературе, и в российском социуме в целом[30 - Поракишвили Н., Цибахашвили Г. Сеятели вражды, или Анатомия и физиономия грузинофобии. Тб., 1997; Поракишвили Н., Гогиашвили О. Безумие и безумцы, или Ленин и теперь жалеет всех живых: Незанимательная грузинофобия. М., 2004; Поракишвили Н., Гогиашвили О. Эпидемия идиотизма: О незанимательной грузинофобии и не только о ней. Тб., 2006.]. Характеризуя книгу «Безумие и безумцы», политолог Тамара Кикнадзе говорит о том, что авторов возмутила несправедливость: грузин «изъяли из общего с Россией пространства, объявили наркоманами, фашистами, ненормальными» (Кикнадзе, 2004. C. 1–4). Но все-таки говорить об особом проекте – «грузинофобском» – как отдельном явлении, думаю, слишком резко. Скорее всего, то была часть упомянутой кавказофобии, обострившейся после развала СССР. Итак, у всплеска национализма была значимая функция «оружия изгнания оккупантов» (Хардт, Негри, 2000. C. 108). «Оккупантами» здесь выступали не военные, а мирное население. Восприятие представителей другой национальности изменилось в сторону агрессивного выдавливания. Например, в конце 1980-х – начале 1990-х годов в Грузии экономические проблемы и националистические тенденции привели к массовому отъезду негрузинского населения. Другой функцией всплеска национализма было объединение: «воображаемое сообщество» (Anderson, 1983) сплотилось в целях противостояния старой модели политических отношений с Россией. Обе функции стали ступенями более сложного явления – деконструкции советского пространства. Накал межэтнической напряженности и нерешенные национальные вопросы вылились в постсоветские вооруженные конфликты и войны. Они вспыхивали по принципу имперской матрешки: из русско-советского поля стремились вырваться советские национальные республики (Грузия), а из республиканского советского поля к независимости стремились автономные образования (Абхазия, Южная Осетия). Начало 1990-х явилось переходным временем для создания новой формации совместного существования и формирования суверенитетов государств – как российского, так и грузинского. Старый суверен (Россия как правопреемница СССР) стремился сохранить влияние на Грузию и ее бывшие советские автономии – Абхазию и Южную Осетию, а новый (независимая Грузия) стремился обрести влияние и укрепить его в новой «воображаемой» форме. Желание автономий получило многостороннюю поддержку с российской стороны (Jones, 2013. P. 239–245). Это породило темы аннексии Россией грузинских территорий и агрессии Грузии по отношению к ним же – к бывшим автономиям.
Новые независимые государства, образовавшиеся на основе бывших советских республик, получили в наследство старые административные границы и пустоту, которую надо было заполнить новой политической историей, новой национальной идентичностью и собственной интерпретацией взаимоотношений с Россией и другими странами, в том числе и новообразовавшимися. «Воображаемые сообщества» (Anderson, 1983) – нации, начавшие создавать свои государства после распада СССР, стали активно провозглашать свои территории, которые иногда не совпадали с границами, установленными в советские времена[31 - «В наследство от СССР государства, возникшие на его территории, получили границы, которые не соответствуют распределению основных национальностей, а этнические реальности в большинстве случаев не соответствуют национальным территориям бывших советских республик.Более того, границы были намеренно проведены так, чтобы разделить крупные этнические группы между двумя или большим количеством республик» (см.: Жирохов М. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. СПб., 2012. С. 33).Об истории вопроса истоков появления границ, спорах Ленина и Сталина о них см.: Механик А. Плавильный котел государственности // Эксперт. 2011. № 1 (784). http://expert.ru/expert/2012/01/plavilnyij-kotel-gosudarstvennosti.], а также стремиться использовать лишь один официальный национальный язык, ограничивая, например, обращение к русскому. Кроме того, начался процесс культивирования нематериальной культуры, связанной с гражданской идеологией (под этим пунктом предполагается существование общих исторических воспоминаний, воплощенных в мифах или общих символах и традициях), а также написание новой истории, что совпадало с типичными процессами вырабатывания нацидентичности, описанными Берндом Эстелем (Bernd Estel) в книге «Nation und Nationale identit?t» («Нация и национальная идентичность», 2002). Для того чтобы сделать шаг в будущее, нужно было разобраться с историческим прошлым. Моделирование новой «старой» реальности производилось с помощью нарратива новой нацидентичности и нарратива внешнего врага. Все это сопровождалось приписыванием старому новых смыслов.
Если в советский период нерешенным был национальный вопрос, то в постсоветский нерешенными оказались вопросы, связанные с представителями этнически смешанных браков, с потомками бывших советских «мигрантов», то есть людей, родившихся и выросших не на этнической родине, а также проблема «культурных гибридов» – людей, сформировавшихся в рамках иной по этническому признаку культуры. Например: грузин, армянин, родившиеся и выросшие в России, или русский, осетин, украинец, родившиеся и сформировавшиеся в рамках грузинской культуры. Этот вопрос оказался неизученным на постсоветском пространстве. В современной науке эта проблема была обозначена как проблема внутреннего и внешнего или абсолютного и неабсолютного иного (Dussel, 1975. P. 21), и все это включено в проблемы мульти-, меж- и транскультурализма. Мадина Тлостанова считает, что на постсоветском пространстве потомки этнически смешанных браков и культурные гибриды были особой группой, они понимали всех (Тлостанова, 2004. C. 5–6), потому что полностью никому не принадлежали (Memmi, 1991, xvi), но вместе с тем они являлись и сейчас являются для всех чужими/изгоями. «Чужаки-гибриды» попали под определение других и, так же как другие нерусские, стали объектами агрессии:
важная для конструирования иного в Российской империи проблема религиозной идентификации в постсоветской России уже или еще не играет определяющей роли <…> сегодня славянский российский обыватель-ксенофоб склонен рассматривать всех, условно говоря, «смуглых брюнетов» в независимости от их языковой, религиозной или культурной принадлежности почти так же, как его предшественник в XVI веке, только вместо «поганого» и «бусурманина» он становится «черным» и «чуркой». Мусульманско-христианское различие здесь продолжает играть важную, но не основную роль, ведь не работает, к примеру, православная идентификация с христианской частью того же Кавказа и Закавказья, а в силу вступают самые примитивные расово-френологические принципы разделения на своих и чужих, когда важен именно цвет кожи, а не религиозная принадлежность как таковая (Тлостанова, 2004. C. 60).
«Избавление» от своего иного отразилось на нерусских в России и на русских/русскоязычных в бывших советских республиках. Агрессия национализма вылилась и на особую группу – плод «дружбы народов», рожденных в смешанных межнациональных браках:
После краха СССР за границами России осталось более 20 млн русских. Элиты большинства стран, жителями которых они оказались, не были достаточно деликатными и разумными, чтобы адекватно решать проблемы людей, оказавшихся национальным меньшинством в стране, которую раньше считали своей. Это усиливает постимперский синдром в метрополии, ставший одной из тяжелых проблем современной России (Гайдар, 2006. C. 8).
Тематический комплекс социально-политических и экономических проблем постсоветского периода, проявления национализма и постсоветских войн, а также проблемы «гибридов» (Бхабха) составил основу корпуса произведений современных писателей, в центре интересов которых стояли отношения, в нашем случае, между Россией и Грузией. Зачастую, прибегая к приемам деконструкции и демифологизации, современные авторы меняли устоявшиеся подходы к традиционным темам и образам[32 - Например, смешение старого и нового взглядов на вроде бы уже утвердившиеся за долгие годы культурно-исторические связи отразилось в ряде произведений: «Империя в четырех измерениях» Андрея Битова, роман Наталии Соколовской «Литературная рабыня: будни и праздники», роман «Тбилиссимо» и сборники притч Василия Димова.].
2.2. Постсоветское в позднесоветском
Езжайте в Грузию, прочистите мозги,
На холмах Грузии, где не видать не зги…
Александр Еременко[33 - Отрывок из стихотворения российского поэта и переводчика Александра Еременко (1950 г. р.) «О чем базарите, квасные патриоты?» (см.: Еременко А. Горизонтальная страна. СПб., 1999. C. 107).]
Рамки определения «постсоветского» в отношении политического и литературного периодов не совпадают. Началом постсоветского политического периода принято считать 26 декабря 1991 года – дату распада СССР, а дата окончания до сих пор не определена. Она обсуждается политологами, культурологами, социологами. Впервые об окончании постсоветского периода заговорили примерно в 2009 году, и главным образом это было связано с внешней политикой Кремля. Называли 2012 год: в это время возникла идея создания евразийского союза, предусматривающего объединение в экономической сфере некоторых бывших республик СССР[34 - «Однако эти стремления всегда вызывали беспокойство. Пытается ли Путин, который описал крах Советского Союза как геополитическую катастрофу, вернуть назад СССР? Сам Путин объявил в своем выступлении в Думе, что „постсоветский период“ закончен» (Гвоздев Н. Новая Российская империя // Кавказ online. 21.04.2012; http://kavkasia.net/Russia/article/1335068247.php). Или: «Пожалуй, наиболее интересный момент программной статьи – признание того, что постсоветский период развития закончен, пора переходить к чему-то другому» (Предвыборный манифест Путина // Голос Америки. 05.10.2012; http://www.golos-ameriki.ru/a/putin-elections-manifest/566074.html).]. Позже назывался 2009 год; российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в статье «The End of the Post-Soviet Period in Russian Foreign Policy: What is Next?» (Lukyanov, 29.02.2012; 19.01.2012) подчеркнул, что тогда произошло изменение роли России в мировом контексте как страны, к политическому голосу которой стали прислушиваться, чего не было после краха СССР. Еще одной датой стал 2014 год, и связывалось это с заявлением 1 марта 2014 года о решении ввести российские войска на Украину. Датой окончания постсоветского периода называли и 2015 год – он связывался с убийством известного российского политика Бориса Немцова (Венкина, 27.02.2016). Другое мнение высказал историк и журналист Кирилл Кобрин, назвав дату окончания постсоветскости – 2014 год (Кобрин, 25.08.2016).
Что касается грузинского ракурса в определении рамок окончания постсоветского периода, то справедливым было бы назвать 08.08.2008 – начало русско-грузинской Пятидневной войны, потому что такого прецедента – войны между русскими и грузинами – не было. В 2008 году закончился период острого противостояния, начавшегося в 1989-м. Но дата не прозвучала – может быть, из-за официальной формулировки: «Россия просто защищала союзное государство (пускай и не признанное) от агрессии» (Акопов, 02.03.2014). Хотя сложно припомнить: когда и кого ранее на постсоветском пространстве Россия защищала от агрессии? И чьей? Война основательно повлияла на связи, которые существовали между Грузией и Россией, несмотря на новый постсоветский формат отношений. Эмоциональная привязанность, основанная на культурной памяти, была подорвана. Травма пережитого объединила против России все многонациональное население Грузии, независимо от этнической принадлежности. Социальный поворот продемонстрировал новый этап в отношениях двух стран. В южной республике не осталось тех, кто поддерживал политику России по грузинским вопросам.
Период разрыва длился недолго. В 2012 году с приходом к власти партии «Грузинская мечта», которую периодически критикуют за пророссийский подход, вновь образовался раскол в политических пристрастиях постсоветского времени (проевропейский или пророссийский путь развития). Например, в статье «РОССИЯ + ГРУЗИЯ = ОТТЕПЕЛЬ» (2013) Ларисы Малюковой, посвященной выходу в свет фильма о русско-грузинской дружбе «Икона», звучит предположение о потеплении отношений между двумя странами.
В литературе начало постсоветского периода целесообразно было бы связать с 1985 годом. Именно тогда стали появляться художественные тексты, в которых встречались националистические высказывания или целенаправленное проявление негативного отношения и якобы недопонимания эмоционально-поведенческих моделей других этнических сообществ, ставящее своей целью оттолкнуть эти сообщества от представителя того народа, чьему перу принадлежали критические замечания. Впервые эти новые тенденции проявились в произведениях, которые были опубликованы практически одновременно: «Выбор натуры. Грузинский альбом» (1985) Андрея Битова и «Ловля пескарей в Грузии» (повесть датирована 1984 годом, вышла в свет в 1986 году) Виктора Астафьева. Произведения кардинально отличных друг от друга авторов с разной читательской аудиторией. События, описанные в текстах, происходили почти одновременно: поездка в Грузию Битова, отраженная в «Грузинском альбоме», приходится на 1967 год[35 - Информация взята из статьи: Накамура Т. Литература и границы: Кавказ в русской литературе. Осип Мандельштам и Андрей Битов // Tetsuo M. (ed.). Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context. № 17. S. 255–277.], и поездка Астафьева (в Гагры, абхазскую автономию Грузии), как стало известно со слов писателя и переводчика Александра Эбаноидзе (Эбаноидзе, 2018), также состоялась во второй половине 1960-х годов. Оба текста касаются грузинской тематики, которая была традиционной для русской литературы на протяжении последних двух веков и явилась полем моделирования нового подхода к традиционному (например, к мифу «Грузия-рай»).
«Выбор натуры. Грузинский альбом» (1985) Андрея Битова вошел в третью часть книги-жизни писателя – «Империя в четырех измерениях»[36 - Одно из первых изданий: «Империя в четырех измерениях». T. 1–4. М.; Харьков, 1996.], которая называется «Путешествие из России»[37 - Текст цитируется по изданию: Битов А. Путешествие из России. Измерение III. CПб., 2009.]. Вслед за русскими классиками (Пушкин, Лермонтов, Толстой и др.) Битов прибегает к традиционному для кавказской тематики жанру – к жанру путешествий[38 - Chanses, 1993; Чансес, 2006; Layton, 1994; Hokanson, 1994; Великанов, 1995; Роднянская, 1998; Скоропанова, 2001; Хирш, 2007; Накамура, 2008; Норимацу, 2008; Баринова, 2009; Бондаренко, 2012; Чередниченко, 2012; Чхаидзе, 2014.]. «Грузинский альбом» выстроен по принципу зеркала: главы о Грузии-рае чередуются с главами о сером «мертвом» Ленинграде, грузинские живые образы и лица – с ушедшими в прошлое живыми образами, связанными с Россией, живая культура – с разрушенным храмом культуры (Битов, 2009. Т. III. C. 479–492). Грузия для автора ассоциируется с первозданным миром: спокойствие, пир на природе, мужская идиллия. Она идеализирована: там нет зла, болезней, бедности, недостатка времени, отягощенности городом, древность и современность существуют параллельно, а главное – сохранилось человеческое достоинство. «Живой» мир Грузии противопоставлен «мертвому» миру России (Чхаидзе, 2014). Рассказчик путешествует не только в пространстве, но и во времени. Это передается видениями, воспоминаниями и рассуждениями о судьбе России и ее отношениях с Грузией. Писатель обращается к традиционной дихотомии Россия – Грузия и традиционной теме Грузия – страна спасения; правда, в отличие от других писателей, у Битова причиной поездки стали не политические неурядицы и войны, а писательский кризис – страх замолчать. Грузия в «Грузинском альбоме» – страна-спасение, страна русской литературы и почти дом: «…в Грузию я вернулся. Как домой. <…> Будто Грузия была даже больше Россией, чем сама Россия, во всяком случае, больше, чем Советский Союз» (Битов, 2009. Т. III. C. 536–537). В южной стране есть то, что исчезло в России. Битов обыгрывает понятие «захватчик». В отличие от «поэтов в форме» XIX века, советский интеллигент-«захватчик» присваивает с помощью влюбленности впечатления и человеческие качества: принадлежность себе, чувство родины: «Как странно понимать, что это чье-то, не ваше дело… А вы-то так почувствовали, так полюбили, так поняли!» и «вы так сумеете восхититься и полюбить все чужое, что не покажетесь себе захватчиком» (Там же. C. 361). Грузия – это пространство срединности (inbetweenness, Bhabha, 1994). «Шестидесятник» Битов акцентирует взгляд русского интеллигента, сформированного русской классической литературой, ставя себя в ряд с классиками («Пушкин, Лермонтов, Толстой…» – Там же. C. 333). С одной стороны, Грузия – своя страна, а с другой – иная «планета», благодаря перекрестку времен и культур.
Прогуливаясь по Тбилиси, он видит табличку и понимает, что «буквы были хотя и грузинские, но даты – мои» (Там же. C. 356)[39 - В свое время Хоми Бхахба, вслед за Ж. Лаканом, критикуя понятие «временного плюрализма», в котором различные культурные локации рассматриваются в одном условно универсальном времени, выделяет понятие «временного зазора» или «запаздывания» – неустойчивого состояния «темпорального разрыва в процессе репрезентации», во время которого ранее разлученный со значением знак наделяется новым смыслом, уже обогащенным успевшим выработаться гибридным или пограничным дискурсом (см.: Bhabha H. The Location of Culture, 1994. P. 191–192).]. Битов осмысляет и воспринимает себя как наследника традиции русской классической литературы, что играет и положительную роль (возможность прикоснуться к золотому веку литературы), и отрицательную (писатель становится заложником или колонизованным нормой изображения Кавказа, «установленной» классиками). Но в «Грузинском альбоме» (1985), ранее запрещенном и выходившем лишь отдельными главами, впервые за советское время встретилось словосочетание «имперский человек», что было неприемлемо в связи с политическим строем, и Битов зачастую ощущал себя не совсем уютно в компании даже самых близких друзей. Осознание своей чуждости проявлялось не раз, особенно когда друзья начинали говорить по-грузински.
Кардинально отличается подход к теме Грузии у Виктора Астафьева в рассказе «Ловля пескарей в Грузии»[40 - Об истории появления повести можно прочесть в интервью с Александром Эбаноидзе в сборнике «Россия – Грузия после империи» (2018).]. Романтически-дружеское отношение к другому народу сменяется отталкиванием. В последние годы существования СССР первыми попали под удар русско-грузинские отношения. Иное изображение Грузии стало провокацией[41 - Здесь следует вспомнить известную переписку Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева в журнале «Даугава», в которой Эйдельман резко критикует Астафьева за ложный подход к грузинской теме: «„Но ведь тут много правды, – воскликнет иной простак, – есть на свете такие Гоги, и Астафьев не против грузинского народа, что хорошо видно из всего рассказа о пескарях в Грузии“.Разумеется, не против: но вдруг забыл (такому мастеру непростительно), что крупица правды, использованная для ложной цели, в ложном контексте, – это уже неправда и, может быть, худшая.В наш век, при наших обстоятельствах только сами грузины и могут так о себе писать или еще жестче (да, кстати, и пишут – их литература, театр, искусство давно уже не хуже российского); подобное же лирическое отступление, написанное русским пером, – та самая ложка дегтя, которую не уравновесят целые бочки русско-грузинского меда» (1990. № 6. C. 62–67).] и обидой[42 - «…А вся заваруха с грузинами началась в 1986 году на восьмом Всесоюзном (последнем!) писательском съезде. Наши грузины, уже подогретые известной им перепиской, обидевшись на Виктора Петровича за его саркастический рассказ о грузинских нравах, всей делегацией покинули зал и с каменными лицами уселись в фойе. Мой друг Шота Нишнианидзе, не читавший рассказа, но из солидарности тоже хлопнувший дверью, подошел ко мне:– Стасик! У тебя есть журнал этот? Дай почитать!Мы подошли к братьям Чиладзе, и я попробовал пошутить:– Вы что, как грузинские меньшевики партийный съезд покидаете?Но никто, кроме ироничного Отара, на шутку не отозвался.– Стасик! – сказал мне Отар, – не надо русским в наши грузинские дела лезть, разбирайтесь в своих.А в это время с трибуны Дворца съездов слышался голос Валентина Распутина, который говорил, что мы живем хотя и в отдельных квартирах, но в одном доме, и каждый из нас может говорить о неблагополучии на любом этаже, ибо дом-то один на всех…» (Куняев С. Ю. Поэзия. Судьба. Россия: Кн. 2. «…Есть еще океан». М.: Наш современник, 2001. C. 24–25).], которая годами не утихала и обсуждалась не только в нашумевшей переписке Виктора Астафьева с известным историком литературы Натаном Эйдельманом[43 - В круг его литературоведческих интересов вошла и тема Кавказа и Грузии, оформившаяся в книгу «„Быть может, за хребтом Кавказа…“ (Русская литература и общественная мысль первой половины XIX в. Кавказский контекст)». М., 1990.], но и в статьях Константина Азадовского (2003), Дмитрия Быкова (2009), Мариэтты Чудаковой (2010) и многих других. Астафьев полностью освобождается от традиционной «нормы» в описании Грузии. Она для рассказчика – полудикая восточная страна, в которой он не вспоминает о русской культуре или литературе и их связях с югом. Здесь нет умиления природой Грузии, ее древней культурой и архитектурой, нет упоминаний известных миру имен грузинских писателей или режиссеров, как у Битова. В тексте писателя-«деревенщика» культурный пласт, связывающий две страны, полностью отсутствует. Астафьев в своем рассказе
удивительным образом собрал все сложившиеся в истории и в массовом историческом сознании антикавказские предубеждения и негативные стереотипы. Образ Грузии-рая и грузина как благородного, щедрого, иногда недалекого, весельчака, распространенный в советских анекдотах, сменяется характеристиками весьма не симпатичными. Грузины были показаны как тупые, жадные, невежественные торговцы и жулики, думающие только о деньгах и обманывающие простодушных славян на просторах страны (Мамедов, 2003. C. 107).
Типичный грузин, воплощенный в главном герое Отаре, – это распоясавшийся, неухоженный, деспотичный ханжа и невежда. В этом рассказе впервые русский писатель, обратился к приему передачи специфического грузинского акцента не для отражения комических ситуаций, как это было распространено в советских анекдотах о грузинах, а с целью подчеркнуть невежество, тупость, дикость и нецивилизованность[44 - «– Ты зачэм здэс живешь?! Зачэм? Ты зачэм не убьешь этого дурака? Зачэм? Тебе мало моего дома? Мало тэсят комнат! Я построю тэбе одиннадцат. Я помешшу тебя лучший санаторий Цхалтубо! Тебе не надо Цхалтубо? Надо этот поганый бардак?..» (Астафьев, 1986. C. 125).]. Другое новшество связано с традиционным гостеприимством и щедростью: здесь они стали недостатками и ушли на задний план, оказавшись наравне со вспыльчивостью и барственностью. Кроме того, автор говорит, что поведение грузин на родине отличается от поведения вне ее – появляются пренебрежение окружающими и неуважительное отношение к другим:
Было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барственности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от немытых рук залоснившимися, везде он швыряет деньги, но дома учитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек (Астафьев, 1986. C. 125).
Единственное положительное впечатление на него произвели грузинские сельчане, которых он наблюдал издалека:
по всем дорогам, приплясывая, шли, пели, веселились грузины, совсем не такие, каких я привык видеть на базарах, в домах творчества или в дорогих пивнушках и столичных гостиницах (Там же. C. 127–128).
Не обошлось и без женских образов. В отличие от Битова, который видел в грузинках лишь благородство и образованность, рассказчик Астафьева назвал их «безмолвной расой», угодливо-улыбчивой и пугливой, напуганной харизмой мужчин и прислуживающей им. К такому выводу он приходит, наблюдая за поведением матери, жены и девочки Мананы в доме Отара, куда рассказчика пригласили в гости. И до этого визита, в самом начале рассказа, путешественник передает свое недовольство всем, с чем сталкивается в Грузии. Например, в Доме творчества, скорее всего гагринском (город не указан в тексте), его раздражает и номер, и обслуживание, и еда (Там же. C. 123). Природу Грузии он видит скудной, дороги – пыльными, огородики в домах неухоженными:
По обе стороны дороги трепались оснастые лохмотья кукурузы, табака и ощипанных роз, кое-где поля реденько загораживало деревцами, мохнатыми от пыли и инвалидно-сниклыми. <…> Тихая, хорошо потрудившаяся, усталая от зноя и безводья пустынная земля, еще не вспаханная плугом, не исцарапанная бороной и не избитая мотыгой, миротворно отдыхала от людей и машин (Там же. C. 126–127).
Для астафьевского рассказчика Грузия – это чужая, восточная страна с неприемлемой для «цивилизованного» человека моделью поведения и отношений в социуме. В повести все мотивы, ранее принятые для изображения Кавказа и Грузии, оказываются перевертышами. Астафьев деконструирует традиционный подход к описанию Грузии.
Страсти по рассказу не утихали несколько лет. «Ловля пескарей в Грузии» стала причиной обвинений писателя в национализме (Азадовский, 2003. C. 5–7).
Причина эмоционального изменения сюжета и описания образов кроется в снятии табу с национального вопроса, наложенного в советское время. Оно было мотивировано возможностью высказываться бесцензурно в период перестройки и гласности. Как только такая возможность появилась, на поверхность всплыли неприемлемые ранее и неожиданные мотивы. Деконструкцию и демифологизацию темы Грузии в позднесоветский период можно объяснить процессом «деколонизации», в том числе и самого русского народа. Он высвобождался от дружбы, навязанной политической системой, то есть к независимости друг от друга стремилась не только «периферия», но и «центр».
Рассказ внес раскол в писательский мир. Одни следовали традиции, другие подхватили обличительный тон. Текст Астафьева стал точкой начала демифилогизации и деконструкции мифа о Грузии-рае и развенчания стереотипов о самих грузинах. Он был не первым в передаче иного подхода к нерусским, но имя известного писателя послужило пристальному вниманию и выбросило текст в поле зрения широкого читателя.
Отвлекаясь, хочу напомнить об одном малоизвестном произведении. Некий В. Д. Иванов в 1954 году пишет роман «Желтый металл»[45 - Иванов В. Д. Желтый металл. М., 1956.]. В тексте встречаются пассажи, которые можно охарактеризовать как этнонационалистические. В статье «Евреи, грузины, кулаки и золото Страны Советов: книга В. Д. Иванова „Желтый металл“ – неизвестный источник информации о позднесталинском обществе» Николай Митрохин пишет, что книга неизвестного автора через четыре месяца была изъята по распоряжению Главлита – за «хулиганские выпады в адрес грузин и других советских народов» – и до 2003 года не числилась практически нигде, как и ее автор (Митрохин, 2006. C. 195–220). Митрохин пишет:
В. Иванов издал первое в СССР за несколько десятилетий литературное произведение на русском языке, проникнутое ксенофобией в отношении целого ряда этнических групп и еще три десятка лет не имевшее в этом деле публично заявлявших о себе последователей.
Вслед за традицией русских националистов критиковать русских за пьянство и лень, рассказа о евреях-спекулянтах, писатель обращается к грузинам как к нации, в которой было больше всех негодяев, потому что они якобы захватили власть в стране и сделали несчастной жизнь русских. Такое отношение к грузинам, а затем и кавказцам в целом, было вызвано нахождением у власти представителей южных народов – Сталин, Берия, Микоян. Исследователь приводит строки из воспоминаний К. Симонова о том, что распространялись листовки с таким содержанием: «союз палачей Кавказа и жидов стал поработителем русских» (Там же).
Поскольку текст датирован первым годом после смерти Сталина, то появляется мысль о реакции на политический курс страны, который определялся главным образом и в том числе и грузинами. Астафьевское произведение не связано напрямую с отражением реакции на политику, но его появление мотивировано изменениями в ней.
Итак, русско-грузинский «литературный» постсоветский период начинается в 1985 году и продолжается, скорее всего, до 2014 года[46 - Конечно, в литературном процессе на данном этапе временные рамки условны, потому что нет возможности отталкиваться от каких-либо государственных постановлений и документов. Я основываюсь на общей тенденции развития и эмоциональной окраски литературной тематики.]. Поводом к первой дате (1985) послужил изменившийся принцип отражения друг друга в литературе, а ко второй (2014) – спад политической конфронтации между Грузией и Россией, ее переход в застывшую стадию, что понизило градус антироссийских настроений в грузинской литературе и возобновило изображение Грузии в традиционном ракурсе в русской литературе. Кроме того (об этом я буду писать ниже), активировалась переводческая и культурно-литературная деятельность. В указанный период имперская литературная традиция начинает развиваться в привычном русле имперских литературных периодов: в литературе на русском языке увеличивается количество произведений, содержание которых сводится к романтизации Грузии, а ведущим жанром становятся путевые записки. Тема вооруженных столкновений и поствоенной травмы, ставшая популярной для литературы 1990–2000-х годов, уходит на задний план (подробнее см. далее).
2.3. Ревизия пространства
Я вспоминаю карту, сверху вниз:
Эстония, Литва,
здесь город Минск,
Молдавия сиреневым пятном,
и Латвию я не забыл,
потом —
Казбек, Эльбрус,
хребтов последних цепь,
с которых мне видны леса,
и степь
на севере развернута, как сцена.
А там – Арагви…
Арагви, листопад…
И не могу представить карту Грузии:
мгновенно
я забываю карту,
и в мозгу
пульсирует Арагви и поет
Кавкасиони голубая вена.
Гиви Алхазишвили[47 - Я вспоминаю карту, сверху вниз… / Пер. с груз. А. Еременко // Алхазишвили Г. Всевидящее небо. М., 1991; http://modernpoetry.ru/story/givi-alhazishvili-derevya-dekabrya.]
Перемоделирование бывшего советского пространства не осталось без внимания не только историков, политологов, культурологов, но и писателей. Часть ученых обратилась к ставшим модными постколониальным исследованиям. Многие пытались ответить на вопрос: можно ли применить постколониальные/постимперские штудии к постсоветскому пространству?
Изначально причиной обращения к постколониальным исследованиям стала книга Эдварда Саида «Ориентализм» (1978), в которой автор проанализировал отношения западноевропейских стран с их ближневосточными, мусульманскими колониями и ввел понятие Ориента – не географического, а особенного культурно-политического пространства. Благодаря Ориенту Запад конструировал свой образ и пытался разобраться в себе. В этом есть сходство с ролью Грузии и Кавказа XIX века для Российской империи, но применять конструкцию Запад – Ориент к странам нашего исследования без многочисленных оговорок является нецелесообразным. Во-первых, Грузия занимала особое место на Востоке, так как являлась единственной его православной христианской страной, а в Средневековье – самой мощной державой Востока; затем она потеряла большую часть своей территории и населения из-за персидско-османских набегов. Во-вторых, Грузия – страна более древней культуры и истории, чем Россия, также страна раннего христианства и обладает собственной оригинальной письменностью и языком. В-третьих, роль самой России как «белого» цивилизатора из-за проблем самоидентификации и «вторичности» спорна. Российская империя XIX века пыталась копировать своих западных соперников, в том числе покоряя Кавказ и Среднюю Азию:
Копируя полуосознанные и часто недопонятые ими западноевропейские дискурсы, российские офицеры, покорявшие Кавказ или Среднюю Азию, вне всякого сомнения, имели свое искаженное представление о бремени белого человека, в какой-то мере можно сказать, что они играли в спектакле, притворяясь британскими офицерами в Индии и Африке, но, вместе с тем, сожалели о том, что им выпало воевать в диких местах (Тлостанова, 2004. C. 57).
На сложность определить роль России как Запада обратила внимание индийский русист Кальпана Сахни (Kalpana Sahni) в книге «Crucifying the Orient. Russian Orientalism and the Colonization of Caucasus and Central Asia» («Распиная Восток. Российский ориентализм и колонизация Кавказа и Средней Азии», 1997). Она пришла к выводу, что Россия, заимствовав ориентализм у Запада в процессе петровских реформ, была гораздо более радикальной, чем, скажем, Великобритания в Индии, поскольку «стремилась не только и не столько к экономической власти, сколько к полной ассимиляции покоренных ею народов, что привело к тяжелейшим последствиям для их существования» (см.: Лысенко, 2009. C. 76). Другой проблемой было то, что покоряемые народы даже на этих «азиатских» территориях были трудно определимы в расовом, этническом и религиозном смысле, в то время как сами офицеры часто обладали нерусскими фамилиями и потому вряд ли могли в полной мере проходить по ведомству абсолютных носителей славянской и православной культуры. Как известно, говорить по-русски у знати в том же XIX веке считалось дурным тоном, поскольку это был язык простонародья (Тлостанова, 2004. C. 57).
Альтернативой спорному и не подходящему противопоставлению Восток (Ориент) – Запад служит модель Север – Юг. В свое время Макс Вебер, разрабатывая дихотомию Север – Юг, обращался к протестантскому Северу (Европы) и к Югу, под которым подразумевался католический, мусульманский и прочий Юг. Он писал, что Юг включил в себя некоторое культурологическое и геополитическое сходство с понятием «Восток» (см. в: Burchardt, 2009. C. 105). Но Грузия – не католическая и не мусульманская страна.
И здесь вспоминается исследование антрополога и филолога Роберто Даинотто. В книге «Europe (in Theory)» (2007) и в ряде ранних статей (например, «A South with a View: Europe and Its Other», 2002), описывая особенности структуры и взаимоотношения внутри Европы, он продолжил разработку дихотомии Север – Юг и противопоставил север и юг Европы, исходя из принадлежности к глобальному Северу и глобальному Югу. Основываясь на постколониальных исследованиях, Даинотто обращается к Европе XVIII–XIX веков, изучая ее «других» не со стороны, а изнутри. Согласно исследователю, южным европейским странам свойственны иррациональность и коррумпированность, основанные на клановости, а северным странам Европы – рациональность и развитое чувство долга. Анализируя несколько эпох, Даинотто замечает, что существует определенная связь, подталкивающая к постоянному обращению Севера к Югу; причиной этому оказалась травма, спровоцированная разрывом между Севером и Югом, и тогда же Юг превратился в европейского Иного (Dainotto, 2002. P. 383).
Даиноттовская модель «Север – Юг», на мой взгляд, наиболее близка к отношениям «Россия – Грузия». В ее пользу говорит и то, что если у саидовского Ориента не выделялось ни религиозного, ни исторического сходства (имею в виду – до процесса самой колонизации), то у России и Грузии до политических отношений уже существовали церковные/духовные и культурно-литературные связи, которые укрепились в советский период, создав к тому же не только релевантные власти дискурсы, но и «рассадники» критических взглядов на главенствующий политический строй.
К такой картине «вторичного ориентализма» (Тлостанова) применим термин «южизм», а не «ориентализм», где Россия выступает как вторичный бедный Север. Определение «бедный Север» выросло из современных теорий о богатом Севере и бедном Юге. Под Севером подразумеваются богатство, «белая кость», власть, а под Югом – экономическая, социальная, гендерная, экзистенциальная несвобода и зависимость (Тлостанова, 2012. C. 98).
Тему России как бедного Севера развил философ и политолог Дугин. Причины бедности он видит в верности традициям, духовности и высшим трансцендентным ценностям, о которых позабыли на Западе: «Бедный Север должен быть духовен, интеллектуален, активен и агрессивен» (Дугин, 1996. C. 135). Если говорить об агрессивности, то известно, что после распада СССР Россия (бедный Север) продолжила агрессивную имперскую политику. Объяснения агрессии давались разные: стремление к реализации социально-культурного проекта «русского европеизма» как единственной альтернативы российскому, а значит, мировому катаклизму (Кантор, 2008. C. 493); «фантомные боли» империи, подобные болям после ампутации ноги у человека (Гайдар, 2006. C. 8). Понятие «бедный Север» близко в определении России.
Назвать Грузию бедным Югом, исходя из первоначальных смыслов, тоже не получается. «Ось сместилась», и Грузия, несмотря на свое географическое положение южной страны, стала вести себя так же агрессивно, как бедный Север. Подтверждением тому служат военные действия Грузии, направленные на удержание Абхазии и Южной Осетии в поле своего влияния. В некоторых современных исследованиях стали даже говорить о постимперском синдроме и синдроме «малой империи» (А. Сахаров)[48 - Как замечает Владимир Малахов в своей книге «Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций»: «…взгляд на Грузию как на мини-империю в 1992–2008 годах был широко распространен в Сухуми и в Цхинвали, но его категорически не принимали в Париже и Лондоне (не говоря уже о Тбилиси) – в том числе те, кто считал „мини-мперией“ современную Российскую Федерацию» (Малахов, 2014. С. 11). Автор ссылается на «полемику с западными коллегами, рассматривающими современную Россию как последнюю „мини-империю“», в статье: Тишков В. А. Забыть о нации // Вопросы философии. 1998. № 9.].
Отношения Грузии и России не следует буквально рассматривать в рамках постколониализма. Модель связей более сложна, и если роль России определяется как роль бедного Севера, то роль Грузии двояка: бедный Юг – по отношению к России, а бедный Север – по отношению к бывшим советским автономиям. Во всем контексте прослеживается имперская парадигма: Российская империя переродилась в СССР, ставший особым типом империи, о чем писали Терри Мартина (Martin, 2001), Дэвид Ч. Мур (Moore, 2001), Мадина Тлостанова (2004), Францине Хирш (Hirsch, 2000, 2002), а после распада СССР имперские настроения проявлялись и у его осколков – бывших советских республик.
2.4. Постимперские карты «на практике»
Где Тбилиси, Киев, Ереван?
Как прижаться вновь к их деревам?
Я хочу друзей моих обнять —
Не хочу в империю опять.
Евгений Евтушенко[49 - Комсомольская правда. 20.12.1995. № 233.]
В постсоветские десятилетия знакомство с «новыми» постсоветскими территориями остается приоритетной причиной путешествий, и жанр путешествия в Грузию занимает первенство по привлекательности для писателей, оставаясь чуть ли не основным в произведениях, написанных на русском языке. В текстах на грузинском тема путешествия никогда не была ведущей, и в современной литературе я не встретила «путевых заметок» грузин из поездок по России, поэтому речь пойдет в первую очередь о произведениях, написанных на русском. В культурной памяти советской интеллигенции сложился образ Грузии как части единой советской геокультурной модели: своя дружелюбная, гостеприимная, благополучная, солнечная страна с красивым ландшафтом, мягким климатом, с древней историей, культурой, архитектурой. Такой ракурс уходит в имперские времена, в произведения Пушкина и Лермонтова, благодаря которым наиболее ярко проявлялась дихотомия восток – запад (Ram, 2003. P. 23). Политические изменения последних лет перевернули отношение к понятию «своя Грузия». Перед читателем предстала и иная страна.
В постсоветский период приезд русских писателей стал носить отчасти иной характер: причиной приезда были не бегство, ссылка или служебные задания, а только социальные и дружеские контакты. В первые десятилетия (1990–2000-е) из России в Грузию приезжали очень редко, а из Грузии в Россию практически не ездили. С одной стороны, из-за социально-экономического кризиса, с другой – из-за политических преград. Это повлияло и на литературно-культурные связи. «Паломничество» имперского и советского периодов переродилось в редкие посещения. Писатели не были чиновниками, как когда-то в XIX веке, а являлись представителями мира литературы.
Особенностью авторов, обратившихся к теме Грузии, является возраст. Они – так называемое советское поколение, то есть получили образование в советской школе, в которой акцентировалось особое место Грузии в контексте русской культуры. Цели приезда писателей и представителей мира культуры в Грузию были разными, но впечатления от увиденного – зачастую схожими. Это отпечаталось на сюжетных линиях произведений. Основным нарративом становится противопоставление «до» (советский период) и «после» (постсоветский). Иллюстрацией к перелому впечатлений могут быть практически все произведения постсоветского периода. В большинстве случаев основу сюжетов составили личные воспоминания, включившие размышления авторов-рассказчиков и даже документальные факты. В части постсоветской литературы о Грузии продолжилась имперская литературная традиция обращения к ней как к романтизированному Югу, то есть акцентировалось внимание к природе и располагающей атмосфере. Например, рассказы Владимира Лаврова «Путь в Грузию» (1986)[50 - В тексте приводятся воспоминания автора-рассказчика о советском периоде, когда он – ленинградец – постепенно открывал для себя Грузию. Первое знакомство произошло через песню «Сулико», часто звучавшую по радио в послевоенные годы. Затем он вспоминает университетские лекции П. Н. Беркова о грузинской литературе, а затем уже состоялось личное знакомство с южной республикой. Писатель приводит знакомый ряд, который помог сформировать для него образ Грузии в сознании советского интеллигента, и связан этот ряд с культурой: песня «Сулико», поэма Лермонтова «Мцыри», символическое для русско-грузинских отношений слияние Арагвы и Куры, село Цицамури, около которого убили Илью Чавчавадзе, Важа Пшавела, фильмы Тенгиза Абуладзе, упоминаются художник Ладо Гудиашвили, писатели Борис Пастернак, Галактион Табидзе, Отар Чиладзе, Чабуа Амирэджиби, не обходится без традиционного описания дружеских посиделок в Грузии и рассказов-воспоминаний о людях, значимых для русско-грузинских отношений (см.: Лавров В. Путь в Грузию // Нева. 1986. № 11. C. 71–81).] или Евгения Гришковца «Три текста о Грузии»[51 - Российский драматург, актер, режиссер и писатель Евгений Гришковец (1967 г. р.) обращается к рассказу о путешествии со своим другом в Грузию 11–13 февраля 2011 года. Как и для многих русских писателей, Грузия воспринималась им в традиционно-романтическом ключе: особый дух и архитектура города, неповторимые грузинские застолья, кухня, многоголосье и культура. Это особое культурное советское наследие, часть его родины – СССР: «Грузия входит в чувственное понятие Родины. Грузия даже до того, как я в ней побывал, уже входила в территорию любви. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов очень помогли. Отец солдата, певчий дрозд, пастораль, три смешных грузина, которые рисовали разметку на дороге, Мимино, мадемуазель Пастик в исполнении Софико Чиаурели, красавец пастух в исполнении совсем не грузина Зельдина, влюбленный в свинарку, на чьем месте наверняка хотели быть наши бабушки, Бенджамен Глонти из Не горюй, юная красавица из Небесных ласточек, Абдулла из Белого солнца пустыни, сержант Кантария, Багратион, Дато Туташхиа (помню, с каким трудом я старался запомнить фамилию замечательного грузинского актера Отара Мигвинитухуцeси), граф Калиостро с огромными грузинскими глазами (дублированный армянином Джигарханяном), и еще целая вереница знакомых с самого детства лиц и имен, вплетенная в нашу жизнь, с самого детства, где бы мы ни жили – на Камчатке, в Крыму, Мурманске или Караганде. Никакому итальянцу, американцу или японцу все мною перечисленное не скажет ничего. Это наше. Не грузинское, не российское, не советское, а наше» (http://odnovremenno.com/archives/51).]. «Карта» приоритетов в отражении постсоветской Грузии выглядит по-разному: в одном произведении она воспринимается как южная культурная столица Российской империи XIX века, неожиданно ушедшая на задний план из-за постсоветских войн, в другом она стала одной из горячих точек вспыхнувшей «карты» Кавказа, а в третьем – автор старается, насколько возможно, отстраниться от постсоветских перипетий и останавливается на Грузии как на обособленном и независимом мире[52 - Я уже обращалась к образу нитки и иголки (факт путешествия как иголка и миф о Грузии-рае как нитка), ментально и эмоционально укреплявшим культурно-литературную связь между русскими и грузинами, затем осевшую в культурной памяти. Сейчас я буду говорить об иголке-путешествии как об инструменте и о писателях, открывающих читателям постсоветские изменения, происшедшие на бывших территориях СССР, а также моделирующих свою территорию увиденного.].
2.4.1. Концлагерь – конечный пункт путешествия у Александра Вяльцева
Деконструкция образа Грузии наглядна в произведениях Александра Вяльцева (1962 г. р.) – художника, поэта, издателя, который был активно вовлечен в жизнь советских хиппи и часто путешествовал по СССР. С Грузией связаны «Люди из ущелий: Записки бродячего человека» (1998) и роман «BLUE VALENTINE: История одной любви» (2000). Произведения отличает непривычность/нетрадиционность зафиксированного автором-рассказчиком. «Записки…» были написаны в 1986–1998 годах. Маршрут Вяльцева и его друзей-хиппи (Багиры и Шурупа) пролегал из Москвы на юг: Сочи, Краснодар, Пицунда, Тбилиси, Ереван, Баку, Нахичевань, Севан, Махачкала, Ингушетия, Дагестан. Интересующие меня картины Грузии приходятся на мирное время[53 - Лишь в конце текста упоминается военная Абхазия, но об этом позже.]. Жанр путешествия-приключения служит для рассказчика инструментом передачи впечатлений от увиденного. Придерживаясь имперской литературной традиции романтизации Грузии, он концентрирует внимание на архитектуре и особенностях Тбилиси, его магазинчиках, аптеках, древних христианских храмах и крепостях (Сиони, Метехи и др.):
Это удивительный по архитектуре город, где вкус виден даже в самых ординарных постройках. Плюс специфический стиль. Плюс специфический климат. История и природа создали этот южный город, до сих пор пощаженный в своей уникальной средневековой хаотичности, со скрытыми от глаз внутренними дорогами-лестницами, лоджиями, галереями, балконами, на мостовые под которыми «никогда не падает дождь» (Вяльцев А. Люди из ущелий. 1998. C. 86).
Сами грузины представляются автору «культурными и добросердечными». Привычные для любителя русской литературы романтические описания заканчиваются не просто грустными личными параллелями рассказчика, связанными с веселым прошлым, друзьями и путешествиями, а грустным настоящим: трагическими судьбами друзей-хиппи и упоминанием об исчезнувшем старом мире. Автор вводит несколько слов, которые эмоционально выбивают читателя из романтического контекста. Это страшное упоминание о том, что «…в годы грузино-абхазской войны в „третьем“ ущелье был абхазский концлагерь. Говорят, что с пленными обращались крайне жестоко. А теперь кто-то уже вновь рвется туда загорать. Не могу представить, как это кайфовать в бывшем Освенциме?» (Там же. C. 95). Картины веселой молодости сменяются изображением постсоветской реальности, старый уклад остался в прошлом.
Нарратив «иная Грузия» явен в следующем произведении, в романе «BLUE VALENTINE. История одной любви» (2000), где постсоветская страна предстает новым неизвестным и шокирующим миром. Главный герой романа – писатель и журналист Захар, приехав в Тбилиси и Батуми, где бывал в советские времена, тридцать лет назад, сталкивается с иным миром, который он не знал. Социально-бытовые проблемы 1990-х годов превратили ее в нищую страну:
Ободранный серый город. Мало людей. Отсутствие уличной жизни. Нищета и неблагополучие, бросающиеся в глаза, действовали, как холодильник. При плюсовой температуре Захару стало холодно (Вяльцев А. BLUE VALENTINE. 2000. C. 74–75).
В основу описаний лег личный опыт пребывания в стране. Автор старается передать информацию о неожиданных для него социальных проблемах, бросившихся в глаза: почтовая связь почти не работает, нет тепла и электроэнергии, чай пьют из термоса, еду подогревают на спиртовке, общественный транспорт почти не работает. Друзья описывают Захару современные Батуми и Тбилиси:
Стали рассказывать про свой город. Он считался спокойным: аджарский властелин Абашидзе охранял границы российскими пограничниками. Снаружи же – грабили, останавливали поезда. Поэтому жили изолированно. В Тбилиси было еще хуже и страшнее. <…> Два года уже они худели и «здоровели». Продавали вещи. В квартире изо рта шел пар. Вечером с проживающей у них веселой 72-летней «тетенькой», спасенной из Тбилиси, Захар раскладывал пасьянс и спорил о религии (она неверующая, но чтила экстрасенсов и летающие тарелки). Сидели за пустым столом – одетые, завязанные в платки, словно эскимосы в чуме. Ночью он спал во всей одежде (Там же. C. 75–76).
В 1990-е годы в Грузии путешественник не увидел ни вина, ни былых грузинских застолий[54 - Подобные описания быта современный читатель встретит и у Василия Голованова (1960 г. р.) в сборнике рассказов «Лето бабочек»: «В Тбилиси не было ни света, ни отопления, ни горячей воды, младенца купали в холодной и сразу заворачивали в горячие пеленки» (см.: Голованов В. Лето бабочек // Новый мир. 2009. № 4. C. 10–44, рассказ «Волшебный рог Вахушти»).]. В произведениях Вяльцева происходит изменение традиционного нарратива: Грузия процветающая превращается в обнищавшую. С «карты путешественника» 1990-х годов Грузия как курорт или как место отдыха исчезла.
2.4.2. Юг как травма: карта Эльвиры Горюхиной
Чьи это были бомбы? Разобрать было невозможно. Ощущение ирреальности происходящего, ощущение, что это не должно было случиться, оказалось самым сильным. Но это случилось. Империя распадалась.
Горюхина, 2000. С. 10
Грузия и другие республики Кавказа и Закавказья становятся жертвой российских имперских амбиций постсоветского периода, пунктами горя и травмы в очерках «Путешествие учительницы на Кавказ» (2000) и книге «Не разделяй нас, господи! Не разделяй…» (2004) Эльвиры Горюхиной (1932 г. р.), в прошлом учительницы русского языка и литературы, журналистки, а ныне профессора Новосибирского государственного университета, награжденной премией им. А. Сахарова «За журналистику как поступок» (2002). В отличие от Вяльцева, она не просто турист-наблюдатель, знавший Грузию периода расцвета, а потом увидевший последствия независимого существования, она – представительница советской интеллигенции, ставшая участницей постсоветских событий, связанных с горячими точками: «Для Горюхиной Кавказ – это судьбы его матерей и сыновей, это всеобщая трагедия» (Журавлева, 2008. С. 7). Художественные произведения Горюхиной о Кавказе критики ставят в один ряд с «Севастопольскими рассказами» Толстого (Шейхова, 2010; Руденко, 2004). Автор-рассказчица ломает традиционный образ имперского путешественника, восторгающегося экзотикой юга. Она оказалась единственной из российских писателей, внедренной в ход войн и взявшей на себя задачу фиксировать по горячим следам происходящее, а также записывать размышления местных жителей Кавказа и Закавказья о своей участи, об отношении к своему историческому прошлому и будущему, к проблемам, последовавшим за обретением независимости. «Путешествие…» – это художественный текст, основанный на документальном материале. Смелость писательницы заключалась в протестном противостоянии информационному потоку официальных российских СМИ, обрушившемуся на неосведомленного обывателя (Рева, 2015. C. 210) за пределами горячих точек. Путешествие включило в себя посещение Грузии (Тбилиси, Зугдиди, Сенаки и др.), Нагорного Карабаха, Чечни и Дагестана. Книга состоит из следующих глав: «Чем спасемся?» (о войнах и поствоенном синдроме в Грузии), «Нагорный Карабах» (о конфликте между армянами и азербайджанцами), «Место жительства – война» (о войне в Чечне), «Накануне» (о напряжении в Дагестане). Повествование о Грузии, начиная с января 1992 года, пропитано тревогой и болью. Горюхина сосредотачивается на городских картинах и на биографических случаях очевидцев войны. Типичными для Тбилиси тех лет были не картины благополучия, а люди с автоматами, множество беженцев, сгоревшие дома, взорванные мосты.
В середине января 1992 года Тбилиси был не похож на себя. «Что сегодня случилось в Тбилиси?» – эта строчка из стихов Заболоцкого не давала покоя. И хотя было ясно, что идет война, глаз не мог смириться с тьмой, в которую был погружен один из прекраснейших городов мира (Горюхина, 2000. C. 14).
Отталкиваясь от культурной памяти советской интеллигенции, писательница сосредотачивается на воспоминаниях о традиционных достопримечательностях, которые связывали русских и грузин (проспект Руставели, дом Сергея Параджанова, Мтацминда), а затем выстраивает мост между прошлым и настоящим, а настоящим является аэропорт, из которого летели в горячую точку. В сознании автора-рассказчицы, близко дружившей с самыми яркими деятелями грузинской культуры (Резо Чхеидзе, Тенгиз Абуладзе, Отар Иоселиани, Эльдар Шенгелая, Нодар Думбадзе, Отар Чиладзе), не укладывался факт появления иных грузин:
…еще в мае 1991 года, когда Грузия выбирала своего первого президента, я увидела грузин какими-то другими. Увидела их не в тот час, когда они творят миф о самих себе в грузинском застолье. Это были как будто те же самые люди, но что-то другое проступало в чертах знакомых лиц (Там же. C. 9).
Впечатления от увиденного и роль автора приводят к мысли об изменении традиционной ориенталистской концепции, восходящей к XIX веку, в которой «колонизатор», приехав в «провинцию», восторгался ее красотами. Военно-политические столкновения продемонстрировали одну из граней метаморфозы, случившейся с бывшим «колонизатором»: раздвоение образа на разрушителя (официальные власти) и сочувствующего помощника слабым (русская интеллигенция). Сочувствующий сосредоточился на главной гуманитарной катастрофе Кавказа: детях и беженцах, потерявших дом. Главным мотивом всех поездок Горюхиной было стремление помочь детям, оказавшимся в зоне боевых действий, друзьям («там моим друзьям плохо»), а также письменная фиксация увиденного. Публикация отрывков из детских сочинений и воспоминаний детей должна была стать главным упреком политикам. Одним из горьких подтверждений травмированности детских душ стал сюжет о посещении цирка. Здесь рассказчица столкнулась с особыми характеристиками переживших войну и живущих во время обстрелов:
Переполненный детьми цирк явил странное и жуткое зрелище. Я впервые в жизни столкнулась с молчащими детьми.
<…> По фойе, освещенному единственной свечой, водили на поводке тигра. Дети подходили к тигру, как к кошке, – никакой боязни. <…> Детское молчание вынести невозможно. <…> Так я впервые столкнулась с молчащими детьми. Это лишило меня покоя. Что же стоит за этим недетским молчанием? Что? <…> И я видела собственными глазами, как сгибаются и стареют дети под тяжестью горя (Там же. C. 15–16).
После войны в Абхазии возникло общество мечущихся и молчащих людей, пораженных культурной травмой (Alexander, 2004. P. 1; Штомпка, 2001. P. 8). Молчащие дети, молчащие мужчины, картины с гробами детей, автоматические и повторяющиеся действия, связанные с реальностью, которой уже нет, то есть проекция действий прошлого в настоящем:
Человек существует без желаний, надежд, без адекватной реакции на происходящее. Не все беженцы таковы. Далеко не все. Некоторые, наоборот, развивают гиперактивность, чтобы создать для себя и окружающих ощущение новой жизни. Хатуна упорно ищет постельное белье, которого нет. Судорожно достает кружку для чая, которого тоже нет. Наконец оставляет поиски и, словно окаменев, садится на постель. Все! Больше ничего нет! Ничего! Есть только горе (Горюхина, 2000. C. 47).
Не только тема травмы, но и тема потери становится лейтмотивом «Путешествия…». Дети-беженцы из Абхазии говорили о потере родителей и дома. Например, в главе «Дети Кодорского ущелья»:
В этой страшной войне я потеряла самое для меня дорогое – маму. Я ее потеряла, когда был самый сильный момент, и она была мне нужна. Кроме мамы потерялся старший брат. Он воевал и погиб. <…> Наши души растоптаны. Майя Гуджеджиани. 13 лет (Там же. C. 39).
Или:
Я тогда училась во втором классе, когда началась братоубийственная война между абхазами и грузинами. Это была болезненно придуманная война. До сегодняшнего дня мы не видим конец мучениям людей. Голодные и босые люди разбросаны за пределами своей родины. Мне, беженке, желаемым остаются мой дом и моя школа. Я не воспринимаю своей школу, в которой учусь. Софико Чаплиани. 11 лет (Там же. C. 40).
Писательница также приводит историю грузинки Медико, которую после войны одолевали странные наваждения и она, находясь уже в Москве, постоянно стремилась вернуться в свой дом, не веря, что его нет. Автор как свидетельница войны пишет о том, что горе конфликта ощущалось с первой секунды: «Оно – в глазах женщин, детей и стариков» (Там же. C. 14).
Содержание «Путешествия…» описывает не только метаморфозу роли «колонизатора», но и изменение самой «периферии». Стремление к независимости и переформатирование модели «центр – периферия» в модель «центр – центр» не обходились без войн, которые стали идентификаторами Кавказа и Закавказья, в том числе и Грузии, первого постсоветского десятилетия. Нарратив путешествия на войну стал неотъемлемой частью темы путешествия в Грузию.
2.4.3. Империя Андрея Битова
Самым масштабным по времени и по географии охвата отражением и осмыслением перемен, запечатленным на бумаге, стало творчество Андрея Георгиевича Битова (1937 г. р.) – книга жизни «Империя в четырех измерениях» (1996). Битов искусно, прибегая к постмодернистским приемам (шизофрении и раздвоенности), а также к метафорам и аллегориям, перенесению из одного времени в другое, предлагает читателю свое видение образа России и ее отношений с советскими, а затем бывшими советскими республиками, а также видение роли и образа «русского имперского человека» (Битов) во времена смены эпох. Для русско-грузинского контекста интересны III и IV части – «Кавказский пленник» (с вошедшими в нее «Уроками Армении», 1967–1969, и «Грузинским альбомом», 1985) и «Оглашенные» (1995), а также отдельно вышедшая часть – «Последний из оглашенных» (2012).
Книга Битова – это постмодернистский метатекст, в котором повествование ведется от лица автора-рассказчика. Он путешествует по «империи» – по пространству СССР, а затем и по постсоветским территориям. Автор-рассказчик первым в русской литературе советского периода на листе фиксирует особое чувство – ощущение русского человека в «братских» республиках, то есть впервые «он» противопоставляется «им», другим, как русский. Это чувство колеблется от принадлежности на основании культурно-исторических связей до впечатления неловкости и абсолютной чуждости. Раздвоенность ощущений вызвана знанием российской истории и роли русских колонизаторов в ней и знанием русской литературы, которые, наоборот, сближали с ними. В русской литературе советского периода А. Г. Битов по праву становится родоначальником темы «путешествия колонизатора или захватчика по провинциям империи СССР». Каков же сам наследник «поэтов в форме» как «колонизатор» второй половины XX и начала XXI века? Какова его карта «захвата»? И остается ли миф о Грузии-рае ведущим в его произведениях?
Автор-рассказчик предстал как новый тип «захватчика», некий битовский homo imperii. В нем есть черты сходства и отличия от «поэтов в форме». С одной стороны, он не причастен к государственной службе, с другой, как и его предшественники, он является невыездным (из-за проживавшего за границей брата). С Грузией автора-рассказчика связывали несколько поездок, цели и содержания которых отличались. В «Грузинский альбом» (1985) вошли главы, связанные с советским периодом, которые печатались по отдельности, так как к изданию единой книгой были запрещены. Толчком к первому путешествию в Грузию, как и у некоторых писателей-классиков, был писательский кризис 33-летия и страх «замолчать»[55 - Текст цитируется по изданию: Битов А. Путешествие из России. Измерение III. CПб., 2009.]. Советская Грузия была особой точкой на культурно-литературной карте, и на карте Битова в частности: это особая страна из-за связей с Пушкиным, Маяковским, Пастернаком (Битов, 2009. III. C. 538–539) и другими русскими писателями; это «своя» страна, в которую он вернулся как домой (Там же. C. 536–537).
Для подчеркивания близости Битов использует прием «перекрестка времен»[56 - Хоми Бхабха, вслед за Жаком Лаканом, критикуя понятие «временного плюрализма», в котором различные культурные места рассматриваются в одном условно универсальном времени, выделяет понятие «временного зазора» или «запаздывания» – неустойчивого состояния «темпорального разрыва в процессе репрезентации», во время которого ранее разлученный со значением знак наделяется новым смыслом, уже обогащенным успевшим выработаться гибридным или пограничным дискурсом (Bhabha H. The Location of Culture. 1994. S. 191–192).]. Один из случаев – это прогулка по городу. Путешественник замечает, что сквозь него проходят три человека, похожие на Лермонтова, Пушкина и, скорее всего, Толстого:
один высокий, с узкой головой, в усах и кепочке; другой – в ватнике, похожий на Пушкина; третий – грач в пиджаке… – нисколько не удивились на то, что я не такой, как они, прошли сквозь меня (Там же. C. 353).