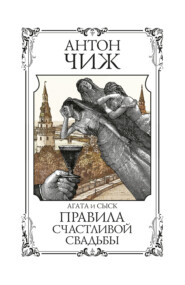
Полная версия:
Правила счастливой свадьбы

Антон Чиж
Правила счастливой свадьбы
Правило I. Смотрины
Образец письма с предложением руки.
«Дорогая моя Н.И.!
Простите мне, что я просто начинаю свое послание к Вам, но мои намерения дают на это право. С тех пор как я увидел Вас, страдаю бессонницей, лишен аппетита и одна мысль преследует меня. Эта мысль – законный брак и назвать Вас своею. Любя Вас как первую девушку в мире, я нахожу, что по моему характеру это будет последняя моя любовь. Кажется, одна могила заставит разлюбить Вас. Моя страсть беспредельна! Чувства любви всецело овладели мною. Ясно вижу, что так любить можно однажды в жизни.
Желание видеть Вас подругой жизни подавило во мне все прочее: я оставил все прочие свои желания и помышления на втором плане. Вам хотя известно, что мои средства невелики, что я не обладаю капиталами, но имею все, что нужно, чтобы жить безбедно, и если не окружат нас предметы прихоти богатых людей, зато мы будем иметь все необходимое в жизни.
Прекрасная моя Н.И., жду от Вас единственного «да!», столь много значащего для меня, и тогда узы святой и вечной любви соединят нас навеки. Ваше «нет!» будет для меня ударом, который оставит рану в сердце, неизлечимую навеки.
Любящий Вас и надеющийся на согласие Ваше Ф.П.А.»
«Полный письмовник и советы молодым людям, как безошибочно делать выбор невесты и быть счастливым в супружеской жизни». Составил И. К-въ. М., 1897.
27 февраля 1894 года[1]* * *Кабы знать, что такое случится… И ведь день-то какой был: Масленица, праздник, гулянье широкое и раздольное.
Федор Козьмич, глава семейства и фирмы, традиции купеческие чтил. С утренней службы возвратился, а стол уже ломится от блинов, рыбы, икры, солений, грибов, настоек и вин. С каждым расцеловался, прощения попросил за «прегрешения вольные и невольные», никого не пропустил. Первым за стол сел, за ним остальные последовали: жена Авива Капитоновна, дочери Астра и Гая Федоровны, компаньонка их Василиса, управляющий фирмы Курдюмов с сыном Ардалеоном, сваха Капустина, граф Урсегов с другом, Меморский, нотариус семьи. Не было разве младшего брата, Дмитрия Козьмича, который в дальнее путешествие отбыл. Да место по левую руку от Федора Козьмича пустовало.
Вроде веселись да радуйся, ешь и пей в свое удовольствие, сколько душа желает. Да только невесел что-то Федор Козьмич. Ни с кем не разговаривал, блинов себе накладывал. С икрой паюсной, с икрой красной, с икрой щучьей, севрюгой, со снетком, с осетриной да прочим рыбным. Сверху маслом чухонским поливал, сметаной сдабривал да лучком жареным, да солеными опятами. Такое изумление на тарелке случалось, что не каждому осилить. Он, и глазом не моргнув, проглотит да за новый блин принимается. Ел жадно, как в последний раз. Авива Капитоновна поглядывала да вздыхала. Федору Козьмичу все нипочем. Такой организм всесильный, что корову поглотит.
Известно, что на Масленицу Федор Козьмич позволял себе излишество. Великий пост для него был в тягость, так что ел, сколько мог. Но в этот раз, кажется, превзошел самого себя. Гора блинов, что перед ним выставили, растаяла, а ему и дела нет. Знай запивает квасом и ни с кем и словом не обмолвился. Даже на графа-приятеля не глядит. Сидит хмурый, челюстями молотит.
Разговор застольный начался, но вскоре сник, всяк на хозяина поглядывает, меж собой шепчутся: что за странность происходит, как бы дурно Федору Козьмичу не стало. Да только смельчаков не нашлось, чтобы замечание сделать. На что графу вольности дозволялись, так и он не посмел, папироской дымит. А Федор Козьмич знай себе блин начинкой сдабривает.
Тут случился конфуз: издал он утробный глас, за какой со стыда сгоришь. А ему хоть бы что. Промокнул губы салфеткой, встал из-за стола и направился к буфету, что со времен отца его стоял в столовой зале. Дверцу резную своим ключиком открыл, графинчик хрустальный достал, к которому никто прикасаться не смел, налил полную рюмку и в рот опрокинул. Поморщился, вздохнул тяжко.
– Ох, горькая, как жизнь моя, – сказал да дверцу запер.
И такому могучему организму подмога требуется: Федор Козьмич пользовал травную настойку семейного рецепта для улучшения пищеварения, что дед его пил и прадед. Он традицию чтил не без пользы для аппетита. За стол вернулся, принялся за блины. Новую горку к себе придвинул. Сколько съел, никто не считал. Да только вдруг схватился за грудь, будто воздуха не хватает, захрипел, вздрогнул, как от озноба, и повалился на пол.
Началась суматоха, бросились помогать. Галстук расстегнули, ворот распахнули, в лицо холодной водой брызнули. Авива Капитоновна послала за доктором. Мужчины вчетвером подняли Федора Козьмича, на диван перенесли. Он дышит хрипло, говорит, чтоб его оставили в покое – уже отпускает, тепло и хорошо ему. Кто же посмеет возразить? Федор Козьмич вроде как дышать стал тише, глаза закрыл и, кажется, заснул. Наверное, в себя помаленьку приходит.
Доктор прибыл шустро – как иначе, когда пациент известный, платит за визит щедро. Проверил пульс, посмотрел зрачки и сообщил: господин Бабанов скончался. Ничем помочь нельзя.
Тут помощь Авиве Капитоновне понадобилась: супруга, вдова уже то есть, в обморок упала. Доктор ее в чувства привел и разъяснения сделал: смерть Федора Козьмича самая заурядная, от непомерного объедания и чрезмерной нагрузки на сердце для такого размера тела и неюного возраста. На Масленице в Москве подобные кончины от объедания случаются по десяток на дню. Иной раз успевают спасти, а чаще печальный конец. Приставу полицейского участка сообщить следует, а он составит заключение о кончине по естественным причинам. Комплекция Федора Козьмича мощная, купеческая, от отца доставшаяся, стала виной его гибели.
Нельзя объедаться, опасно для жизни. Блинами в особенности. Ну, что тут поделать… Такая вот жертва Масленице приключилась.
Федора Козьмича похоронили на старом Даниловском кладбище, завещание в положенный срок огласили, в котором никаких сюрпризов не открылось, да и стали жить. Жизнь – она свое берет, особенно когда в доме дочки на выданье.
А недели через две, когда слезы высохли, Василиса в гостиной убиралась, веником из-под буфета сор выметала. Махнула, и выкатился пузырек аптечного стекла. Внутри крошки белые виднеются, наверняка из хозяйских лекарств. Попользовали и забыли. Василиса пузырек на буфет поставила и пошла себе дальше мести…
23 апреля 1894 года[2]* * *Какая чудовищная ошибка… Как же она сразу не догадалась, что эта свадьба – катастрофа. Нет, не катастрофа: расплата за все, что натворила в недавнем прошлом. Расплата случится обязательно, неважно когда: через месяц, полгода или год. Не может не случиться. Сама залезла в петлю и тащит за собой ни в чем неповинного человека. Который, к несчастью, любит ее «больше жизни». Мысли терзали, как рукастый палач. Картины одна гаже другой мелькали перед глазами. И не было от них спасения…
Отъехав от Москвы, она вдруг осознала, какую непоправимую глупость совершила. А расплачиваться придется вместе. Она вертелась на мягких подушках купе I класса, выкупленного для нее одной[3]. Через стену, в соседнем купе, спал он. Мерно сопел под перестук вагонных колес. Богатый, красивый, молодой жених вез в столицу невесту, чтобы получить формальное благословение родителей. Он спал сном счастливого человека, которого неприятности обходят стороной. Ну разве приличия запрещали ехать с невестой в одном купе. В остальном счастье его было незыблемым…
Спит и не знает, что счастье это не прочней карточного домика…
Отпыхтев восемьдесят верст[4], поезд подходил к Клину, до Петербурга ехать целый день. Ткнув локтем подушку, она уселась и стала смотреть в окно, подперев щеку кулачком. Мимо проплывали весенние перелески в свежей зелени. Светило праздничное солнце Пасхи, день был напоенный радостью. Не хватало розовощеких амурчиков, которые кружили бы на стрекозиных крылышках.
Счастье, о котором мечтает каждая девушка, пришло к ней: богатая свадьба в столице империи, роскошное платье, венчание в Казанском соборе, собственный дом с прислугой, дача в Гатчине, любящий муж. О чем еще мечтать? Особенно в ее годы, когда на таких засидевшихся женятся только старики или ненормальные. Двадцать шесть лет для девушки как приговор. Дальше куковать старой девой с мотком пряжи и кошками.
Рулетка судьбы подарила выигрыш. Стоит взять его – обожжешь руки. Она обладала достаточно ясным воображением, чтобы догадаться, пусть с опозданием, что случится после свадьбы, когда заживет с молодым мужем в полной любви. Ладно, пусть он ее любит безмерно. Умной женщине изобразить нежные чувства просто, как выпить стакан лимонада.
Что же случится? Ну вот, живут они с супругом в согласии, как вдруг в дом наведывается гость, скажем, старинный друг мужа. Гость знакомится с молодой женой, и что-то в ней кажется знакомым. Присматривается, но не может вспомнить, где ее видел. Прическа, платье и семейная жизнь делают женщину неузнаваемой. Однако гость уверен, что встречал эту красивую женщину. Он вежливо спрашивает, не были ли они знакомы прежде. Она отвечает, что не имела удовольствия. Гость из вежливости не спорит. Спорить с дамами не принято. И бесполезно.
Проведя приятный вечер и на прощанье поцеловав руку хозяйки, гость уезжает. Дома его осеняет, где он видел ее. Откровение, как удар колокола: ну конечно, в Москве (или в Нижнем, или Киеве, или Саратове) эта красотка выудила у него портмоне со всей наличностью и брильянтовый перстень вдобавок! Да как выудила! Соблазнила легкой победой, завела в номер гостиницы, заставила лечь в постель в ожидании ласк и сбежала, обобрав до нитки…
Поначалу добрый друг не верит в открытие. Но, припомнив некоторые детали той незабываемой встречи (хорошо, что супруга о ней ничего не узнала), окончательно убеждается, что под новой прической и платьем скрывается ловкая воровка. О своей догадке, смущаясь и принося извинения, друг рассказывает мужу Агаты. Муж, конечно, рассержен: супруга вне подозрений. Тем более его жена в девичестве – баронесса фон Шталь, а вовсе не какая-то мадемуазель Жази или Жари, как уверяет друг. Быть может, рассердившись, муж разрывает отношения со старинным другом, грозя дуэлью, если тот посмеет сеять сплетни, но… Но подозрения имеют свойство разрастаться.
Первый раз семейное счастье, наверное, устоит. Только трещинки сомнений появятся… А потом непременно объявится другой знакомый или приятель, который узнает в замужней женщине воровку, заманчиво и дерзко обокравшую его. Ничего удивительного: многовато состоятельных мужчин жаждали получить от нее любовь и ласки, но остались ни с чем. Пойдет слух, разговоры, которые не удержишь. В Петербурге умеют сплетничать. И тут картонное счастье сгорит папиросной бумажкой. Позор для супругов, муки развода…
Даже если повезет и пройдут годы, прежде чем некрасивая тайна откроется, мысль об этом будет медленно отравлять. Отравит уже первые мгновения свадьбы, когда молодые подойдут к гостям для поздравлений.
А если это случится уже на свадьбе? Если среди гостей окажется обиженный господин…
Как поступить ей теперь? Молчать, надеясь, что пронесет? Или пойти на выгодный риск: признаться сейчас, пока не поздно? Она не могла решиться ни на что…
Поезд пошел медленно, совсем тихо и вскоре остановился. В окне показался вокзальный павильон с широкими окнами и колоннами, подпиравшими крышу. По вагону прошел кондуктор, объявляя, что в Клину стоянка будет короткой: пятнадцать минут.
В окно купе виднелся вокзальный буфет. На столике перед ней красовались ваза с фруктами, блюдо с холодными закусками и хрустальные графинчики, сверкавшие легкими винами. Назло угощению от жениха, заказанному в дорогу, ей захотелось простого лимонада. Прислонив ухо к стенке и убедившись, что жених безмятежно сопит, она вышла из вагона.
Появиться даме без сопровождения в вокзальном буфете – вызывающе неприлично. Официанты косились. Клинский буфетчик был столь либерален, что не отказал одинокой даме в бокале оранжада. Мадемуазель села спиной к вагону, разглядывая через окна привокзальные строения. Ее столик отделяла ширма цветастого шелка, без чего нельзя представить провинциальный шик. Оглянувшись, она отметила пару мужских силуэтов на рисунках ширмы. И невольно прислушалась к чужому разговору, что простительно даме, скучающей с оранжадом.
– Ну, так как же теперь? – спросил мужской голос, прихлебнув из пивной кружки.
– А что такое? – ответил собеседник, выпуская папиросный дым.
– Так ведь конец нашей затее…
– С чего ты взял?
– Ну как же, у всех свадьбы, – сказал первый, звякнув кружкой об стол.
– Э, брат, – его спутник закашлялся. – Какие пустяки… Наш клуб веселых холостяков такой ерундой не сломить…
– Полагаешь?
– Не только полагаю, делом докажем…
– Это как?
– Прихлопнем невест, как надоедливых мух, – плохо различимый господин легонько шлепнул по столу. – И останется от них мокрое место. Раздавим, как букашек…
– Ишь ты, – не без интереса сказал его спутник. – А граф не будет возражать?
– Да что ты! Граф наш только рад будет… У него когда свадьба?
– В конце следующей недели…
– Ну вот, с нее и начнем. Накажем невесту графа… А там за остальных возьмемся.
– И то правильно… Давно пора их, понимаешь, вот эдак…
На рисунке ширмы взметнулась тень кулака. Забыв про оранжад, мадемуазель слушала, боясь выдать себя.
– Проучим так, чтоб остальным неповадно было, – сказал второй, давя папиросу в пепельнице. – Надолго запомнят… В прах земной сотрем… А то взяли манеру: невесты, свадьбы, все с ума посходили… И матушку Гусыню не пощадим, свое получит сполна, змеюка… Вот тут наша затея и прогремит на всю Москву и Рассею… Ну, пойдем, а то опоздаем…
Зашаркали стулья. Тени на шелке исчезли.
Выглянув из-за ширмы, мадемуазель увидела удаляющиеся спины в светлых, уже летних костюмах и шляпы, сдвинутые на затылок. Заговорщики шли на второй путь к поезду на Москву.
Ничем не примечательные господа. Замышляют убийства. В этом нет сомнений. Она слишком хорошо изучила примитивный животный механизм – мужчину. Известный тип мрачных ненавистников женщин, для которых чужая свадьба хуже своих похорон. Сами не женятся и другим не дают. Ленивые сычи, отравляющие жизнь брюзжанием. Но эта парочка явно способна на поступок. Клуб веселых холостяков завели, значит… Нет, шайка точно планирует дерзкие преступления. Мелкими пакостями дело не ограничится.
Станционный колокол ударил три раза. Кондуктор петербургского поезда крикнул из тамбура, что состав отправляется.
На следующей станции послать телеграмму в Москву? Господин Эфенбах, начальник Московского сыска, пожалуй, выскажется по-своему о женских страхах. На господина Пушкина надеяться нечего. Не человек он, а бесчувственная глыба льда… Что блестяще доказал…
Да и что сообщать? Не известны ни имена, ни чины, ни приметы убийц, даже цвет волос и примерный возраст… Дружки какого-то графа. Какой в этом толк! Графов в Москве, что галок у Кремля…
Паровоз дал прощальный гудок.
Поезд сейчас тронется, только успеть добежать до вагона.
Сомневаться нельзя.
Глотнув оранжад для храбрости, она побежала. На бегу попросила прощения у жениха за то, что не найдет невесту, когда проснется. За то, что ломает карточный домик его счастья. Так будет лучше для обоих. Он еще отыщет достойную жену.
Толкнув опешившего кондуктора вагона II класса, мадемуазель прыгнула на подножку, тяжело дыша и улыбаясь. Семейное счастье не для нее. Ей не суждено выйти замуж, так будет спасать московских невест, чем рассчитается за прошлые грехи.
В тамбур ударил встречный ветер.
Держась за поручни, она проводила взглядом поезд, увозивший в Петербург жениха и багаж. Безрассудный поступок лишил всех вещей. Нет даже сменного платья. Сущий пустяк по сравнению с кошмаром, от которого она сбежала. К тому же не все так плохо: с ней шелковая сумочка. Опыт, который она усвоила благодаря карьере великой воровки, гласил: будь готова к неприятностям, королева брильянтов, в любом случае рассчитывай только на себя…
Случай настал…
25 апреля 1894 годаНачиная с Рождества каждая незамужняя девица Москвы считает дни в «Русском календаре»[5]. Интересует ее не приход весны или лета, посев пшеницы или возвращение перелетных птиц, начало охотничьего сезона или рыбной ловли. С замиранием сердца она ждет, когда же наступит самое замечательное, если не сказать волшебное время, которое в народе именуется Красной горкой.
Начинается Красная горка с первого воскресенья после Пасхи и длится до Недели Всех Святых после Троицы. В эти дни каждая незамужняя девушка мечтает о браке, а ее родители – отдать жениху приданое и вздохнуть с облегчением: наконец-то избавились.
Жениться на Красную горку – не только гарантия, что жить с мужем будешь долго и счастливо, в богатстве и достатке, в любви и верности и умрешь с ним, окаянным змеем, в один день в окружении любящих потомков. Это еще суровая необходимость. Тут правила диктует календарь, вернее, непререкаемая традиция, по распорядку которой выходили замуж и матери, и бабушки, и прабабушки созревших невест. Первое сватовство случается на Святки, когда принято ездить в гости. Тут молодые люди знакомятся и приглядываются. Присматриваются и родители: насколько хорош жених, чего от него ожидать, сколько запросит приданого за свою любовь до гроба. Если пламя любви не задули материальные причины, в переговоры вступает сваха.
На свадебную дипломатию уходит месяц, а то и полтора. Глядишь – уже Великий пост: шесть недель и Страстную седмицу венчания запрещены. Также нельзя венчаться в неделю перед Постом, то есть в масленичную, и в неделю после Пасхи – Светлую седмицу. Кому совсем невтерпеж, успевают жениться на мясопустной неделе, еще до масленичной. Однако на эти свадьбы смотрят без должного почтения, даже с некоторым сожалением: дескать, обстоятельства вынудили. Намекая на «известные причины», которые заставляют невесту быстрее выйти замуж. Что поделать, злые языки клещами не вырвешь.
На Красную горку наступает сезон свадеб. Невеста переполнена радостью, родители рыдают от долгожданного счастья, а жених… ну а что жених? Он тоже счастлив. По-своему. Раз кругом все счастливы.
В общем, если когда и жениться в Москве, то на Красную горку. Причем лучше успеть в неделю до второго воскресенья после Пасхи. В этом году особенно. Сразу за ней наступает май. Месяц чудесный, радостный, весенний. Жениться в мае никто не запрещает. Но ведь потом всю жизнь будешь маяться, о чем каждой невесте доподлинно известно, не говоря уже о ее матушке. Нет, не будем в мае играть свадьбу, и уговаривать нас не надо… Нет и еще раз нет. Только в первую неделю Красной горки… Иначе в семейной жизни век счастья не видать.
Сразу после Пасхи Москва преображается. Белокаменная украшается свадебными платьями, как снегом. У нас, к счастью, не Англия, в которой королева Виктория только в сороковых годах нынешнего века завела моду на белые платья. До того бедняжки-невесты выходили замуж в зеленых или черных. У нас белый цвет принадлежит невестам издавна. Потому каждая витрина магазинов модного и готового платья, модных салонов и просто портновских заведений украшена свадебными новинками последнего парижского сезона.
Магазины торгуют миртом и померанцевыми цветами[6], живыми или искусственными, из каких должен состоять венок на голове невесты и букетики, приколотые на лифе и рукавах. Торговцы сбывают рулонами белые ткани. Кто побогаче, шьют невесте платье из репса, атласа, фая и прочих тяжелых шелковых материй. Другие берут кашмир, альпагу и тарлатан. С вуалью тоже забота: должна быть из хорошего тюля – tulle maline или tulle illusion, а еще лучше из настоящих кружев. Ну и тому подобные хлопоты, никому не интересные, кроме девиц и подруг…
Белый вихрь заметает Москву. Носит по улицам ошалевших невест, их подружек, матушек, тетушек, свах. Среди женского водоворота мелькают тонущие женихи. Нет, положительно свадебный сезон в Москве – самое волнующее время, от которого голова идет кругом, а кошельки пустеют окончательно.
В распахнутое настежь окно городского дома[7] в Малом Гнездниковском переулке дул простой апрельский ветер, не слишком теплый и ласковый. Кипучей натуре обер-полицмейстера Власовского уже было жарко. Он приказал вскрыть рамы, заклеенные на зиму, и напустил в кабинет весенний холод. Посетитель, который стоял перед ним навытяжку, не любил мерзнуть, особенно весной, но сделал вид вдумчивый и внимающий. Что после многих лет полицейской службы выходило у него на редкость достоверно.
– Это что же такое творится, Михаил Аркадьевич? – спросил Власовский, подставляя ветру спину, а лицо своему подчиненному.
Вопрос ответа не требовал. Статский советник Эфенбах знал наверняка – потому что изучил повадки обер-полицмейстера Москвы как капризы своей жены. Сделав карьеру, какой позавидовал бы любой чиновник, а тем более человек с особым происхождением, доставшимся от родителей, он умел понимать желания начальства и подстраиваться к ним. Потому добрался до почетной и опасной должности начальника сыскной полиции Москвы и удержался на ней.
– Как же понимать, до чего довели мы нашу Москву-матушку родимую? – продолжил Власовский.
Лицо Михаила Аркадьевича выражало суровую готовность защищать Москву до последней капли чернил. При этом перебирал в памяти, что могло так больно ранить обер-полицмейстера. Судя по сводкам, в городе не случилось ничего из ряда вон выходящего: обычные кражонки, несколько несчастных случаев, парочка убийств, уже раскрытых приставами без помощи сыска. Ничего, чтобы смутить дух Власовского в чудесный апрельский день.
– Как могли допустить эдакую мерзость!
Тут Власовский взял со стола газету, «Московский листок», как успел заметить Эфенбах, брезгливо встряхнул, отчего листы хрустнули, и перевернул на последнюю страницу, где печатались объявления частных лиц.
– Ознакомлен с этой пакостью? – Палец обер-полицмейстера указывал на объявление, выделенное жирной рамкой. Признать, что утренние газеты он читал не раньше обеда, Эфенбах не мог.
– Возмущению подобно есть как непостижимо! – ответил он одним из своих блистательных оборотов речи, какие приводили в трепет образованных личностей, а начальство ставили в тупик.
Власовский ничего не понял, но уверился, что начальник сыска разделяет его возмущение.
– Ты только вслушайся! – согнув газету пополам, он приблизил лист к носу, подтвердив подозрения Эфенбаха: полковник слеп, но очки надевать считает невозможным. Ну конечно, начальству носить очки постыдно. Открытие Михаил Аркадьевич спрятал поглубже, почтительно склонил голову и подставил ухо. Хотя слышал отлично. Как и видел.
– «Письмо женихов невестам Москвы», – прочел Власовский тоном, каким зачитывают указ о начале эпидемии холеры. – «Невесты Москвы! Мы, образованные и интеллигентные женихи, собрали собрание с тем, чтобы вынести резолюцию и довести ее до всеобщего сведения. Сим доводим до вас наше общее мнение: вы вздорные, капризные, избалованные создания, которые воспитаны вашими матушками в безделье и лени. Вы думаете только о развлечениях и балах, ваши желания не выходят дальше модного платья и украшений, ваша образованность нужна, чтобы читать слезливые романы и бренчать на пианино модные песенки. Вы пустые и бесполезные создания, которые не могут стать достойными женами. Вы не умеете сносить тяготы жизни и быть надежными товарищами своим мужьям. В ваших прекрасных головках гуляет ветер и посеян вздор. Вам нужны только деньги и богатство. Вы не умеете обращаться по дому и вести хозяйство в ограниченных средствах. Вы умеете лить слезы, падать в обморок и мучить истериками. Брать вас в жены мы более не намерены. О чем сообщаем вам и всех друзей наших призываем последовать нашему примеру. Лучше жениться на горничных и кухарках, чем жениться на вас. Таково наше решение. Примите уверение в нашем полнейшем почтении»…
Отбросив газету как источник заразы, обер-полицмейстер скрестил руки. Лицо его покрыла глубокая печаль.
– Вот натворили, – проговорил он, что не сулило авторам письма ничего хорошего.
– Угодили гвоздем под дых! – поддержал Эфенбах одной из своих поговорок, приводивших в оторопь знатоков фольклора. И не только их…
– И когда? В такой момент… В сезон свадеб… Сколько горьких слез невинных девиц уже пролито… Сколько сердец разбито вдребезги этим пасквилем…
– Уму нерастяжимо! – искренно согласился Михаил Аркадьевич.
А между тем он думал: с чего вдруг такая тревога? Не революционное воззвание, не прокламация, не листовка. Чья-то не слишком умная шутка. Кто-то захотел подразнить девиц. И это удалось. Наверняка Власовский с утра пораньше получил несколько истерических писем от мамаш, выдававших своих дочек замуж и схлопотавших эдакую смачную пощечину. Причем мамаш столь высокого положения, что не заметить их жалоб Власовский не мог. Михаил Аркадьевич имел предположение, кто именно постарался: в Москве всем известно, кто женится, а кто собрался замуж. С другой стороны, лично его вины никакой: цензурой сыск не занимается. Одним словом, правильное письмо. В самое сердце ядовитым змеям попали…

