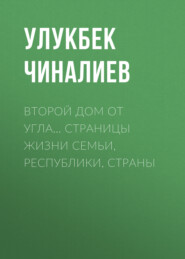 Полная версия
Полная версияВторой дом от угла… Страницы жизни семьи, республики, страны
Общежитие, в котором нас разместили, находилось в 47 километрах от Москвы по Рязанской железной дороге, комната на четверых, общая кухня, душ, туалет, красный уголок, буфет. Типичный набор помещений для студенческого проживания, все бы ничего, кроме одного, ежедневных трехчасовых затрат времени на дорогу. Помощь моего старшего брата, студента МЭИ, оказалась как нельзя кстати: общежитие, в котором он жил и куда пристроил меня, было вблизи от моего училища. Осталось продумать быт. Продукты длительного хранения в авоське висели за окном в зимнюю стужу, холодильников в общежитии не было. Популярны были жареная картошка, колбасный сыр за рубль сорок, чай с хлебом и дешевое вино «Три семерки». Типичный вечерний пейзаж общих кухонь: зеленые близнецы-чайники, чугунные сковородки и зоркие глаза ответственных за ужин. Без присмотра оставлять было нельзя: кипящий чайник заменят на холодный, сковорода манила вкусными запахами. Мне доверяли обеспечивать кипяток, а заваривал чай признанный мастер – старший брат.
– Друзья, – говорил он, – искусство заваривать чай – великое искусство. Ему надо учиться на юге Кыргызстана. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него засыпают чай и быстро ошпаривают кипятком. Первую жидкость надо сейчас же слить в полоскательную чашку, от этого чай становится чище и ароматнее, кстати, это пошло с тех времен, когда китайцы-язычники приготавливали свою траву очень грязно. Затем надо вновь залить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать три с половиной минуты. После этого долить почти доверху кипяток, опять прикрыть, дать чуточку настояться – и у вас готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий.
Тут же он вспомнил старый анекдот про секрет рецепта заварки чая: «Евреи, не жалейте заварки…»
Чаепитие вприкуску с анекдотами, смешными историями, особенно после сессий, спортивных состязаний, туристических походов… Однажды по неизвестной мне причине кипяток обязан был доставить другой студент, его долгое отсутствие вызвало недовольство, посыпались упреки.
– Закон сохранения и превращения энергии Гельмгольца никто не отменял. – Не смолчал обиженный на голословные претензии и продолжил: – Я использовал столько времени, сколько было затрачено электроэнергии для приготовления кипятка.
Уязвленные намеками на скудость знаний нервно отреагировали:
– Но очевидное подтвердят все присутствующие, неужели мы стоим на пороге нового открытия?
В словах тех, кто вступил в спор, звучал едва прикрытый сарказм. Придерживающиеся разных точек зрения обратились ко мне за разъяснением, мне ничего не оставалось, кроме как признаться, что предварительно я добавлял в чайник горячей воды из крана.
Тут же известный острослов рассказал анекдот. В таком же общежитии, как наше, студенты одного из своих товарищей незаслуженно обижали и часто обязывали кипятить чай, вот как его. (Указывая на меня.) Однажды их озарило чувство справедливости, и они обратились с обещанием не доставлять лишних хлопот своему сокурснику. В порыве благодарности и откровенности он воскликнул: «Тогда я вам тоже писать в чайник не буду».
Все посмотрели на меня с признательностью, но от чайника с тех пор держали подальше. Чтобы разрядить напряжение, один из студентов рассказывает анекдот.
Профессор на экзамене спрашивает студента:
– Вам задать один сложный вопрос или два легких?
– Один сложный, – выбирает студент.
– Тогда так: где впервые на земле появились обезьяны?
– На Арбате.
– Почему?
– А это уже второй вопрос.
На втором курсе я перебрался в общежитие в Измайлове, там всегда находился затейник, который устраивал проверку «козерогам», предлагая встать на чертежную доску с повязкой на глазах, руками опереться для устойчивости на голову двух добровольцев, поднимавших его. Чуть приподняв студента младшего курса, они приседали, создавая иллюзию подъема. Роли распределены, одни поднимают, раскачиваясь, другие кричат, прыгай, не то двое не удержат. Прыжок и неловкое падение, оттого что доска поднималась на несколько сантиметров от пола, завершался взрывом хохота.
С трудом, очень медленно и невесело осваивался я с укладом новой училищной жизни, и это чувство стеснительной неловкости долгое время разделяли со мной все первокурсники, именуемые козерогами. В прозвище Козерог, правда, звучит нечто пренебрежительное, но оно не обижает уже благодаря одной своей нелепости.
Пусть в памяти старины они так и остаются козерогами. Не нами это название придумано, а нашими прославленными предками. Пусть Козерог все-таки помнит о том, какая лежит огромная дистанция между ним и старшекурсником. Пусть всегда знает и помнит свое место, не лезет к старшим ни с фамильярностью, ни с дружбой, ни даже с простым праздным разговором. Спросит его старший – он должен ответить внятно и бодро. И дальше – никакой болтовни, никакой шутки, никакого лишнего вопроса. Иначе он зазнается и распустится.
Козерог, тут все просто, – это животное без хвоста. У первокурсников нет хвостов (академических задолженностей), поэтому они козероги. А набирать хвосты они начинают, как раз под знаком Козерога, с 22 декабря. Обычно в это время уже ясно, у кого зачет, а у кого нет.
От результатов сдачи экзаменов в сроки, ограниченные сессией, зависело назначение стипендии – и возможность поездки домой. Льготное приобретение авиабилетов, стоимость которых была равна месячной стипендии, мог позволить себе любой студент. Но всегда гладко на бумаге, а в жизни полно оврагов. Во-первых, только после сдачи зачетной сессии можно рассчитывать на допуск к экзаменационной. Экзамен – родственник лотереи, в канун его сдачи оцениваешь себя знатоком, беседа с экзаменатором не всегда подтверждение этому. Сроки пересдачи ограничивались зимними каникулами и двумя попытками, приказ ректора об отчислении мог стать реальностью, о которой совсем недавно ты не догадывался. Во-вторых, доступные цены билетов порождали их повышенный спрос, поэтому у билетных касс толпились огромные очереди. Наконец препятствия позади.
После шести часов полета аэропорт Ош закрыт из-за погодных условий – и посадка происходит в Ташкенте. Зал регистрации местных авиалиний переполнен, нам предстоит добраться до Андижана, а там рукой подать до дома. Протиснуться к стойке регистрации стоит больших усилий, не берусь описывать толкотню, но я впервые понял, что такое быть сардиной в консервной банке. Кто-то подсказывает в студенческий билет вложить пять рублей, иначе можно просидеть каникулы, это срабатывает.
Серый туманный день повис над Джалал-Абадом. Небольшое провинциальное местечко все окунулось в молочную пелену непроницаемого тумана. После московского январского мороза сырой день с моросящим нудным дождиком, холодным пронизывающим ветром все плотнее и плотнее укутывал в свой непроглядный серый покров. Узкие улочки пересекаются еще более тесными переулками: освещение все больше в центральной части города; на окраине их приводят в негодность, затемненные улицы как нельзя кстати для разного рода проходимцев, хулиганов и грабителей. Местные жители свыклись с неудобствами и стремились без острой надобности не покидать жилые дома и квартиры, чтобы не оказаться на пути искателей приключений или толпы, бегущей в одну или в другую сторону.
Окружающая убогость отступала на второй план, приоритетом для нас становился отчий дом: настроение в нем почти никогда не совпадало с настроением городской неустроенности; как правило, редко бывает, чтоб один ликовал, когда ликует другой, или один прослезился, когда другой льет слезы; отчий дом сиял, наполнялся жизнью с нашим приездом. В доме тепло. Газовое отопление несколько лет назад пришло на смену печному, радиаторы установлены под каждым окном с двойным остеклением, к тому же между стеклами уложена вата, а края окон, примыкающие к стене, проклеены полосками белой бумаги.
Счастье, когда родители рядом и неспешно ведут беседу. На стенах прикроватные гобелены – спутники нашего детства, сюжеты с лебедями классические, тех лет; телевизор «Рубин», он пришел на смену «КВН-49» (название расшифровывалось в народе как «Купил – Включил – Не работает»). Памятная картина Петра Белоусова «Мы пойдем другим путем», все так же на прежнем месте восточной стороны комнаты, перед круглым столом, на скатерть которого я опрокинул чернильницу, а потом не знал, как оправдаться перед мамой.
Мама неспешно проявляет интерес к бытовым условиям московской жизни:
– Не холодно ли в общежитии?
– Никак нет, вот так же тепло, как в нашей комнате, – успокаиваю я ее, зная о том, что она дотошно будет расспрашивать, как питается студенчество.
После моих объяснений мама делает вид, что поверила мне.
– Зимы московские студеные, а пальтишко у тебя не по сезону, жиденькое, – продолжает мама. – Мы попросим отца приспособить меховую безрукавку к пальто, он у нас умелец, на все руки мастер, он и обувь починит, и пальто утеплит.
Отец закуривает «Беломорканал», он был убежденным сторонником того, чтобы его дети приобретали техническую специальность, так оно и произошло, трое учились в Москве, четвертый в Таганрогском радиотехническом институте.
– Расскажи мне, сынок, – обращается он ко мне, – некоторые подробности о своем училище.
– Знаешь, Ата, более трех тысяч преподавателей обучают студентов, из них триста сорок – доктора и профессора, свыше тысячи семисот кандидатов наук, – говорю я. – Это не только уникальная библиотека, прекрасные аудитории, но и замечательные лаборатории и кабинеты, оснащенные новейшими станками, приборами, исследовательской аппаратурой. Мы знакомимся с техникой будущего, с той, которую еще предстоит внедрить в производство.
Именно в училище я впервые познакомился с литейным мини-цехом, с прогрессивным методом обработки металла и узнал многое другое. Первую производственную практику мы проходили на Московском электромеханическом заводе имени Владимира Ильича, предприятие специализировалось на выпуске автономных передвижных электростанций, сварочных агрегатов, электродвигателей большой мощности, одномашинных преобразователей частоты. Вторую – нам предстоит пройти на Автомобильном заводе имени Лихачева, в ремонтно-механическом цехе.
Именно тут студенты получали практические знания по своим будущим профессиям. МВТУ вооружает студента не только новейшими знаниями, но и практическими навыками, готовя из них будущих командиров производства по разнообразным специальностям.
– Мое первое впечатление, Ата, – продолжал я делиться о буднях учебы, – ты словно песчинка в море: вокруг тебя так много разных людей, и ты никому не нужен. В школе тебя каждый день видят учителя, беседуют с тобой, проверяют задания, ставят оценки. А тут: хочешь – ходи, хочешь – не ходи. Никто вроде тобой не интересуется. Сначала мы, первокурсники, немного балбесничали, а потом чувствуем – надо учиться, и засели за учебники.
Учиться было интересно.
На первом курсе я жил в общежитии со старшим братом, на втором – мне дали место в общежитии в Измайлове и хорошую стипендию – 35 рублей в месяц. За общежитие платили в год не более 10 рублей. Сюда входила уборка мест общественного пользования и смена постельного белья два раза в месяц. На каждом этаже была общая кухня, а на первом этаже помещалась дешевая столовая и буфет.
– Откровенно говоря, сынок, – стал делиться отец своими заботами, – нашей заработной платы нам с мамой едва хватает, даже иногда приходится перезанимать средства, чтобы содержать вас. Поэтому я обратился к директору хлопкоочистительного завода Григорию Пискунову, чтобы он направил меня на Кара-Дарьинский заготовительный пункт (в двадцати километрах от города).
– Да, Кара-Дарья знакома нам, – вступает в разговор мама, – мы провели там несколько послевоенных лет, вы были мал мала меньше, к пятидесятому году мы перебрались в областной центр. Мне знакомы многие села. – Рисует в своем воображении их облик мама. – Общение с соседями не вызывало у меня затруднений, язык и национальные обычаи я легко усвоила.
В каждом из этих сел центром общения были магазины, продовольственные и промышленные товары регулярно обновлялись и продавались в одном помещении.
Мама притрагивается к моей модной куртке и говорит:
– Куртка не хуже, чем у твоих друзей, а на селе она не пользуется спросом.
Не только куртка, но и индийские джинсы коричневого цвета, с заклепками на задних карманах пришлись мне впору. «Это, конечно, не фирменные Levis, – подумалось мне, – об этом я и не мечтал». Джинсы стали как бы символом приключений и нового старта в жизни. От строгих костюмов стали отказываться, в мятых брюках в учебной аудитории не появишься, следовательно, надо встать пораньше или накануне навести стрелки, мои коллеги-армейцы под матрацы стелили брюки; не имея таких навыков, я предпочел джинсы.
Покуривая папиросу, сидя за столом после ужина (а на ужин мама приготовила бешбармак) и домашнего крепкого напитка, отец продолжает прерванный рассказ:
– Я заручился поддержкой своих коллег и обратился в сельсовет с просьбой о выделении нам земли в поймах реки Кара-Дарьи для строительства рисовых чеков, а также под сад на жесткой богаре, там же намеревались посадить дыни, арбузы и овощи.
Делился отец своими размышлениями со знанием и пониманием предстоящего дела, с расчетом будущих затрат и получением выгоды. Каждый шаг был продуман, взвешен и подкреплен людской поддержкой.
– Мы распределили между собой обязанности, – раскрывал детали предстоящего проекта отец. – Чековые рисовые поля не вызывают у нас затруднений, мастера по выращиванию риса – каждый второй в коллективе.
Выращивают рис вручную, таким же образом собирают урожай. Растет он в настоящих болотах, главное, чтобы вода всегда была прохладной, поэтому ее берут из реки, протекающей вдоль полей. Старшие братья вспоминали, как, возвращаясь домой на летние каникулы, выезжали с отцом на прополку рисовых чеков. Весь день по колено в воде под безжалостными лучами июльского солнца выпалывали сорняки, причем сорную траву отличить от риса было весьма непросто.
Пока отец делится своими планами и заботами о нашем будущем, меня посещают воспоминания, от которых мне стыдно до сих пор.
Золотая осень сопровождалась уборкой урожая, мы, школьники восьмого или девятого класса, собирали хлопок в одной из бригад колхоза «Коммунизм». Конец трудового дня: кто-то стоит, кто-то резвится, кто-то скручивает свои фартуки в тугой жгут и начинает вращать вокруг своей оси, прерывая вращение «револьверным» выстрелом. Каждый школьник занят своим делом на площадке перед херманом (пункт приема хлопка-сырца), глинобитным строением без окон и дверей с плоской крышей. Прибывают автобусы, и постепенно вступают в свои права школьницы, поют песни, берущие за душу. Голоса их наполняют все вокруг дыханием чувственности, невинной и влекущей, от которой щемит сердце.
Во время войны в глубоком тылу ввели затемнение окон, и вдруг на фронт прилетела песня «Огонек»: уходит боец на позиции и, удаляясь, долго видит огонек в окне любимой… Или песня «Прощайте, скалистые горы», автор соединил горы и волны, в музыке и словах – биение жизни, ее прилив и отлив. У меня есть все основания полагать, что часть моих одноклассников избрали профессию морских офицеров под влиянием мелодий военных лет, наполненных чистотой и полетом!
Создавалась запоминающая, особая атмосфера от присутствия сверстников, мелодий песен, их слов, которые могли навеять грусть, радость или горечь. Причем между собой своими чувствами мы не делились, это становилось личными переживаниями. Большинство военных песен появились после войны. Чаще всего к очередной годовщине или от боли воспоминаний. Но поскольку были живы те, кто войну пережил, и тема святая, конечно, отношение было соответствующее. И у авторов, и у исполнителей.
Отец был озабочен своевременной уборкой урожая риса и приехал за мной на легковой машине «Волга», он рассчитывал на мою поддержку. А я проявил малодушие, отказался от поездки с отцом, впоследствии он никогда не вспоминал об этом, прошло более шестидесяти лет, а мне совестно за тот случай.
Много позже, когда отцу было за семьдесят, он намеревался вырастить арбузы в пригороде города Фрунзе и разбил участок – бахчу, в один из знойных дней августа я приехал к месту его стоянки и ужаснулся условиям его проживания. Бытовой строительный вагончик был оккупирован злыми комарами и мухами, духота, а поле усеяно камнями и арбузами размерами чуть больше камней.
– Ата, на это невозможно смотреть, зачем ты истязаешь себя, брось это занятие, собирайся и поедем домой.
– Сынок, – говорит он, – я хочу в меру своих сил помочь вам.
– Но какая же эта помощь, – спорю я с ним, – это одно расстройство и безжалостное самоистязание, а лет тебе немало, все может кончиться трагически.
Убедить его мне не удалось. Все помыслы отца были направлены на строительство благополучия своей семьи, иногда эти устремления становились настоящей угрозой его здоровью и не стоили тех душевных и физических затрат. Полная самоотдача отца не встретила такую же обеспокоенность о нем со стороны членов его семьи, последовал инсульт, и все тяготы по уходу за ним легли на плечи мамы. Очередной сбой организма произошел через пять лет.
Мне позвонил старший брат:
– Состояние отца критическое, температура под сорок, младший брат, медик, рекомендует госпитализировать его в клинику Мамакеева. Будучи главой столицы, я встретился с Мамбетом Мамакеевичем, отца уже доставили в приемный покой клиники, он осмотрел больного и распорядился срочно готовить его к операции. Благодаря блестящим знаниям, золотым рукам хирурга операция прошла успешно.
Пятнадцать тысяч хирургических вмешательств, свыше ста тысяч консультаций тяжелых больных, шестьдесят восемь лет работы хирургом – Мамакеев занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Голос отца продолжал повествовать:
– Гораздо сложнее обстоят дела с освоением жесткой богары (неорошаемая подгорная равнина). – В его речи появились нотки озабоченной интонации. – Представь себе, необходимо смонтировать трансформаторную подстанцию, запитать ее, а значит, построить электросеть, протянуть трубопровод с реки, установить насос и подать влагу на высоту до двадцати метров. Хорошо, что я нахожу понимание у директора хлопзавода Пискунова. (Чувствуется, нелегко далось это понимание.) Он финансирует проект, а начальник нефтепромыслового предприятия «Чангыр-Таш» разрешил извлечь трубы с заброшенных нефтяных скважин.
Если б я тогда знал о принципе работы гидравлического тарана, этого несложного и остроумного механизма, который не нуждается в источнике энергии и, не имея двигателя, поднимает воду на несколько десятков метров. Сейчас я представляю себе, каким образом я установил бы трубу на быстротечной Кара-Дарье, а другой конец трубы, перекрытый заслонкой, создавал бы избыточное давление и проталкивал воду через обратный клапан в расширительный бак. Стенки бака, накапливая избыточное давление от гидроудара, но не в воде (она несжимаема), а в воздухе, и протолкнула бы живительную влагу по отводному шлангу на богару.
Миновал год труда, и затраты окупились сторицей, урожай уродился щедрым. Но тут возникло новое испытание: куда девать излишки. Возникла классическая советская ситуация, никто из работников заготпункта не соглашался продавать на рынке выращенное. Каждый считал это занятие зазорным и постыдным.
– Как ни убеждал я их, – с горечью делился отец, – что ничего в этом предосудительного нет, ведь не украли же мы в конце концов эти арбузы и дыни, а вырастили своим трудом, что это излишки их собственного производства, работники были непреклонны. Пришлось обратиться к перекупщикам.
Но все же основным делом отца была организация деятельности хлопказаготовительного пункта, формирование его учетной политики. Зная, как легко можно прокручивать хлопковые сделки и как элементарно можно оказаться втянутым в противоправную практику, отец дотошно и скрупулезно вел анализ отчетных данных. Он постоянно предупреждал председателей колхозов ни под каким предлогом не заниматься приписками. Требовал от заготовителей, чтобы они принимали хлопок согласно установленным стандартам, по показателю влажности и содержанию пороков и сорных примесей. Занижая или завышая установленные нормы, получают излишки дорогостоящего сырья, которое без особого труда можно продать колхозам, срывающим государственный план хлопкозаготовок. Отец неустанно убеждал счетных работников, заготовителей, весовщиков, рядовых бухгалтеров в том, что, обманывая сдатчиков хлопка-сырца, они тем самым преступным путем обогащают руководителей заготпунктов, которые легко откупятся, а стрелочниками окажутся они, рядовые исполнители. Через несколько лет хлопкосеющие регионы подверглись тотальной проверке, назидания отца уберегли немало работников от скамьи подсудимых и бесчестия. Уж лучше жить бедно, но честно, нередко повторял отец собственное правило, которому следовал всю жизнь.
«Ulukbek агай, вы пишете очень складно и без излишних украшений, без пристрастий. В моем понимании, это очень ценное качество для летописца. Я читал ваш пост о студенческой форме. Скажу прямо, читал с удовольствием. Вот написали бы еще про житье-бытье студентов, о стипендии, о льготах для студентов (на авиа и ж.д. билеты), о студенческих профилакториях, если был в Бауманке. Почему я говорю я об этом? Недавно я рассказал о них одному довольно начитанному британцу и кыргызстанцу, они были в прямом смысле ошарашены… Это было открытие для них. Конечно, постсоветским властям, в том числе нашим правителям говорить (вспоминать) об этом не выгодно. У меня нет ностальгии по советской власти. Но в молодежной среде должны знать прошлую жизнь без идеологических прикрас». Amirbek Usmanov.
Никаких заработных плат родителей, ни выручки от подсобного хозяйства не хватило бы на обучение четверых детей в высшей, а пятого в средней школе, если бы не советская власть. Никак не могу согласиться с теми, кто твердит, что Советский Союз ничего, кроме галош, не производил, это преднамеренная ложь. Технологии наукоемких отраслей, военные и космические успехи нынешней России начинаются в период советской власти. Намеренно не желаю приводить статистику, а в пример приведу семью, в которой я воспитывался. Совершенно заурядную, каких по стране было десятки миллионов, мама работала няней в детском саду, оклад ее был 35 рублей, она иногда подрабатывала еще сторожем. Отец трудился бухгалтером на хлопкоочистительном заводе, получал 150 рублей, доход родителей был недостаточен, чтобы позволить одновременно учить четверых детей в лучших вузах страны. Бюджетное образование, высокая стипендия, символическая плата за проживание в общежитии, льготы на все виды транспорта, профилактории и санатории, бесплатное посещение спортивных секций, творческих клубов обеспечивало государство. К тому же каждое лето мы зарабатывали на учебу в студенческих отрядах. Благодаря советской власти через десяток лет мы станем инженерами, педагогами, учеными, важными персонами, младший брат с женой приобретут статус докторов медицинских наук.

Мои родители Кожомжар Чиналиев и Мария Никитична Дятлова с внуком Владимиром. Джалал-Абад, 1972 год. Фотография из личного архива.
Для родителей, так же как и для нас, приезд в родной дом был желанным. Двор наполнялся смехом, розыгрышами, гостей мама угощала пловом и домашним виноградным вином. Плов из риса, выращенного своими руками, домашней курицы, желтой моркови, на хлопковом масле, что может быть вкуснее?
«Читаю и чувствую, – делится Дамира Конурбаева, – атмосферу того времени, радость и гордость родителей за своих подающих большие надежды детей, дружную семейную встречу, запах плова с домашней курицей с узгенским рисом (обожаю такой плов, очень вкусный). Спасибо за теплое, интересное повествование».
А виноградное вино, изготовленное по рецепту мамы, превосходило напитки отечественного и иностранного происхождения. Включали магнитофон «Десна», резвые танцы плавно переходили в медленное танго. Мои друзья – курсанты высших военных училищ, одного из них, который учился в танковом, спрашиваю:
– Боб, а много ли курсантов обучается вместе с тобой?
Об этом он не говорит.
– Ну тогда скажи, сколько ложек в вашей столовой?
– Ты наверняка помнишь, как мы с тобой у Ибрагима и его сестры планами делились на будущее?
– У тебя было три дороги, и одну из них ты выбрал. Ибрагим, кстати, тоже избрал путь педагога. Ну да ладно, сейчас не к месту вспоминать наши детские фантазии, о них я подробно расскажу по ходу своего повествования.
Среди нас три курсанта Бакинского высшего военно-морского училища, один из них, Виктор, мечтал о море, мы его так и звали – Матрос.
– Мне по душе та профессия, которую мы осваиваем с Борисом, учеба не из легких, но мне нравится буквально все: и форма, и пища, и преподаватели, и даже наши порой предельно суровые старшины.



