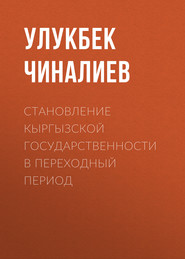 Полная версия
Полная версияСтановление кыргызской государственности в переходный период
Многие политологи считают, что возникновение и утверждение тоталитаризма обусловлено объективными причинами, рассматривают его как специфическую попытку решения обострившихся реальных противоречий между усложнением социальной организации и индивидуальной свободой.
Вероятность утверждения тоталитаризма, его привлекательность для масс резко возрастает в период острых социально-экономических кризисов. Это объясняется, по мнению В. П. Пугачева и А. И. Соловьева, тем, что тоталитаризм дает отчужденной, одинокой личности надежу с помощью новой веры и организации утвердить себя, преодолеть комплекс неполноценности и возвыситься над окружающими благодаря принадлежности к избранной социальной группе или партии (12).
В массовом сознании тоталитаризм вызывает однозначно негативные оценки, неизменно убеждение, что он в силу присущих ему внутренних противоречий и резко отрицательных качеств обречен. Такой вывод подтверждается и историческим опытом – такие разновидности тоталитаризма, как коммунизм-социализм (в СССР и ряде стран Центральной и Восточной Европы), фашизм (в Италии), национал-социализм (в Германии), в конечном итоге потерпели поражение и сошли с исторической сцены. Но будем объективны: тоталитаризм позволяет (и это также подтверждается историческим опытом) в довольно сжатые сроки мобилизовать необходимые ресурсы и энергию и направлять их на решение определенных задач, которые носят прогрессивный характер. Назовем в этой связи хотя бы реализацию в СССР таких гуманных политических целей, как бесплатное медицинское обслуживание, высокий уровень образования населения, доступ к достижениям культуры, социальная защищенность населения, развитие экономики, резкое сокращение преступности и т. д. Не будем забывать и тот факт, что в годы тоталитаризма СССР смог выстоять в жесточайшей схватке с фашизмом и выйти победителем. Однако, отметим еще раз, в историческом плане тоталитаризм обречен.
Авторитаризм характеризуется полным или почти полным отсутствием демократических политических отношений, реально все функции власти сосредоточиваются в руках одного лица (президента, премьер-министра, монарха) или группы лиц. Власть и политика монополизированы, реальная политическая оппозиция не допускается. Партии, профсоюзы, другие общественные организации могут существовать только в том случае, если они безоговорочно поддерживают существующий режим либо подконтрольны ему. Власть не ограничена и неподконтрольна гражданам, она широко прибегает к средствам подавления, администрирования. Властные полномочия могут осуществляться с помощью законов, но власть сама их принимает по своему усмотрению. Выборы и референдумы если и проводятся, то под контролем властей. Формальным характером отличается и разделение властей, даже если оно и провозглашено конституционно. Самоуправление практически отсутствует. Политическая элита рекрутируется путем кооптации, а не конкурентной электоральной борьбы.
В то же время авторитарные режимы отказываются от тотального контроля над обществом, не вмешиваются (или вмешиваются ограниченно) во все политические сферы, прежде всего в экономику, а также в частную жизнь.
В последние десятилетия авторитарные режимы чаще всего носят переходный характер и ориентируются, хотя бы формально, на постепенный переход к демократии. При этом нередко используются демократические институты (например, выборы, референдумы, плебисциты).
Во многих странах авторитарные режимы демонстрируют сравнительно высокую эффективность. Они обеспечивают политическую стабильность и общественный порядок, способны мобилизовать общественные ресурсы на решение определенных задач, преодолевать сопротивление политических противников. В ряде стран политическая стабильность сочетается с экономическим процветанием (Южная Корея, Чили, Китай. Вьетнам), здесь сочетаются такие феномены, как сильная власть и свободная экономика, личная безопасность граждан и сравнительно развитый социальный плюрализм. Все это делает авторитарный режим эффективным средством проведения радикальных общественных реформ. На этом основании некоторые политологи делают вывод, что для посттоталитарных режимов, в частности на постсоветском пространстве, предпочтительнее не переходить непосредственно к демократическому режиму, а сначала остановиться на этапе авторитарного режима с демократическими тенденциями, что создает более благоприятные условия для проведения объективно необходимых экономических, политических, социальных и других преобразований.
К сказанному необходимо добавить, что демократически ориентирующиеся авторитарные режимы недолговечны. Их реальной перспективой является более устойчивый в современных условиях тип политического режима – демократия.
Демократический режим характеризуется высокой степенью политической свободы человека, реальным существованием политических и правовых институтов, позволяющим ему оказывать влияние на государственное управление обществом.
Демократия в широком смысле – это форма организации, основанная на равноправном участии ее членов в управлении и принятии решений по большинству. В государственном управлении основной чертой демократии является юридическое признание и институционное выражение суверенитета, верховной власти народа.
В зависимости от того, как народ участвует в управлении, демократия может быть прямой (или плебисцитарной) и представительной.
Прямая демократия предполагает участие граждан на всех этапах процесса властвования – подготовка, принятие политических решений, контроль за их выполнением. Прямая демократия встречается главным образом на уровне местного самоуправления. В общегосударственных масштабах она применяется обычно в несколько ограниченной форме – только на этапе принятия политических решений, обычно путем участия в референдумах.
При всей кажущейся демократичности такой формы выражения верховенства власти народа, многие политики и политологи не считают ее высшим проявлением демократии. Дело тут в том, что при проведении референдумов их организаторы могут в довольно значительных масштабах манипулировать общественным мнением: искусственно усложненное формулирование вопросов, «обработка» общественного мнения через послушные средства массовой информации, махинации при подсчете голосов и др. Кроме того, вынесение на референдум сложных, многоаспектных решений (например, принятие конституции) вообще представляется абсурдным, ведь при этом довольно часто просто невозможно высказаться однозначно. Очевидно, именно по этим причинам в государствах развитой демократии к общенародным референдумам если и прибегают, то на них выносят узкие, очень конкретные вопросы.
Представительная демократия предполагает опосредованное участие граждан в принятии решений. В данном случае в управлении государством принимают участие не все граждане, а избранные ими представители.
Важной чертой демократического режима является выборность и периодическая сменяемость основных органов власти в государстве, избирательным правом (как активным, так и пассивным) обладают все граждане. Ограничения если и существуют, то весьма незначительные и регулируются законом.
Главное проявление демократий в политической жизни – это участие граждан в формировании органов власти. При этом им, как правило, предлагается несколько вариантов выбора, но люди ограничиваются поддержкой той политической силы, которая, по их мнению, наилучшим образом действует в их личных интересах, интересах общества, государства. Принятым считается то решение, за которое проголосовало большинство. Меньшинство обязано подчиниться этому решению, но поражение меньшинства не означает его политическую смерть. Перейдя в оппозицию, меньшинство при очередной смене власти может выдвинуть программу, отвечающую интересам общества, и прийти к власти. Поэтому узаконенное существование оппозиции, предоставление ей определенных политических прав является характерной чертой демократического режима.
Среди других черт демократического режима отметим такие, как высокий уровень гарантий гражданских прав и свобод, разделение властей, наличие независимых средств массовой информации. Органы публичной власти прибегают к силовым методам лишь в исключительных случаях, обусловленных законом.
Демократия как форма политического режима в течение всей истории человечества подвергалась критике. Еще Платон и Аристотель считали, что демократия, понимаемая ими как власть народа, власть большинства, ведет к охлократии, а поэтому неприемлема, ибо предполагает не только передачу большинству власти, но грозит также тем, что это большинство потребует перераспределения богатств. Нападки на демократию нередко сводятся к тому, что она представляется как институт, с помощью которого осуществляются интересы экономически господствующего класса. К тому же нередко демократия служит лишь респектабельным фасадом авторитарных, а то и тоталитарных режимов.
К сказанному следует добавить, что, по мнению западных политологов, демократия – это отнюдь не власть народа, не народ определяет суть осуществляемой политики. Демократия – это власть, считающаяся с волей народа, но эта воля сведена к голосованию, когда решается вопрос, какая часть представителей общества будет вершить власть. А отсюда делается и такой вывод: не столько важно, кто правит (именно в этом смысл демократии как народовластия), а как осуществляется политическая власть – легитимно, опираясь на конституцию и законы, или нет.
Но как бы там ни было, какие бы недостатки демократии ни усматривались, демократия сегодня считается лучшей политической формой общественного устройства. Исторический опыт показывает, что демократический режим является тенденцией мирового политического процесса. Однако он не может быть произвольно установлен путем провозглашения определенных политических доктрин или даже принятием соответствующих законов. Исследователи в области политики установили определенную, хотя и не абсолютную зависимость типа политического режима от уровня социально-экономического развития общества. Чем выше этот уровень, тем демократичнее режим, хотя имеются и многочисленные исключения из этой закономерности. Следовательно, считают политологи, переход к демократии возможен лишь при наличии ряда предпосылок, среди которых выделяют экономические, политические, социальные, духовные и внешнеполитические предпосылки (13).
Естественно, демократическим может считаться только тот режим, где реализована не одна какая-нибудь предпосылка или две, а весь их комплекс. Поэтому не каждая страна, провозгласившая себя демократической, даже конституировавшая демократические нормы, соответствует высоким стандартам демократии.
Завершая рассмотрение политических режимов, представляется целесообразным отдельно взглянуть на них через призму человеческого измерения, как это попытался сделать упоминавшийся уже К. Боконтаев. По его мнению, все формы политических режимов, обеспечивая политическую стабильность и позволяя достичь экономического роста, неодинаково обеспечивают защиту своих граждан. Тоталитаризм и авторитаризм, ставя перед обществом какие-либо цели, используют людей как инструмент и средство в достижении этих целей, не оставляя людям свободы для принятия или непринятия этих целей в качестве установок для разума и воли. Тогда как политическая демократия, ставя перед обществом какие-либо цели, дает людям свободу выбора в принятии или непринятии этих целей через свободу выбора лидеров на всех уровнях власти. Соответственно тоталитаризм и авторитаризм более ущемляют человеческую личность, чем демократия (14).
Из рассмотренных форм государства (форма государственного правления, форма государственного устройства и форма политического режима) политический режим является наиболее гибкой и в большей мере подверженной изменениям формой. В то же время политический режим является и наиболее активным по отношению к государству и к политической системе в целом.
Чтобы глубже понять динамику государственного строительства в современном Кыргызстане и сущность кыргызской государственности, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о типах государства. С помощью данного понятия характеризуют типичные черты, свойственные группе государств либо всем государствам на том или ином этапе исторического развития общества.
В мировой политической и юридической литературе используется множество различных типологий, построенных на принципе выделения идеальных типов государств. Среди них одной из первых была широко распространенная с древнейших времен концепция «правильных» и «неправильных» форм государства (Аристотель, Полибий), в которой критерием типологизации государств выступала их цель – служение общему благу или корыстным интересам власть имущих. В советской исторической, политической и юридической литературе, которая базировалась на марксистской доктрине, за основу классификации брались два критерия – характер экономического базиса (способ производства) и социальный субъект осуществления государственной власти. Такой подход, выделявший рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические, а также переходные государства, определение типа государства ставил в прямую зависимость от типа общества.
В последние годы широкое распространение получила типология, в основе которой лежит теория стадий экономического роста. Исходя из особенностей технологического базиса, эта типология различает: традиционалистские государства, функционирующие в условиях аграрного (доиндустриального) общества; государства, функционирующие в условиях индустриального общества; постиндустриальные государства. При характеристике последних иногда пользуются терминами «государство информационного общества», «государство общества потребления и услуг» В целом же, как справедливо отмечает В. М. Якушик, «может быть предложено практически неограниченное число типологий государства, учитывая, что для создания новой типологии достаточно выделения как минимум одной пары противоположных признаков государства, рассматриваемых в качестве главных, сущностных. Остальные же характеристики государства будут выступать как обусловливающие специфику его форм или иных разновидностей в рамках каждого из типов» (15).
Опираясь на глубокий анализ исторической, политической и юридической литературы, а также современной практики, В. М. Якушик считает возможным предложить классификацию типологий государств на основе следующих критериев:
1. Различия в общесистемных характеристиках государств (в т. ч. в их институционально-процессуальных характеристиках как особых систем, безотносительно к содержанию протекающих в них процессов).
2. Особенности природной и хозяйственной среды.
3. Характер социальной базы государства.
4. Специфика организации и функционирования власти.
5. Особенности важнейших общих идей или доктрин, лежащих в основе функционирования государства.
В предложенной типологии государств нас особенно интересует теория государства переходного типа и одной из его разновидностей – революционно-демократического государства.
В бывшем СССР теория революционно-демократического государства развивалась практически исключительно в связи с разработкой концепций перехода к социализму. Радикальные политические и социально-экономические изменения, происшедшие в бывших т. н. социалистических странах, способствовали более глубокому осознанию того факта, что требуется новый взгляд на революционно-демократическое государство.
Содержание понятия «революционно-демократическое государство» зависит от того, какой смысл вкладывается в термины «революционное» и «демократическое». Обобщая множество возможных значений этих терминов, В. М. Якушик выделяет три возможных значения определения революционно-демократического государства:
1. Это государство с временной авторитарной организацией власти, возникающее после упразднения ранее существовавшего механизма власти (в этом его революционность в формальном смысле), преследующее цель формирования внешних атрибутов демократической политической системы (в этом его демократичность также с точки зрения формальных институционально-процессуальных, а не сущностных критериев оценки).
2. Революционно-демократическим может быть признано государство, реализующее стратегию радикального изменения программы развития общества, т. е. революционное по сущности, но не обязательно по форме, и содействующее созданию внешних атрибутов демократической политической системы (демократическое в формальном смысле).
3. Революционно-демократическое государство – это государство, содействующее изменению типа общественного развили (революционное по своей сущности) и всесторонней демократизации и гуманизации общества, т. е. демократическое по своей сущности, но не обязательно имеющее в данный момент все атрибуты зрелой модели политической демократии.
Эта размышления, как нам представляется, имеют непосредственное и сугубо практическое значение для новых независимых стран, возникших на постсоветском пространстве. Эти страны – государства переходного типа. Судьба их дальнейшего развития к само существование зависит от того, какую общественно-экономическую модель они изберут. И теоретико-прикладные разработки политологов помогут избрать наиболее оптимальный путь.
Завершая рассмотрение вопроса о государстве, отметим, что традиционно, вплоть до XX в. роль государства, если исходить из современных стандартов, оставалась незначительной и сводилась преимущественно к двум функциям: фискальной и внешней (оборона либо агрессия). Перелом был ознаменован радом драматических событий. Первым из них была революция 1917 г. в России, которая привела к передаче государств полного контроля над экономической деятельностью. Вторым событием была депрессия 30-х годов, которая привела к такому истощению экономического потенциала в развитых странах, что они вынуждены были начать экспериментировать с разными моделями регулирования, стабилизации и стимулирования, где без сильного государства обойтись было невозможно. Третьим событием стад быстрый распад империй, некогда созданных европейскими государствами, начавшийся после II мировой войны. «Эти геополитические изменения, – отмечается в Отчете о мировом развитии, 1997, – а также требования социального страхования в странах с промышленно развитой экономикой, вылились в 50 лет политических дебатов, сосредоточенных вокруг вопроса о необходимости более активной социальной и экономической роли правительств» (16).
Между тем создание в развитых странах саморегулирующейся рыночной экономики, становление развитого общества, создание высокоэффективной системы местного самоуправления, высокий уровень социальной защищенности населения, снижение угрозы внешней агрессии и др. поставили под вопрос роль государства в современном мире. Однако более углубленный анализ современных реалий и проблем, стоящих перед обществом, показал, что роль государств не только не уменьшается, но в определенной мере возрастает. Как подчеркивается в Отчете о мировом развитии 1997, «исторический опыт свидетельствует о большом значении опоры на сильные стороны и рынка, и самого государства, и гражданского общества для повышения эффективности государства. Это подводит нас к двухступенчатой стратегии: приведение роли государства в соответствие с его потенциалом и последующее укрепление этого потенциала». В другом месте указанного Отчета отмечается: «В своей приверженности рынку и отрицании чрезмерной активности государства многие задавались вопросом, могут ли рынок и гражданское общество полностью вытеснить государство. Но полувековой опыт осмысления и переосмысления роли государства в экономическом и социальном развитии свидетельствует, что в этой области существует множество нюансов. Модель развития, при которой государство доминировало, провалилась, но то же самое произойдет и с развитием без участия государства. Развитие без эффективного государства невозможно» (17).
Как показывает анализ мирового опыта, без серьезного государственного вмешательства нельзя обойтись при преодолении изъянов рыночной экономики, при внедрении новых технологий, решении демографических, социальных и глобальных экономических проблем и др. Особенно велика роль государства в постсоциалистических странах. Кроме общих для всех государств функций, здесь необходимо решать задачи трансформации и всего общества, и его политической системы, и самого государства. Решить эти задачи способно только государство, ибо оно обладает властью и необходимыми ресурсами.
Примечания1. Рябов С.Г. Полiтологiчна теориiя держави // Полiтологiчнi чатання. – 1995. – № 3. – С. 159–161.
2. Теория права и государства / Под ред. Г. Н. Манова. – М., 1996. – С. 5.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. – Т. 21. – С. 169.
4. Теория права и государства… – С. 10.
5. Общая и прикладная политология / Под ред. В. И. Жукова, Б. Н. Краснова. – М., 1997. – С. 414, 417.
6. Там же. – С. 417.
7. Цит. по: Мельник В. А. Политология. – Минск, 1997. – C. 159–160.
8. Там же. – С. 160–161.
9. Боконтаев К. Посткоммунистические реформы: инстинкт, разум, воля. – Бишкек, 1997. – С. 31–32.
10. Макиавелли Н. Государь: Сочинения. – М.; Харьков, 1998. – C. 50.
11. Рябов С. Г. Указ, произв. – С. 185.
12. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М., 1995. – С. 188–189.
13. Государство, демократия, парламентаризм // Глотов С. А., Макренков Е. В. и др. – Краснодар, 1997. – С. 78; Пугачев В. П., Соловьев А. И., Указ. произв. – C. 240–245.
14. Боконтаев К. Указ. произв. – С. 35.
15. Якушик В. М. Современное государство переходного типа (теоретические и методологические аспекты): Дисс… д-ра полит. наук в форме научного доклада. – К., 1992. – С. 24.
16. Государство в меняющемся мире. Отчет о мировом развитии, 1997 // Всемирный банк. – М., 1997. – С. 24.
17. Там же. – С. 22, 30.
2. Исторические истоки кыргызской государственности
Кыргызм – один из древнейших народов Средней Азии. Уже более двух тысяч лет тому назад в письменных источниках начали встречаться этнонимы и топонимы, так или иначе сближаемые с территорией и этническими общностями, имеющими прямое либо косвенное отношение к далеким предкам современного кыргызского народа.
Вместе с тем проблема происхождения кыргызского народа и возникновения его государственности принадлежит к числу наиболее сложных и спорных аспектов этнической и политической истории Центральной Азии. Эта сложность усугубляется, тем, что даже в XVI–XVII вв. носители этнонима «кыргыз» жили одновременно в Южной Сибири, Восточном Туркестане, на Тянь-Шане, Памиро-Алае, в Средней Азии и казахских степях, в Приуралье, т. е. на весьма отдаленных друг от друга территориях (1). Что же касается истории кыргызской государственности, то вопрос усложняется тем обстоятельством, что первые государственные объединения кыргызов отмечены и в Притяншанье и на Енисее, в Минусинской котловине. Поэтому длительное время историки не могли сделать однозначный вывод, где же зарождалось и впервые возникло государство кыргызов. Современные исследования позволяют дать на этот вопрос однозначный аргументированный ответ.
Однако прежде чем приступить к рассмотрению истории возникновения кыргызской государственности, необходимо отметить ряд обстоятельств. Первое состоит в том, что кыргызская государственность, как отмечал Президент Кыргызской Республики А. Акаев, «неразрывно связана с историей общетюркской государственности, является ее составной частью, а кыргызский народ, наряду с тюркскими народами, – создателем и хранителем многих общетюркских государственных институтов, таких, как военно-административное деление, выборность монархов, организация знати «Эль», своеобразная налоговая система, всеобщее ополчение в случае военной опасности, и многих других. Древние кыргызы стояли у самых истоков общетюркской государственности. И не просто стояли, но и активно создавали ее» (2).
Второе обстоятельство состоит в том, что образование кыргызской государственности, отражая общемировые закономерности и сложные процессы внутри кыргызского общества, происходило в условиях общего для азиатских народностей кочевого типа скотоводческого хозяйства. Поэтому идентифицировать любое кыргызское объединение с определенными локальными территориями достаточно сложно. В этом контексте можно говорить не столько о территории как одном из признаков государства, сколько о территориях, по которым кочевали кыргызские племена. Естественно, внешние границы этих территорий были довольно размытыми.
Следующее обстоятельство состоит в том, что в условиях кочевой жизни крепкой и живучей была родовая и племенная общность, которая одна могла обеспечить кочевнику выживаемость. Поэтому азиатские кочевые народы не знали соседской (территориальной) общины, а идея единой государственности легко приносилась в жертву родо-племенной идее, тем более что попытки создания единого государства связывались с неизбежным усилением какого-то одного рода или племени. Созданию единой государственности кочевники предпочитали создание более гибкой структуры – союза племен, организуемого на паритетных началах и с внутренней автономией. Выборному и легко сменяемому руководству такого союза передавались лишь некоторые государственные функции – защита территории, вообще ведение войны и др. Управленческая, фискальная, судебная и другие функции осуществлялись племенными и родовыми руководителями независимо от центральной власти на основе общего для всех племен данного этноса обычного права. Ясно, отмечают авторы книги «У истоков кыргызской национальной государственности», что в этих условиях племенное сознание превалировало над общим этническим, но не исключало формирования единого этнического самосознания» (3).



