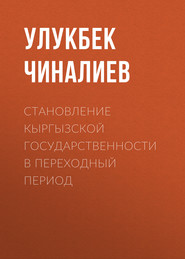 Полная версия
Полная версияСтановление кыргызской государственности в переходный период
В деятельности Правительства большое место занимали и занимают вопросы социальной защиты населения. Острота этой проблемы обусловлена значительным снижением уровня жизни населения, вызванным структурными изменениями в экономике, резким сокращением производства, ростом безработицы, инфляцией. В этих условиях Правительством принимались меры по реформированию системы социального обеспечения, адаптации ее к рыночной экономике, созданию нормативно-правовой базы по реформированию социального сектора. В частности, принят Закон «О государственном социальном страховании», началась реализация Указа Президента «О дополнительных мерах по обеспечению участия социально уязвимых слоев населения в приватизации стратегических предприятий республики», разработана и введена в действие новая методика определения степени нуждаемости для назначения государственных пособий, с целью усиления адресности и конкретизации льгот внедряется система «социальных паспортов». В 1998 г. началось восстановление сбережений граждан, разработана и реализуется Национальная программа «Рынок труда и занятость населения в Кыргызской Республике на 1998–2000 годы и на период до 2005 года». Поиск решения проблемы снижения жизненного уровня населения осуществляется также через Национальную программу устойчивого человеческого развития в Кыргызской Республике, Модель развития социальной сферы Кыргызстана в XXI веке, Национальную программу преодоления бедности и др.
Однако было бы ошибочным за определенным улучшением макроэкономических и социальных показателей не видеть огромнейшие трудности, особенно в социальной сфере. Реальные доходы населения хотя в течение 1995–1997 гг. и увеличились (на 4,6 %), но из-за имевшей место в 1991–1994 гг. гиперинфляции они намного ниже уровня 1990 г., ниже уровня бедности оказалось более 70 % населения. К тому же добавим, что на начало 1999 г. задолженность государства по социальным выплатам населению составила более 217 млн сомов (27).
Таким образом, несмотря на определенное продвижение Кыргызстана по пути рыночных преобразований, некоторое оживление в экономике, обольщаться достигнутыми результатами было бы преждевременным. Правительство, как явствует из его заявлений и практических шагов, полностью осознает это и, намереваясь сохранить на ближайшую перспективу основные принципы макроэкономической политики, предполагает усилить акценты на активизацию мероприятий по реформированию социальной сферы. Основными макроэкономическими целями Правительства, отмечается в Индикативном плане социально-экономического развития Кыргызской Республики на 1999–2001 гг., будут: дальнейшее снижение инфляции до уровня 5–6 процентов к 2001 г.; укрепление финансовой стабильности; достижение среднегодовых темпов роста ВВП не ниже 3–4 процентов. Главными задачами, которые Правительство предполагает решить в 1999–2001 гг., будут: обеспечение устойчивого роста производства в основных отраслях экономики; снижение безработицы; повышение уровня жизни населения (28).
За годы независимости в Кыргызстане осуществлено множество разнообразных преобразований и реорганизаций, в том числе и в сфере государственной власти и управления. Но, во-первых, все эти преобразования и реорганизации носили подчас разобщенный, а не системный характер. И, во-вторых, в ходе их реализации модель государственного управления по сравнению с советской системой, полученной Кыргызстаном в наследие, изменилась мало.
Вообще отметим, что в политологии и в политической практике не сложилось единое мнение относительно преимуществ той или иной модели государственной власти. Наиболее распространенными являются два подхода к пониманию сущности, характера исполнительной власти. Один из них исходит из принципа максимальной демократизации власти, ее открытости и прозрачности, максимального укрепления связи с обществом, ограничения вмешательства власти в экономику и в частную жизнь граждан. Второй, исходя из особенностей переходного периода в постсоветских государствах, исповедует принцип авторитаризма, поскольку, по мнению сторонников этого подхода, авторитаризм, определенная властная жесткость позволяет более или менее быстро осуществить необходимые преобразования.
В Кыргызстане вопрос о модели исполнительной власти в республике на государственном уровне не ставится и не рассматривается. По нашему мнению, при его решении, исходя из своеобразия переходного периода, целесообразно использовать как демократический, так и авторитарный подходы к пониманию и трансформированию сущности исполнительной власти. Необходимость учета обоих подходов обуславливается тем, что государство и общество в Кыргызской Республике не готовы к полному переходу к демократическим принципам государственного управления, а авторитаризм приводит к тому, что государство главенствует над обществом, подминает его под себя, что усиливает опасность обескровливания нашей молодой, слабой демократии, ослабляет возможности демократического контроля над властью, создает искусственные преграды между государством и обществом. Поэтому использование авторитаризма должно сопровождаться определенными оговорками.
Важным звеном совершенствования исполнительной власти должно быть осуществление разумной децентрализации власти.
В наследие от советской власти Кыргызстан получил жестко централизованную систему управления, все важные и не очень важные вопросы экономики, финансов, науки, образования, культуры, социальной сферы решались в Центре (союзном или республиканском), роль местных органов сводилась к безоговорочному выполнению директив Центра.
Одним из принципов демократизации государственной жизни является передача ряда функций центральных органов исполнительной власти органам местного самоуправления и местным государственным администрациям, что привело бы не только к расширению прав и полномочий последних, но и содействовало бы повышению их ответственности. Такое перераспределение функций, полномочий и ответственности не только освободило бы центральные органы от решения многих частных вопросов, что позволило бы сократить их количество и численность их работников, но и содействовало бы более полному учету местных особенностей, интересов и потребностей населения.
При решении вопросов децентрализации власти можно было бы в определенной мере использовать опыт Российской Федерации, где пошли по пути подписания соответствующих договоров между центральной исполнительной властью и субъектами федерации. Интересные наработки в области региональной политики, базирующейся на принципах партнерства и сотрудничества, имеются в Украине. В частности, здесь предполагается законодательно разграничить полномочия центральных и местных органов власти, создать финансовые и организационно-правовые условия для реализации конституционных полномочий органов местного самоуправления, обеспечить участие местных органов в принятии решений на государственном уровне и др.
Совершенствование системы органов государственной власти невозможно без наличия новых кадров.
Сейчас ситуация в Кыргызстане складывается таким образом, что в управленческих структурах используются либо старые кадры, сформировавшиеся в условиях советской тоталитарной системы управления, зачастую обремененные отжившими стереотипами, либо новые выдвиженцы из числа практических работников, сформировавшиеся преимущественно также в условиях старых управленческих отношений. В Кыргызстане много говорится о новой кадровой политике, но все эти разговоры и принимаемые решения сводятся главным образом к аттестации кадров и приему на работу на контрактной основе. Все это, конечно, важно, но проблему не решает. Нам представляется, что надо вести речь о воспитании и подготовке новых кадров, не обремененных старыми стереотипами, в совершенстве владеющих основами менеджмента, мыслящих по-современному, способных видеть перспективу, проявлять инициативу, брать на себя ответственность за принимаемые решения.
Все эти и другие вопросы совершенствования государственной власти можно было бы в значительной степени решить в рамках административной реформы.
Идея административной реформы приобрела в Кыргызстане реальные очертания к концу 1996 г. и нашла свое отражение в Указе Президента от 2 декабря 1996 г. В общем плане задача административной реформы сводилась к совершенствованию системы государственной власти и управления и предполагала уточнить задачи, функции, полномочия министерств и других административных органов, их структуру; определить штатную численность центральных органов исполнительной власти; усовершенствовать административно-территориальное деление республики; провести аттестацию работников министерств и ведомств и др.
В соответствии с намеченными задачами ряд мероприятий осуществлен: сокращено количество министерств и административных ведомств, уточнены их функции и полномочия, проведены некоторые другие мероприятия. В контексте анализа хода административной реформы нам представляется концептуально знаменательным принятие Правительством 10 января 2000 г. Постановления «О совершенствовании структуры местных органов государственного управления». Этим Постановлением упразднены областные органы управления ряда министерств и административных ведомств (управления сельского хозяйства, по туризму, профтехобразования, здравоохранения, управления по регистрации прав на недвижимое имущество в Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской и Таласской областях), их функции переданы областным и районным органам управления, в системе здравоохранения – областным больницам, в сфере управления государственным имуществом созданы три (вместо семи) межобластных управления Фонда государственного имущества. Земли Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий передаются соответствующим аильным и поселковым кенешам. Значительно сокращена (от 20 до 50 %) численность работников аппарата по областным органам управления ряда министерств и административных ведомств. Конечно, содержательная сущность этих нововведений не столько в реорганизации некоторых органов управления и даже не в сокращении численности работников аппарата управления. Сущность этих реорганизаций – в перераспределении управленческих полномочий, в их передаче от республиканских местным органам управления, в определенной децентрализации власти, в приближении власти к народу.
Оценивая в целом положительно мероприятия по проведению административной реформы, не можем не отметить, что, по нашему мнению, реформа чрезмерно затягивается. На это не раз обращал внимание Президент А. Акаев. Об этом он достаточно четко высказался и в Послании Жогорку Кенешу и народу Кыргызстана 2000 г. По его мнению, главная задача административной реформы – сконцентрировать внимание государства на эффективной деятельности по обслуживанию интересов и удовлетворению потребностей наших граждан. Необходимо создать механизмы, через которые граждане получат возможность влиять на решения органов власти. Необходимо обеспечить прозрачность деятельности государственной власти, открытость информации и таким образом восстановить доверие общества к государству. Необходимо разработать оптимальную структуру государственного аппарата, ликвидировать существующие сегодня параллелизм и дублирование работы, многочисленность штата и не свойственные ему функции. Необходимо разработать систему оценки персонала и регулярной аттестации служащих, проведение открытых конкурсов на государственные должности и др. «Наша задача – создать небольшой, но эффективный государственный аппарат» (29). В целях дальнейшего проведения и углубления административной реформы Указом Президента создан Национальный совет по реформе государственного управления и государственной службы.
Исполнительная власть в целом смогла преодолеть трудности преобразований. Она обеспечила (хотя и не до конца) структурную перестройку народного хозяйства, переход к рыночным отношениям, добилась стабилизации и некоторого подъема экономики. В результате созданы экономические предпосылки кыргызской национальной государственности. Все это позволило Президенту А. Акаеву, подводя в 2000 г. итоги пройденного пути и результаты реформ, заявить: «Социально-экономические реформы в нашей республике хотя и не сделали нас преуспевающими, но бесспорно заложили основы для того, чтобы стать таковыми. Они пробудили экономическое и политическое самосознание наших граждан, обеспечили их свободой выбора, да и ясное понимание примата труда в новом обществе. Все это выражается в появлении широкого слоя свободных крестьян и фермеров, сильных предпринимателей, честолюбивых политиков, независимых журналистов и, самое главное, граждан, небезразличных к своей судьбе и судьбе Кыргызстана» (30).
В то же время экономический кризис, охвативший осенью 1998 г. Россию и ряд других стран и больно ударивший по экономике Кыргызстана, показал, что кыргызская экономика не обладает достаточным уровнем устойчивости, подвержена внешним воздействиям, ее реальный сектор весьма слаб и недостаточно конкурентоспособен в условиях открытой рыночной экономики. А реформирование отношений в реальном секторе экономики – промышленности, транспорте, строительстве и других отраслях – все еще не стало определяющим стимулом для роста производства. Разгосударствление и приватизация в производственном секторе экономики не привели к созданию реального собственника, заинтересованного в эффективной работе предприятий, в выпуске конкурентоспособной продукции. Весьма напряженным остается положение в социальной сфере. На ближайшую перспективу прирост реальных доходов населения планируется примерно на уровне 3 % в год (31). Таким образом, чтобы обеспечить прирост реальных доходов населения до уровня хотя бы 1990 г., потребуется 10–15 лет. Естественно, такая ситуация не может удовлетворить потребности большинства населения.
Решение названных задач в первую очередь определяется структурой государственной власти, повышением организаторской роли, пересмотром содержания, форм и методов ее деятельности. Лишь при этих условиях можно обеспечить кардинальное улучшение положения во всех отраслях экономики, в социальной сфере, добиться укрепления независимости кыргызского государства, обеспечить его процветание.
Примечания1. Данилов А. Организация государственного управления в переходном обществе // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – № 4. – С. 63.
2. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. – М., 1997. – С. 267.
3. Конституция Кыргызской Республики. – Ст. 70.
4. Конституция Киргизской ССР. – Ст. 115, 118.
5. Там же. – Ст. 117.
6. Там же. – С. 118.
7. Чотонов У. Суверенный Кыргызстан: выбор исторического пути. – Бишкек, 1995. – С. 93.
8. Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Киргизской ССР. 23 сентября 1989 г. // Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР. – 1989. – № 17.
9. О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР. Закон Киргизской ССР. 12 апреля 1990 г. // Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР. – 1990. – № 8.
10. О реорганизации системы органов государственной власти и управления в Киргизской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Киргизской ССР. Закон Киргизской ССР. 14 декабря 1990 г. // Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР. – 1990. – № 21.
11. О Правительстве Республики Кыргызстан. Закон Республики Кыргызстан. 18 декабря 1990 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан. – 1990. – № 22.
12. О Правительстве Кыргызской Республики. Закон Кыргызской Республики. 27 мая 1994 г. // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. – 1994. – № 7.
13. О Правительстве Кыргызской Республики. Закон Кыргызской Республики. 19 марта 1997 г. // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. – 1997. – № 4.
14. Конституция Кыргызской Республики. – Ст. 46.
15. Слово Кыргызстана. – 1999. – 12 февраля.
16. Конституция Кыргызской Республики. – Ст. 77.
17. О местном самоуправлении и местной государственной администрации в Республике Кыргызстан. Закон Республики Кыргызстан, 19 декабря 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан. – 1991. – № 8.
18. Материалы XIX съезда Компартии Киргизии // Коммунист Кыргызстана. – 1990. – № 7. – С. 18.
19. Там же. – С. 16.
20. Чотонов У. Указ. произв. – С. 102.
21. Кыргызстан в цифрах. 1991. – C. 22–23.
22. Койчуев Т. Уже история и сегодня // Реформа. – 1999. – № 1.– С. 13–14.
23. Социально-экономическое развитие Кыргызской Республики. 1993–1997 // Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 1998. – С. 9–11.
24. Слово Кыргызстана. – 1998. – 2 февраля.
25. Индикативный план социально-экономического развития Кыргызской Республики на 1999–2001 годы. – Бишкек, 1998. – С 4–5.
26. Конституция Кыргызской Республики. 1996. – Ст. 4.
27. Слово Кыргызстана. – 1998. – 2 февраля.
28. Индикативный план… – С. 26–27.
29. Акаев А. Послание Президента Кыргызской Республики Жогорку Кенешу и народу Кыргызстана // Слово Кыргызстана. – 2000. – 27 апреля.
30. Акаев А. Послание Президента… 2000 // Слово Кыргызстана. – 2000. – 27 апреля.
31. Индикативный план… – С. 59.
9. Судебно-правовая реформа в Кыргызской Республике
В демократическом, правовом государстве государственная власть разделена на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Разделение властей объективно проистекает из невозможности осуществления власти из единого центра, одним властвующим субъектом. Осуществление этого принципа ставит заслон злоупотреблениям властью, предохраняет общество от деспотизма, защищает гражданина от произвола должностных лиц, через разделение труда и компетенций создает предпосылки для эффективной деятельности государственных структур. При этом каждая из властей в пределах своей компетенции самостоятельна, равна другим и независима от них, подчиняется только закону. А избежать противоречий и противостояния между ними помогает система сдержек и противовесов. Вместе с тем каждая из ветвей власти не в состоянии действовать обособленно, власти должны взаимно дополнять друг друга, сохранять необходимую связь и согласованность, образуя единый политический организм, функционирующий для блага народа.
Один из основоположников теории разделения властей французский просветитель Ш. Монтескье в книге «О духе законов» утверждал: «Если власть законодательная и исполнительная будет соединена в одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы также тиранически их применять. Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении… были соединены эти три власти» (1). Несмотря на имевшие место теоретические разногласия и критику (Ж.-Ж. Руссо, Л. Дюги, М. Вебер. А. Эсмен и др.), принцип разделения властей утвердился в политологии, он закреплен в демократических конституциях и реализуется на практике. Вследствие этого судебная власть рассматривается ныне как самостоятельная, независимая ветвь государственной власти.
В триаде властей каждая ее ветвь – законодательная, исполнительная и судебная – занимает особое место, отличающее ее от других властей. Свои особенности имеет и судебная власть.
Если законодательная и исполнительная власти осуществляются отдельными государственными органами – главой государства, парламентом, правительством, то судебная власть возлагается на всю совокупность судебных органов – от самых низовых до верховных, причем здесь отсутствует иерархическая зависимость, каждый из судебных органов, независимо от своего места в системе, разрешает конкретные дела самостоятельно, руководствуясь исключительно законом и правосознанием судей. Каждый судебный орган является носителем судебной власти. Вышестоящие судебные инстанции могут «вмешиваться» в деятельность нижестоящих только в порядке судебного надзора и при рассмотрении дел в апелляционном или кассационном порядке, и то такое «вмешательство» обуславливается соответствующими процессуальными нормами. Важным является и то обстоятельство, что судебная власть осуществляется не судебным учреждением, какого бы высокого ранга ни было, а судебной коллегией.
Следующее отличие между разными ветвями власти состоит в том, что законодательная и исполнительная власти могут действовать и зачастую действуют по собственной инициативе, исходя из тех или иных объективных обстоятельств или своих предпочтений, они определяют подлежащие разрешению вопросы и принимают соответствующие решения. Судебная власть собственной инициативы не проявляет, а принимает дела к рассмотрению только по обращению сторон.
Судебная власть отличается от других ветвей власти и тем, что суд не создает общих правил поведения (это прерогатива законодательной власти) и не занимается исполнительно-распорядительной деятельностью (это прерогатива исполнительной власти). Государственная власть суда имеет конкретный характер. Суд рассматривает и решает конкретные дела и споры, возникающие вследствие различных конфликтов – уголовные дела, имущественные притязания, трудовые споры, споры политического характера, жалобы граждан на действия должностных лиц и др.
Деятельность суда призвана обеспечить господство права, в том числе и по отношению к государству. Вследствие этого суд обладает такими полномочиями, которых не имеет ни законодательная, ни исполнительная власть. Принимая решение, суд может на основании закона лишить человека свободы и даже жизни за совершение преступления, наложить штраф, отобрать у физических или юридических лиц собственность или наложить на нее арест, распустить политическую партию или другую общественную организацию, заставить государственный орган отменить свое решение и возместить ущерб, причиненный незаконными действиями должностных лиц, лишить родительских прав нерадивых родителей и др. Реализация судебной власти представляет собой акт государственного принуждения, насилия, совершаемый в особых формах – приговор по уголовному делу, решение то гражданскому иску, частное определение.
В отличие от законодательной власти, которая теснейшим образом связана с политикой, и в отличие от исполнительной власти, которая также участвует в политике и поддается политическому давлению со стороны политических партий или других организаций, групп, судебная власть должна быть ограждена от любого политического давления, равно как и от другого давления, способного повлиять на решение суда.
Положение судебной власти противоречиво. С одной стороны, это самостоятельная, независимая и очень сильная власть, она может осуществлять меры, которые не вправе принимать ни законодательная, ни исполнительная власть. А с другой – это сравнительно слабая власть, потому что она (за редким исключением) не опирается непосредственно на поддержку граждан (как законодательная власть) и не имеет силовых механизмов и ресурсов (как исполнительная власть). Сила судебной власти коренится в неуклонном исполнении законов. В этом и источник ее независимости.
Суд играет огромную роль в жизни государства, общества, отдельных граждан. Социальная роль судебной власти в демократическом обществе заключается в том, чтобы обеспечить господство права в разного рода юридических конфликтах.
Общественная жизнь разнообразна и многогранна, в ней участвуют многочисленные субъекты, как физические, так и юридические, интересы которых не всегда совпадают, а довольно часто и противоречат друг другу. На этой почве возникают конфликты – между отдельными индивидами, между индивидами и социальными группами, организациями, предприятиями, между гражданами и государством, между хозяйствующими субъектами и т. д. Конфликты охватывают все отношения человека с объективной действительностью. Конфликт как социальное явление, по мнению политологов, вечен, потому что невозможно создать такую общественную систему, при которой потребности всех желающих были бы полностью удовлетворены (2). Больше того, общество сохраняется как целое благодаря присущим ему внутренним конфликтам. Однако суд имеет дело не со всеми конфликтами, а лишь с теми, которые носят юридический характер, попадают под действие законов и регулируются этими законами.
В ряду юридических конфликтов одно из ведущих мест занимают конфликты между государством и индивидом. Разрешая их, судебная власть преследует, наказывает закононепослушных граждан и гарантирует законопослушным гражданам защиту от опасности всевозможных нарушений их прав и свобод. Это весьма важная цель правосудия, однако она не является единственной, если ограничиться ею, то судебная власть будет выступать лишь как карающий меч. Она это делает, но лишь к этому не может сводиться ее социальная роль. В обществе возникает множество юридических конфликтов, одно из ведущих мест среди них действительно занимает конфликт между закононепослушными гражданами и государством. Но как утверждают специалисты в области конституционного права, постепенно конфликт между закононепослушным индивидом и государством становится далеко не главным. Не менее важен конфликт между законопослушным гражданином и государством, возникающий в случае ошибок, а то и произвола государства. В данной ситуации суд должен защищать человека от государства, когда право, признанное государством, на стороне человека (3).



