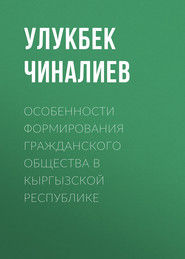 Полная версия
Полная версияОсобенности формирования гражданского общества в Кыргызской республике
Отдельного рассмотрения требует проблема личности как основы гражданского общества. В советском социуме сложился довольно своеобразный тип личности. По инициативе И. Сталина она была провозглашена «винтиком», который целиком идентифицировал себя с массой, хотя между нормативными «винтиками» периода «оттепели», а тем более перестройки имелись существенные отличия. Личная невыраженность индивида-винтика означала, что он способен на восприятие любой ценностной ориентации, обеспечивающей ему определенный статус в социальной массе. Если добавить к этому низкий уровень политического сознания и политической культуры (при всеобщей грамотности и сравнительно высоком уровне образования), отсутствие надлежащей, объективной информации, идеологическую заангажированность средств массовой информации, то понятно, что такой индивид не мог составить основу гражданского общества. Поэтому вряд ли можно согласиться с утверждением авторов коллективной монографии «Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России» [3] о том, что на уровне такой единицы советского массовидного образования, как индивид, в советском обществе был сделан наиболее заметный сдвиг в направлении к гражданскому обществу.
Все сказанное выше о советском социуме относительно отсутствия в нем необходимых условий для формирования гражданского общества, естественно, относится и к Кыргызстану как составной части бывшего СССР. Однако это утверждение следует сопроводить двумя замечаниями. Первое состоит в том, что, как уже отмечалось, за годы советской власти в Кыргызстане было сделано довольно много для развития экономики, науки, образования, культуры, здравоохранения, что не могло не сказаться на количественном росте рабочего класса, формировании национальной интеллигенции, на материальном и моральном состоянии граждан, формировании определенного типа общественного сознания. Кыргызское общество свое будущее видело в рамках той политической системы, которая утверждалась в СССР.
Второе замечание касается определенной удаленности республики от политического центра. Речь, естественно, идет не о географической, а о политической удаленности. В СССР сложилось так, что все важнейшие политические и общественные процессы и движения возникали в центре (Москва, в определенной мере Ленинград), а зачастую и ограничивались центром. К окраинным республикам, к которым относился и Кыргызстан, доходили лишь отголоски правозащитных, диссидентских и других движений. Здесь даже в годы перестройки позиции правящей партийно-государственной номенклатуры оставались весьма сильными, местная элита твердо придерживалась ортодоксальных партийных установок, что создавало дополнительные трудности для подъема общественного сознания и развития общественной самодеятельности. Определенные подвижки наметились лишь в конце 80-х гг., а в полной мере обозначились после обретения Кыргызстаном независимости.
В постсоветский период в Российской Федерации и некоторых других бывших советских республиках некоторые авторы из числа ностальгирующих по советским временам пытаются доказать, что в рамках советской общественно-политической системы, в частности, в периоды «оттепели» и перестройки, уже были заметны ростки гражданского общества, и если бы, по их мнению, развитие советского социума продолжалось линейно, без катаклизмов демократических преобразований, в конечном итоге гражданское общество сформировалось бы, хотя оно имело бы «социалистические» особенности.
Мы не разделяем такую точку зрения, хотя теоретически допускаем, что советский социум в процессе своего развития мог бы породить альтернативные ему силы и тем самым проявить способность к самопреобразованию. Но эту возможность надо считать маловероятной или вообще исключенной, о чем свидетельствуют три неудачные попытки самопреобразования (нэп, «оттепель», перестройка) и полная неспособность КПСС – ведущей и руководящей силы советского общества – к самореформированию в ходе перестройки. Исходя из этого, мы должны согласиться с М. Чешковым [4], который полагает, что зарождавшиеся в недрах советского социума агенты гражданского общества не способны были стать альтернативой советскому типу социальной организации. Это означает также, что зарождение гражданского общества не может происходить на базе советской организации, зарождение гражданского общества может быть лишь продуктом распада советского социума или, вернее, его саморазложения. Однако, добавляет М. Чешков, из этого вовсе не следует, что самораспад советского общества сам по себе генерирует рождение гражданского общества. Распад советского общества свидетельствует лишь об исторической исчерпанности этого типа социальной организации, о (по Н. Бердяеву) конечности и запредельности российского коммунизма. Поэтому на постсоветском пространстве речь может идти не о возрождении или восстановлении гражданского общества, а о становлении этого типа социальной организации.
В постсоветских государствах гражданское общество стало формироваться лишь в результате начала радикальных форм в экономической и политической сферах после обретения ими независимости. Здесь, по мнению политологов, формируется переходный тип гражданского общества, имеющего определенные особенности [5]. В обобщенном виде эти особенности можно свести к следующему.
Первое. Зарождение элементов, компонентов и оснований гражданского общества во всех постсоветских государствах происходит более или менее синхронно, что объясняется как единством советского наследия, так и общностью задач, которые ставит и решает каждый социум.
Второе. Новая социальная организация на постсоветских пространствах зарождается не в порядке естественно-исторического развития (как это имело место на Западе), а привносится извне и накладывается на традиционные (советские и досоветские) формы организации социумов.
Третье. Становление субъектов, институтов, отношений нового типа социальной организации идет крайне неравномерно. Становление его оснований (рынок) и условий (система представительной демократии) не коррелируется жестко с процессом образования социальных субъектов и их организаций.
Четвертое. Для постсоветских социумов характерна асимметрия во взаимосвязи «государство – гражданское общество»: становление первого обгоняет становление второго и фактически обуславливает его рождение. В этих социумах нет того параллелизма в становлении обеих частей этой связки, который был характерен для Европы XVI–XIX вв. [6].
Таким образом, становление гражданского общества в постсоветских странах идет сложно и противоречиво, о чем свидетельствует и опыт Кыргызской Республики.
Встав на путь строительства собственной государственности и создания новой социальной организации общества, Кыргызстан встретился с большими трудностями. В наследие от предыдущего строя новое государство получило разорванную плановую экономику, находившуюся в глубоком кризисе. Население республики было отчуждено и от собственности, и от власти. Общественная самодеятельность и самоорганизация не были развиты. Общественное и политическое сознание находилось на чрезвычайно низком уровне. Граждане не ощущали себя субъектами общественной жизни.
Естественно, при формировании нового типа социальной организации не могло быть и речи об использовании советского опыта, ведь он, как сказано выше, напрочь отрицал возможность и даже необходимость формирования гражданского общества. Не могло быть и речи о возврате к кыргызской традиционности, отягощенной родоплеменными пережитками и традициями. Речь шла о формировании принципиально новой для Кыргызстана организации социума, базирующейся на принципиально новой основе. Но эту основу, обеспечивающую формирование гражданского общества, предстояло еще создать.
Прежде всего нужна была структурная перестройка всего народного хозяйства на началах рыночных отношений, разгосударствления и приватизации государственной собственности, что ограничивало бы вмешательство государства в экономическую жизнь, способствовало повышению эффективности производства и формированию нового слоя собственников, экономически свободных и независимых от государства.
Молодое кыргызское государство энергично приступило к реализации этих задач. Еще до обретения независимости и в первые годы после 31 августа 1991 г. кыргызский парламент принял ряд актов, направленных на перестройку экономических отношений. К ним, в частности, относятся Программа стабилизации народного хозяйства республики и перехода к рыночной экономике, законы «Об общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства», «О предпринимательской деятельности», «О крестьянском хозяйстве», «О земельной реформе», «О сельскохозяйственной кооперации», «О банках и банковской деятельности», «Об общих началах внешнеэкономической деятельности» и др. Ряд указов по регулированию экономических отношений был издан президентом.
Однако благие пожелания реформаторов не привели к быстрым результатам. Принимаемые законы и другие акты в большой мере носили отпечаток советской традиционности, были половинчатыми, а их реализация сопровождалась многими ошибками, когда, например, поспешно приватизировались и дробились высокорентабельные предприятия. Несмотря на существенную финансовую помощь от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной ассоциации развития и других международных организаций, политика разгосударствления и приватизации не привела к ожидаемому быстрому оживлению в экономике. Более того, к 1995 г. объем ВВП сократился вдвое по сравнению с 1990 г. [7] И хотя в последующие годы тенденцию падения ВВП удалось остановить и даже обеспечить некоторый его рост, к уровню 1990 г. экономика еще далеко не приблизилась.
Драматическая ситуация складывалась в аграрном секторе экономики. Уже в 1991 г. после соответствующего указа президента началось форсированное разрушение колхозов и совхозов, земля дробилась небольшими участками от 0,5 до 5 га, общественный скот и сельскохозяйственная техника были розданы крестьянам, что привело к резкому сокращению валовой продукции. В апреле 1992 г. президент издал новый указ, предписывавший вновь объединить крестьянские хозяйства в колхозы. Выполнить это решение не удалось, в экономике стали преобладать мелкие фермерские хозяйства, продемонстрировавшие в первые годы чрезвычайно низкую эффективность. В результате всех этих процессов только с 1993 по 1995 г. производство зерна сократилось на 38,6 %, резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, количество птицы [8]. Лишь с 1996 г. положение в сельском хозяйстве начало улучшаться, однако последствия допущенных ошибок и просчетов сказываются до сих пор.
Все же политика реформ в экономике привела к заметным изменениям. В результате разгосударствления и приватизации в республике на 1 апреля 2000 г. из 17 730 хозяйствующих субъектов оставалось 2491 государственное, 1741 с коммунальной формой собственности и 13 498 частных, т. е. 76 % [9]. Существенные изменения произошли в структуре занятости населения. За период с 1992 по 1997 г. численность населения, занятого на государственных предприятиях, сократилась в 2,5 раза, а в акционерных обществах возросла в 3,3 раза. За тот же период численность колхозников сократилась с 173,2 тыс. до 42,7 тыс. человек, а численность занятых в фермерских (крестьянских) и личных хозяйствах возросла с 304,2 тыс. до 687,4 тыс. человек. Численность занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью возросла с 10,5 тыс. до 215,3 тыс. человек. В 1999 г. доля частного сектора в производстве ВВП оценивалась в 85 % против 33,5 % в 1991 г. [10] Все это привело к уменьшению зависимости населения от государства и определенному преодолению патерналистских настроений, способствовало формированию слоя экономически независимых граждан.
Вместе с тем было бы неоправданным чрезмерно обольщаться достигнутыми результатами. Доля государственной собственности, используемой для производства товаров и услуг, остается еще весьма значительной, далек от завершения процесс разгосударствления и приватизации предприятий базовых отраслей промышленности. Медленно решаются такие вопросы, как формирование рыночных отношений собственности в крупной промышленности, создание условий для свободного перераспределения собственности, защита прав собственников, развитие и свободное функционирование рынка ценных бумаг и т. д. Пока еще мало оправдываются надежды на то, что новые собственники смогут хозяйствовать более эффективно. Поэтому результаты реформирования экономики оцениваются в Кыргызстане неоднозначно. Например, академик Т. Койчуев в одной из своих публикаций отмечает: «1991–1998 годы были годами постсоветского слома институциональной экономической системы социализма и заодно, к великому сожалению, разрушения созданного производственного потенциала» [11].
Все же не будем закрывать глаза на тот факт, что начиная с 1996 г. в Кыргызстане отмечается рост ВВП, даже в 1998 г., в условиях международного и регионального финансовых кризисов, имелся хотя и небольшой, но рост ВВП, он составил 2,1 % по отношению к уровню 1997 г. [12] Эти факты вселяют определенный оптимизм при оценке перспектив развития кыргызской экономики, создания благоприятных условий для формирования экономических основ гражданского общества.
Кардинальные перемены произошли в политической жизни Кыргызстана.
Конституция независимого государства установила, что Кыргызская Республика – это суверенная демократическая республика, построенная на началах правового, светского государства. Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти Конституция провозгласила народ [13]. Власть в Кыргызстане разделена между законодательной, исполнительной и судебной ветвями.
Все органы государственной власти и местное самоуправление в Кыргызстане формируются в соответствии с демократическими процедурами, установленными Конституцией и законодательством. Президент, депутаты парламента и местных кенешей избираются и периодически, в установленные Конституцией сроки, переизбираются на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Гражданин Кыргызской Республики может избирать, быть избранным независимо от происхождения, пола, расы, национальности, должностного и имущественного положения, вероисповедания, политических и религиозных убеждений, а также других обстоятельств [14]. Правом выдвижения кандидатов наделен широкий круг субъектов, в том числе граждане путем самовыдвижения. Количество кандидатов не ограничивается, что создает условия для проведения выборов на альтернативной основе. Все кандидаты наделяются равными правами. За ходом выборов могут наблюдать представители средств массовой информации, наблюдатели, в том числе международные.
В Кыргызской Республике на конституционном уровне в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права решен вопрос о правах и свободах. Права и свободы человека и права и свободы гражданина разделены. Конституция установила, что «Основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого бы то ни было» [15]. Гражданам Кыргызской Республики, их объединениям дозволено любое действие и деятельность, кроме запрещенной и ограниченной Конституцией и законами. Государство взяло на себя полную, безусловную и незамедлительную защиту прав и свобод граждан и гарантирует судебную защиту всех прав и свобод, закрепленных Конституцией и законами [16].
Конституция Кыргызской Республики содержит общепринятый набор прав и свобод человека и гражданина. Особо, в контексте рассматриваемой проблемы, выделим право собственности – «Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своей собственности, и ее изъятие помимо воли собственника допускается по решению суда» [17], право участия граждан в управлении государством непосредственно и через своих представителей [18], а также такие права, как право на свободное выражение и распространение мыслей, идей и мнений, свободу печати, передачи и распространения информации, на объединения, на собрания, митинги и демонстрации, на свободу частной жизни, личную и семейную тайну, экономическую свободу, свободное использование способностей и имущества для любой экономической деятельности и др. [19]. Гарантом прав и свобод человека и гражданина является президент.
В дополнение и развитие конституционных норм о правах и свободах в Кыргызстане проделана значительная законотворческая работа, призванная законодательно регулировать общественные отношения, разрешать возникающие конфликты. Речь идет прежде всего о принятии соответствующих кодексов, среди которых особо выделим Гражданский кодекс, призванный регулировать отношения в сфере собственности. Его функциональные принципы базируются на нормах международного права [20].
Вместе с тем анализ установленных Конституцией прав и свобод побуждает нас обратить внимание на некоторую их неполноту и определенную недосказанность. Так, по нашему мнению, следует отметить несколько ограниченное толкование понятия «труд». В Конституции речь о труде идет в трех статьях: в ст. 16 говорится о свободе труда, свободном выборе рода деятельности и профессии; в ст. 28 – о праве на охрану труда и в ст. 29 – о праве граждан на вознаграждение за труд не ниже установленного государством прожиточного минимума. Думается, что эти важные сами по себе нормы следовало бы предварить нормой о праве на труд, как это сделано, например, в Конституциях Болгарии, Молдовы, Польши, Узбекистана, Украины и других государств, где право на труд представлено как право на получение труда. Норму о свободе вероисповедания, духовной и культовой свободы дополнить нормой о свободе мировоззрения, норму о браке и семье дополнить нормой о равноправии супругов и др.
Вызывает недоумение смешение в Конституции прав и свобод человека и гражданина. Вообще, строго говоря, между этими понятиями четкой разграничительной черты нет, даже больше того, в конституционном праве нередко понятия «человек» и «гражданин» подменяются одним понятием – «личность». Но коль скоро в данном случае законодатель встал на путь разграничения прав и свобод человека и гражданина, то надо было бы этого принципа последовательно придерживаться. А раз так, то такие, например, права, как право на свободу вероисповедания, свободное выражение мыслей, идей и мнений, свобода печати, право на объединения и др., скорее отражают социальную сущность индивида, т. е. относятся к категории прав и свобод гражданина. В Конституции же они представлены как права и свободы человека.
Однако отметим, что названные упущения и недоработки не являются, по нашему мнению, принципиальными. Принципиальным является то, что в Кыргызской Республике в достаточно полном объеме, на конституционном уровне определены права и свободы человека и гражданина, установлены их гарантии, что создает необходимые предпосылки для повышения общественной активности граждан, вовлечения их в сферу общественно-политических отношений.
Важным признаком политической жизни современного Кыргызстана является также утверждение в нем многопартийности, создание множества общественных организаций, наличие политической оппозиции, которая играет заметную роль в общественно-политической жизни, и др.
Таким образом, в Кыргызстане созданы политические условия для формирования гражданского общества. По оценкам западных экспертов, республика в политическом плане добилась самой большой в Центральной Азии демократизации политической жизни, продвинулась далеко вперед и максимально приблизилась к западным стандартам демократии.
Вместе с тем надо отметить, что, несмотря на значительный прогресс в политической сфере, принципы демократии, особенно на личностном уровне, утверждаются слабо. Анализ общественной практики показывает, что большинство граждан еще не ощущают себя полноценными участниками общественных отношений, права и свободы которых не только провозглашены, но и надлежащим образом защищены. Отчуждение от государства и государственной власти не преодолено. Значительная часть населения демонстрирует политическую пассивность, общество в целом еще не избавилось от наследия советского тоталитаризма, дают себя знать пережитки традиционализма и трайбализма, клановости. Еще сильны пережитки советской коллективности. Не преодолено недоверие к суду, который должен превратиться в орган, обеспечивающий законность и правопорядок, незыблемо стоящий на защите законных прав и свобод человека и гражданина.
Важным условием формирования гражданского общества является утверждение идеологического плюрализма, раскрепощение сознания человека.
Современная политологическая мысль и политическая практика различают несколько видов политической идеологии, наиболее влиятельными из них считаются коммунизм, социал-демократизм, либерализм, консерватизм, национализм, фашизм. Каждая из них имеет свою теоретическую базу, свои представления об образе действительности, свою иерархию ценностей и свои подходы к изменениям или сохранению существующего состояния дел в обществе.
В СССР насаждался коммунизм, базирующийся на марксизме-ленинизме, который стал официальной идеологией государства. Однако логика и практика мирового развития, мировая демократическая политическая мысль отвергают догмы и практику коммунизма, как не приемлют они и праворадикальные идеологии национализма и фашизма.
Кыргызское государство отказалось от практики насаждения какой-либо идеологии, как и от признания преимуществ и монополии какой-либо из них. Признав в конституционном порядке, что никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам политических убеждений [21], государство тем самым признало право на существование любой политической идеологии, кроме, естественно, античеловеческих. Таким образом, в Кыргызстане в законодательном порядке созданы условия для утверждения идеологического плюрализма.
Среди наличествующих в кыргызском обществе идеологий первое, но далеко не главенствующее место занимает коммунизм. Это связано с традицией, насаждавшейся в течение нескольких десятилетий и укоренившейся в сознании некоторой части людей, а также с определенной верой в «светлое будущее», которое обещали коммунистические вожди. Однако было бы ошибочным полагать, что сторонники коммунистической идеологии разделяют ее теоретические основы, многие о них и не задумываются. Они ностальгируют не по идеям, которые большинству, по сути, и незнакомы, а по некоторым достижениям советской системы в социальной сфере. Сторонники коммунистической идеологии сознательно закрывают глаза на имевшие место пороки социалистической системы, даже на массовый политический террор, они верят, что в ходе реформирования (в духе лозунгов перестройки) советскому общественному строю можно было придать облик «социализма с человеческим лицом». Как известно, советский общественно-политический строй показал неспособность к реформированию, идеология перестройки обанкротилась. К тому же надо отметить, что «социализм с человеческим лицом» означает, по сути, отказ от идеологии коммунизма и переход к идеологии социал-демократизма (демократического социализма). Что же касается перспектив коммунистической идеологии, то можно полагать, что по мере дальнейшего развития и углубления демократических процессов, а также заметного улучшения материального положения населения сфера ее распространения будет сужаться. Об этом убедительно свидетельствует опыт развитых, процветающих стран, где идеология коммунизма не получила сколько-нибудь заметного развития.
В западных социумах заметное распространение приобрели социал-демократизм, либерализм и консерватизм [22].
В Кыргызской Республике имеются предпосылки для распространения указанных идеологий, поскольку идет социальная стратификация общества, формируется слой собственников (мелких, средних, крупных). Однако имеющиеся предпосылки не ведут автоматически к идеологической стратификации кыргызского общества. Идеологии социал-демократизма, либерализма и консерватизма на национальной основе разрабатываются слабо, их приверженцы немногочисленны, что затрудняет их институализацию, ни одна из них не имеет ярких представителей, способных вести за собой людей. Все это предопределяет идеологическую невыраженность кыргызского общества.
Определенное распространение в мире получила идеология национализма, которую обычно связывают с борьбой за создание государств-наций. В Кыргызстане идеология национализма получила некоторое распространение первоначально как своеобразное отторжение советского имперского тоталитаризма, когда суверенитет республики носил декларативный характер, потребности кыргызской нации игнорировались, сфера применения кыргызского языка постоянно сужалась, национальные духовные традиции подменялись классовой моралью и т. д. С обретением независимости и образованием кыргызского государства главные цели идеологии национализма в значительной степени реализованы. Однако процессы национального возрождения, расширения сферы употребления кыргызского языка, укрепления государственности и на государственном, и на личностном уровне идут медленно и противоречиво. Все это создает соответствующую базу для развития идеологии национализма.



