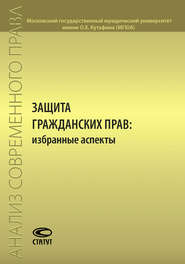
Полная версия:
Защита гражданских прав: избранные аспекты
Иными словами, ЕСПЧ исходит из того, что защита гражданских прав будет расцениваться в качестве судебной защиты по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции в ситуации, либо когда административный орган отвечает всем требованиям, предъявляемым к суду (о чем говорилось выше), либо когда она реализуется действительно судебным органом, компетентным осуществлять судебный контроль административных решений. Иной подход, по мнению ЕСПЧ, создает условия для произвольного лишения лиц права на судебную защиту своих прав, свобод и законных интересов, что делает нормы п. 1 ст. 6 в Конвенции бесполезными, априори неэффективными.
Следует признать, что система административной юстиции в России традиционно тяготела к испанской модели. То есть реализация административного порядка защиты осуществляется органами, входящими в систему исполнительной власти и не образующими иерархически выстроенную структуру административной юстиции. Использование данного порядка предполагает обращение заинтересованного лица к вышестоящему органу (должностному лицу) в соответствии с предписаниями закона. Не исследуя вопрос подлинной независимости этих органов от «активной администрации», т. е. собственно исполнительной власти, следует признать, что решения таких органов по смыслу п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека не могут рассматриваться в качестве первоначальных решений по гражданским делам[36]. Это обусловлено, во-первых, отсутствием в большинстве случаев предусмотренного законом административного порядка рассмотрения дел, а во-вторых, несоответствием процедуры предусмотренным стандартам отправления правосудия (п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека). Вынесенные административными органами решения могут обжаловаться заинтересованными лицами в соответствующие судебные органы, т. е. они могут реализовать судебный порядок защиты.
Таким образом, отечественное право не дает никаких оснований рассматривать административный порядок защиты в качестве допустимой замены судебного порядка. Достижением отечественного правопорядка признается провозглашенное Конституцией РФ 1993 г. право на судебную защиту, означающее прежде всего доступность правосудия для любого лица и недопустимость ограничений для обращения в суд (что соответствует п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека). Вследствие этого исключена ситуация, в которой орган, созданный в структуре исполнительной власти, может подменить собой суд, входящий в судебную систему государства[37].
Завершая настоящую часть данной статьи, нельзя обойти вниманием проблему понятийного аппарата, на самом деле серьезно препятствующую полноценному развитию как административного порядка защиты в целом, так и судопроизводства по делам, возникающим из административных и иных публичных отношений.
Часть 2 ст. 118 Конституции РФ закрепляет: «Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства». М.Е. Глазкова по этому поводу пишет следующее: «Как поясняли специалисты, участвовавшие в процессе подготовки текста Конституции в начале 90-х гг., такое нормотворческое решение было принято с целью сделать акцент на закреплении гарантий судебной защиты по делам частных лиц против органов публичной власти, что должно было найти (и нашло) дальнейшее продолжение в нормах отраслевого (процессуального) законодательства»[38].
Между тем данное положение Конституции РФ нельзя назвать безупречным – оно всегда вызывало дискуссии, поскольку непонятны мотивы указания именно этих разновидностей судопроизводств и неясен критерий, который использовался для градации судопроизводств именно на эти виды.
Если исходить из того, что речь шла об обозначении видов судопроизводств в зависимости от структуры судебной власти, то предложенная классификация является неполной, поскольку отечественная судебная система указанными видами не исчерпывается. И как здесь не вспомнить споры относительно допустимости существования в качестве самостоятельной разновидности арбитражного судопроизводства?!
Если признать, что разграничение видов судопроизводства в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ зависело от градации судебных дел, то, по всей вероятности, данное конституционное положение должно было иметь другую редакцию. Оно, например, могло звучать таким образом: «Судебная власть осуществляется посредством судопроизводства по уголовным, административным и гражданским делам»[39]. И надо сказать, что такая редакция не только упростила бы уяснение положения, закрепленного в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, но и сняла многие вопросы, до сих пор волнующие умы отечественных правоведов. Более того, разбираемое конституционное положение в предложенной редакции в большей степени сблизилось бы с п. 1 ст. 6 Конвенции по правам человека, в которой выделяются две категории дел: во-первых, дела «по уголовным обвинениям» и, во-вторых, «споры о гражданских правах и обязанностях», к которым относят дела, рассматриваемые в рамках гражданского и административного производства[40].
Но более проблемным является другой аспект понятийной непроработанности ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, на который специально обращает внимание М.Е. Глазкова: «…судопроизводство как форма осуществления правосудия органами судебной власти не может быть административным. Судопроизводство является самостоятельным способом защиты наряду с существованием административного порядка восстановления нарушенных прав и публичного правопорядка. Административный способ защиты предполагает обращение в вышестоящий орган или к вышестоящему должностному лицу и имеет отличные от судебного процесса черты»[41].
Отечественное законодательство, как уже было показано, разграничивает административный порядок защиты, реализуемый органами исполнительной власти, рассматривающими соответствующие обращения частных лиц, и судебный порядок защиты, реализуемый судебными органами. При этом органы исполнительной власти, рассматривающие дела, отнесенные к их компетенции, осуществляют свою деятельность в форме административного производства, тогда как государственные суды осуществляют свою деятельность в форме судопроизводства по делам, возникающим из административных и иных публичных отношений.
Неверное обозначение последнего как «административного судопроизводства» препятствует уяснению различий между процедурой рассмотрения дел административным органом и процедурой судопроизводства (производства в суде), позволяет подменять эти два принципиально разные процесса одно другим, создавая условия для выдвижения идей, «не встраиваемых» в отечественный правопорядок: «В частности, обсуждались идеи регулирования данного процесса административными регламентами, утверждаемыми органами исполнительной власти, расширения обязательного досудебного порядка разрешения дел, возникающих из административных отношений, и образования для их рассмотрения «вневедомственного контрольного органа» – Федеральной административной службы Российской Федерации[42] или Административной палаты Российской Федерации[43]… Такая деятельность воспринимается многими теоретиками и, в особенности, практиками как «административный процесс», зачастую смешиваемый с административным судопроизводством, для осуществления которого многократно предлагалось создание административных судов…»[44] Негативные последствия подобного смешения сказываются на содержании соответствующих законодательных актов – как здесь не вспомнить критикуемый специалистами КАС РФ, предметом регулирования которого является «порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями… административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий» (ч. 1 ст. 1).
Подводя итоги данной части настоящей статьи, хотелось бы выразить надежду на то, что обозначенные терминологические ошибки будут исправлены, что, вне всяких сомнений, позволит более результативно совершенствовать инструменты правовой защиты.
III. О третейском разбирательстве (арбитраже) в условиях проводимой реформы
Пункт 1 ст. 11 ГК РФ, как указано, перечисляет судебные органы, которые наделены полномочиями по защите гражданских прав: это государственные суды (суд общей юрисдикции и арбитражный суд) и суд негосударственный – третейский. Далее по тексту ГК РФ используется общий термин «суд» без уточнения, о государственном или третейском суде идет речь. Сказанное заставляет дать некоторые разъяснения.
Статья 10 Конституции РФ устанавливает, что государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Развивая принцип разделения властей, положения гл. 7 «Судебная власть» Конституции РФ закрепляют основы создания и деятельности органов государственной судебной власти – государственных судов, входящих в судебную систему Российской Федерации. С учетом сказанного из ч. 1 ст. 118 Конституции РФ следует, что правосудие является формой государственной деятельности; осуществлять такую деятельность могут только специально созданные государственные учреждения – государственные суды, составляющие в совокупности судебную систему.
В то же время, как и в большинстве стран, отечественное законодательство устанавливает допустимую альтернативу государственным судебным органам – негосударственные суды, уполномоченные осуществлять защиту нарушенных прав граждан и юридических лиц. Такие суды – третейские суды или иначе арбитражи (далее – арбитражи) не являются государственными учреждениями, не включаются в государственную судебную систему, следовательно, не могут отправлять правосудие, являющееся, как было указано, прерогативой исключительно государственных судов. А. Дичев в связи с этим отмечает: «…нигде не существует закона, который бы признавал арбитраж в качестве органов государственной власти. Арбитры выносят решения в качестве частных лиц»[45]. То есть, не являясь государственным судом, арбитраж не исполняет функцию государственной (судебной) власти – осуществлять правосудие, вынося решения от имени Российской Федерации[46].
Вместе с тем указанное ничуть не ограничивает полномочия арбитража по разрешению отнесенных к его компетенции дел по защите субъективных гражданских прав и законных интересов, не уничижает его значимость: п. 1 ст. 11 ГК РФ арбитраж прямо отнесен к судебным органам, уполномоченным государством на рассмотрение и разрешение таких дел. То есть арбитражи представляют собой негосударственные судебные органы (негосударственные суды), осуществляющие судебную защиту нарушенных или оспоренных прав и охраняемых законом интересов в рамках предоставленной им компетенции[47].
Нельзя не заметить, что объем норм, регламентирующих сам порядок третейского разбирательства, не слишком значителен – это отличает и Закон РФ от 07.07.1993 № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА), и Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее – Закон о третейских судах) и вступивший в силу с 01.09.2016 Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже). Особенно очевидно это в сравнении с «весомыми» ГПК РФ и АПК РФ, в которых весьма подробно определен порядок судопроизводства в государственных судах.
Между тем такое положение вещей закономерно и объяснимо.
Сравнивая процессуальные правоотношения в государственном суде, осуществляемые в форме судебного процесса, и процедурные отношения в арбитраже, осуществляемые в форме третейского разбирательства, необходимо подчеркнуть следующее. В отличие от процессуальных правоотношений в государственном суде, являющихся властеотношениями, процедурные отношения в арбитраже не носят характер власти-подчинения и не относятся к публично-правовым отношениям (именно потому что арбитраж не является государственным судом и не осуществляет функцию судебной власти).
Являясь альтернативой правосудию (властной деятельности государственных судов), арбитражное (третейское) разбирательство имеет соответствующие характерные черты. Е.В. Васьковский так описывал их: «Третейским судом… называются частные лица, избранные по взаимному соглашению сторон для разрешения их гражданско-правового спора. От государственного суда третейский отличается, во-1-х, тем, что третейские судьи… избираются спорящими сторонами по взаимному соглашению, во-2-х, что они избираются для разрешения одного определенного дела, в-3-х, что они разрешают спор не по законам, а по совести, и, в-4-х, что при рассмотрении дела они не руководствуются общими судопроизводственными правилами»[48].
То есть в отличие от судебного процесса в государственном суде, носящего публично-правовой характер, третейскому разбирательству очевидно присущ частноправовой характер. Принципиальная разница в правовой природе и обусловливает ряд особенностей, серьезно отличающих третейское разбирательство от судопроизводства в государственном суде[49].
Изложенное не позволяет подходить с единым мерилом и к регламентации процедуры рассмотрения дел государственным и негосударственным судом. Различия в правовой природе требуют различия в подходах к правовому регулированию отправления правосудия в государственном суде (относящемуся к сфере публичных отношений) и правовому регулированию третейского разбирательства (относящегося к области частных отношений).
Судебный процесс в государственном суде представляет собой специальный порядок принудительной реализации государственным судом прав частного лица на защиту. При этом, как подчеркивает Г. Бланке, этот порядок полностью подчинен императивным предписаниям законодательства: «Эти нормы разработаны с целью формализации иерархических отношений между судом как органом и выразителем государственной власти и участниками судебного процесса»[50].
Вследствие этого нормы арбитражного процессуального и гражданского процессуального законодательства вовсе не подходят для регулирования третейского разбирательства. В связи с этим Ж.-Ф. Пудре и С. Бессон пишут о том, что стороны и арбитры не связаны национальными гражданско-процессуальными нормами, которые применяются государственными судами, – третейское разбирательство «регулируется особыми нормами, дающими возможность в большей мере реализовать принцип автономии воли сторон»[51]. Авторы подчеркивают неприменимость национальных процессуальных норм к третейскому разбирательству, что и позволяет адаптировать судебный процесс «к потребностям конкретного дела, правовым традициям сторон, их адвокатов или арбитров, а также избежать формализма национальных процессуальных кодексов»[52].
С учетом сказанного следует признать, что третейское разбирательство не требует подробного законодательного урегулирования порядка рассмотрения споров – в законодательстве об арбитраже должны быть закреплены лишь базовые идеи и основополагающие принципы, а само разбирательство в значительной степени должно быть зависимо от автономии воли спорящих сторон. Именно «минимализм» правового регулирования порядка третейского разбирательства, наделяет его той гибкостью, которая позволяет учитывать интересы и потребности спорящих сторон в каждом конкретном деле[53]. При этом недопустимым является «восполнение недостаточности» правового регулирования третейского разбирательства нормами, регулирующими порядок судопроизводства в государственном суде, как отмечает Н.Г. Елисеев, и государственным судом, и арбитражем «выполняется одна и та же функция – рассматривается правовой спор, но с применением различных процессуальных стандартов»[54].
Обозначив специфику правовой природы третейского разбирательства, которая на сегодняшний день практически не учитывается[55], нельзя обойти вниманием вопрос, нашедший отражение в Законе об арбитраже.
Необходимость принятия названного Закона объяснялась в первую очередь выявляемыми на практике злоупотреблениями институтом арбитража (так называемые карманные третейские суды), а также недостаточной востребованностью третейского разбирательства со стороны участников гражданского оборота. В пояснительной записке к проекту Закона об арбитраже указывалось на то, что он способен решить упомянутые проблемы, «результатом чего должно стать создание современного и эффективного механизма правового регулирования института арбитража (третейского разбирательства) в Российской Федерации с учетом мировой практики в области регулирования деятельности третейских судов и текущего состояния данного института».
Закон об арбитраже содержит значительное число принципиально новых положений, которые не содержались ни в Законе о третейских судах, ни в Законе о МКА. Однако в рамках настоящей статьи с учетом ограниченности ее объема, не предполагается разбор новелл Закона об арбитраже – для целей настоящей статьи значимым будет краткий анализ произведенной в этом Законе понятийной градации, которая со всей очевидностью будет способствовать развитию третейского разбирательства, увеличению его востребованности. Речь идет о проведении демаркационной линии между двумя правовыми явлениями, которые обычно, не разграничивая, обозначают одним термином «третейский суд».
Во-первых, термин «третейский суд» используется для обозначения единоличного арбитра (третейского судьи) или состава арбитров (третейских судей), компетентных разрешать переданный на их рассмотрение спор.
Именно в этом контексте третейский суд подпадает под понятие «суд» в смысле п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод[56]. Следовательно, когда поднимается вопрос о независимости и беспристрастности суда, имеется в виду независимость и беспристрастность арбитров (третейских судей) при разрешении конкретного дела. Это позволило КС РФ констатировать следующее: «Что касается закрепленного в международных договорах, большинстве национальных законов и правилах третейского разбирательства принципа независимости и беспристрастности третейских судей, то вытекающие из него требования производны от требований к судьям государственных судов, аналогичны и подходы к основополагающим гарантиям их деятельности, направленным на обеспечение реализации гражданами и их объединениями (организациями) права на справедливое разбирательство дела независимым и беспристрастным судом»[57].
Во-вторых, термином «третейский суд» обычно обозначается также и учреждение, которое призвано обеспечить материально-техническую и организационную сторону проведения третейского разбирательства.
Деятельность такого учреждения подразумевает, в частности, обеспечение арбитров помещением для проведения судебного разбирательства, оргтехникой, средствами связи, иным необходимым оборудованием, ведение делопроизводства, организацию сбора и распределение арбитражных сборов и т. п. То есть само такое учреждение осуществляет не судебную деятельность по разрешению споров, а лишь указанное администрирование, исполняемое соответствующим аппаратом (в который входят председатель третейского суда, секретариат и т. п.).
Сказанное ничуть не выделяет третейские суды из числа прочих (государственных) судов. Точно так же применительно к государственным судам понятие «суд» используется, во-первых, для обозначения судьи или состава судей, разрешающих конкретное дело (и речь о независимости и беспристрастности суда может вестись только применительно к этим судьям), и, во-вторых, учрежденного и финансируемого государством юридического лица, которое создается для материально-технического и организационного обеспечения отправления правосудия и предусматривает соответствующий аппарат (в том числе помощников судей, секретарей судебного заседания и проч.).
Проблема смешения обозначенных категорий становилась предметом рассмотрения в КС РФ[58]. С целью исключить негативные последствия такого смешения и дифференцировать правовое регулирование для этих разных по своей сути институтов Закон об арбитраже специально закрепляет следующие положения:
– термин «третейский суд» используется для обозначения единоличного арбитра или коллегии арбитров (п. 16 ст. 2);
– термин «постоянно действующее арбитражное учреждение» – для обозначения подразделения некоммерческой организации, выполняющего на постоянной основе функции по администрированию арбитража, т. е. по организационному обеспечению арбитража, в том числе по обеспечению процедур выбора, назначения или отвода арбитров, ведению делопроизводства, организации сбора и распределения арбитражных сборов, за исключением непосредственно функций третейского суда по разрешению спора (п. 2, 9 ст. 2).
Таким образом, по смыслу Закона об арбитраже понятие «третейский суд» не распространяется на учреждение (подразделение), которому переданы функции по администрированию (организационному обеспечению) третейского разбирательства, – для последнего в Законе используется специальный термин «постоянно действующее арбитражное учреждение».
Изложенное позволяет провести четкую границу между понятиями «третейский суд» (п. 16 ст. 2 Закона об арбитраже) и «третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора» (п. 17 ст. 2 Закона об арбитраже). Различие между ними состоит в том, что первый осуществляет свою деятельность под «патронажем» соответствующего постоянно действующего третейского учреждения, а второй, будучи создаваемым самими спорящими сторонами для рассмотрения возникшего между ними спора (третейский суд ad hoc), – вне постоянно действующего третейского учреждения. Причем в п. 17 ст. 2 Закона об арбитраже специально предусмотрено, что спорящие стороны могут договориться о том, что постоянно действующее арбитражное учреждение может выполнять некоторые функции по администрированию спора, переданного спорящими сторонами на рассмотрение третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора. То есть Закон допускает возложение на постоянно действующее арбитражное учреждение функций по организационному обеспечению «не своего» суда – третейского суда ad hoc.
При этом ч. 5 ст. 1 Закона об арбитраже закрепляет следующее правило: «Если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное, он распространяется как на арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, так и на арбитраж (третейское разбирательство), осуществляемый третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора». Это означает, что Закон по общему правилу распространяется на разбирательство споров, осуществляемое как арбитрами при администрировании постоянно действующим арбитражным учреждением, так и арбитрами ad hoc в отсутствие такого администрирования.
В завершение настоящего комментария уместно сказать несколько слов и в отношении понятия «подведомственность» – краеугольного камня отечественной юридической науки.
Суд является компетентным в отношении переданного на его разрешение юридического дела в том случае, если это дело ему подведомственно. Правоведы издавна расходились во взглядах в отношении того, что следует понимать под подведомственностью, признавая лишь, что в любом случае речь идет о распределении юридических дел между различными органами гражданской юрисдикции (к таким органам, как известно, относятся не только судебные, но и иные органы – нотариата, опеки и попечительства и т. п.). На сегодня следует признать наиболее верным понимание подведомственности как свойства нуждающегося в разрешении юридического дела, позволяющего отнести это дело к компетенции одного из органов гражданской юрисдикции[59].
Сегодня принято разграничивать подведомственность юрисдикционным органам и судебную подведомственность. Причем последняя, как это следует уже из ее наименования, призвана разграничивать компетенцию именно и только между судами гражданской юрисдикции – общей юрисдикции, арбитражными, третейскими. Исходя из свойства подведомственности дела и решается вопрос наличия или отсутствия у соответствующего суда полномочий на разрешение дела по существу – вопрос признания суда компетентным (ст. 6 Конвенции по правам человека).
Важно заметить, что компетенция третейских судов распространяется на те же юридические дела, которые рассматривают государственные суды: иными словами к компетенции третейских судов отнесено рассмотрение и разрешение гражданских дел, которые как правило одновременно подведомственны и государственным судам. Таким образом, в большинстве своем дела, возникающие из гражданских правоотношений, обладают свойством подведомственности, которое позволяет относить их как к компетенции государственных судов, так и третейских судов (альтернативная подведомственность). Причем компетенция государственных судов и третейских судов не является конкурирующей компетенцией: нельзя сначала обратиться за разрешением спора к компетентному третейскому суду, а в случае неудовлетворенности исходом дела (третейским решением) – в государственный суд с требованием о разрешении того же спора.



