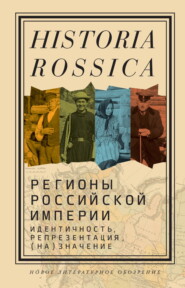
Полная версия:
Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение. Коллективная монография
Приведенные в статье Евгения Крестьянникова многочисленные факты показывают, что существует множество причин, благодаря которым регионы возникают в тот или иной момент и в той или иной форме. Целый ряд концепций был создан властями, другие, напротив, рождались на низовом уровне; часто мы имеем дело с объединением двух позиций. В статье Алексея Волвенко о донских землях значимым фактором становится и название региона. Донские казаки именовали территорию, где жили столетиями, «Землей войска Донского», однако в 1870 году в Петербурге было принято решение переименовать «землю» в «область». Военный министр Д. А. Милютин полагал, что в эпоху унификации официальное название казачьих земель должно соответствовать «общепринятым наименованиям в Империи». Инициируя новое наименование, министр, однако, был обеспокоен реакцией местного населения. Возражений не последовало, но сам по себе эпизод оказался примечателен: в столице опасались, что казаки «относятся весьма недружелюбно ко всяким изменениям старых порядков». По сути, Милютин зафиксировал свойственный казачьему региону потенциально опасный традиционализм. То, что смена названия произошла почти без возражений, не означает, что Милютин был неправ: скорее можно говорить о том, что право центра менять название региона – не самый важный элемент региональной идентичности.
В статьях Амирана Урушадзе и Дарюса Сталюнаса подчеркиваются схожие смещения и противоречия между тем, как власть видит регионы из центра, и тем, как территорию представляют сами жители. Фундаментальное противоречие лучше всего выражается приведенной Урушадзе фразой Николая I «В царстве другого царства быть не может». Именно так император ответил на доклад графа П. Д. Киселева в 1844 году[19]. Позиция императора, на первый взгляд, была недвусмысленна: регион может быть только таким, каким его хочет видеть центр. Однако никто из российских монархов, не исключая Николая I, никогда не предлагал четкого плана перехода к подобной системе и, конечно, не определял в этой связи никаких сроков. Административные реформы при этом часто оказывались неясными и даже парадоксальными. Амиран Урушадзе демонстрирует это на примере неудачной реформы управления Кавказом, которую предложил барон П. В. Ган в начале 1840‐х годов. Проект Гана полностью соответствовал духу николаевской политики, но при этом потерпел неудачу. Император посчитал, что идею интеграции лучше всего реализовывать не посредством выстраивания централизованного управления Кавказом, как предлагал Ган, а через создание нового наместничества, контроль над которым был передан в руки князя М. С. Воронцова. Однако, пожалуй, важнее то, что план барона Гана, централистский, ориентированный на действия сверху, оказался не менее патерналистским и безапелляционным, как и все имперское управление в XIX веке.
В этом же русле разворачиваются рассуждения Дарюса Сталюнаса, который анализирует попытку имперских властей создать идею Западной России (впоследствии – Западного края) как особого региона. Подобные действия мотивировало стремление нивелировать влияние конкурирующей идеи Великого княжества Литовского и снизить польское влияние в регионе. Автор показывает, что эта попытка отчасти удалась. Термины, которые власти ввели в русскоязычные учебники и бюрократические документы, вошли в повседневный язык недоминирующих этнических групп. Сама идея, однако, не прижилась: «ментальные карты» литовцев продолжали включать в себя привычные исторические названия региона и его частей. К тому же, продвигая идею «Западного края», имперские власти испытывали целый ряд сомнений, опасаясь, что жители региона увидят в этом признание особости этих земель в составе империи.
Одним из главных выводов сборника можно считать утверждение, что уже к концу XVIII века административные границы и практики управления действительно серьезно способствовали определению регионального пространства и становлению его идентичности. Едва ли можно говорить о том, что центр сам по себе формировал традиции и идентичность региона. Центру часто были неподвластны расстояния – даже в эпоху телеграфа и железной дороги. Центр не мог как по волшебству увеличивать или уменьшать население территории – по крайней мере, это не могло быть осуществлено с той скоростью, о какой мечтали иные чиновники в Петербурге. В этом смысле официальные проекты региональных реформ всегда оставались в чем-то оторванными от реальности конкретной территории. Это происходило, впрочем, не потому, что судьбу региона определяли «областные массы народа» (термин А. П. Щапова). Практический потенциал государства в регионах был всегда ограничен, а язык, с помощью которого власть стремилась «прочесть» территорию, был несовершенен и оперировал множеством стереотипов и неочевидных установок[20].
Это становится очевидным в работе Сергея Любичанковского, который исследует репрезентацию Оренбургского края в отчетах губернаторов территории конца XIX – начала XX века. Автор демонстрирует, что в своих обращениях к центру гражданские губернаторы выдвигали на первый план позиции экономического порядка, подчеркивая значение сельского хозяйства. Из местных этнических групп они традиционно выделяли башкир, не придавая существенного значения значительно бóльшим по численности этническим группам (русским и татарам). По сути, в губернаторских отчетах из Оренбургского края, утратившего в 1881 году статус генерал-губернаторства и превратившегося в губернию, прослеживается намерение представить регион в категориях, не привязанных к позиционированию уникальности территории. Такие документы мало отражали взгляд региона на себя, но соответствовали ожиданиям имперского центра, который в конечном итоге стремился к достижению единообразия и постоянства на всей территории страны.
Статья Ивана Поппа о волостных судах демонстрирует отчасти схожие выводы. Автор отталкивается от утверждения Дж. Бурбанк, назвавшей волостные суды «триумфом имперского государства». На первый взгляд, рассуждает автор, исследовательница права, ведь новая система позволила включить только что получивших свободу от крепостной зависимости крестьян в систему имперского правосудия. Однако конкретный региональный материал заставляет усомниться в рассуждениях такого рода. Изучая реакции губернаторов разных территорий и, предметно, функционирование волостных судов в Пермском крае, Иван Попп показывает, что система, с одной стороны, не удовлетворяла потребности местного населения, а с другой, в соответствии с установками центральных властей, оставалась автономной, то есть неинтегрированной в основную систему судопроизводства.
Еще одна важная для нашего сборника тема – взаимоотношения между регионами и формирование особых территориальных иерархий. Известно, что власти Российской империи всегда мечтали о «слиянии» разных элементов государства в единое целое. Реалии имперской жизни, однако, скорее поощряли сосуществование территориальных различий. Контекст при этом мог быть самым разным – удаленность от центра, близость к небезопасным или неопределенным границам, особость этноконфессионального состава населения и, наконец, природные условия и наличие (или отсутствие) полезных ископаемых.
В этом сборнике исследованы разные уровни иерархий. В статье Ольги Глаголевой о формировании региональной дворянской идентичности периода созыва екатерининской Уложенной комиссии, например, показано, что Комиссия «стала первым в истории России публичным обсуждением проблем империи и регионов – особенностей и привилегий внутренних и пограничных регионов, проблем русификации и унификации…». Символично, что статья начинается с анализа процессии депутатов, представляющих губернии по степени их важности. В Успенский собор первыми входят депутаты от Москвы, а последними – от Новороссии. На следующий день в Грановитой палате они рассаживаются согласно этому же принципу. Процессия демонстрирует, что у регионов есть по крайней мере три уровня символического статуса: помимо значимости самого факта участия в действе отмечено их место в церемонии и положение по отношению к другим регионам такого же типа (внутренним, пограничным, историческим, новым и т. д.) Зримая иерархия неизбежно приводит депутатов к осознанию своего статуса и определяет выбор используемых ими презентационных стратегий.
В статье Екатерины Болтуновой проанализирована схожая практика формирования региональной статусности и форм ее презентации. Речь идет о региональных траурных процессиях, устроенных в 1826 году во время перемещения гроба с телом Александра I из Таганрога, где император скончался в декабре 1825 года, в Петербург. Путь в 2 тысячи километров от берегов Азовского моря к Балтике занял два месяца. По пути в Северную столицу тело монарха провезли по территории нескольких российских губерний и через ряд крупных городов европейской части страны (например, Харьков, Белгород, Курск, Тула, Москва и Новгород). Автор показывает, как вокруг гроба покойного монарха выстраивались шествия, собиравшие вместе людей конкретной территории, демонстрируя, как процессии сами по себе становились для каждого конкретного региона возможностью рассказать о себе. Самопрезентация каждой территории имела как общие, так и уникальные черты, создавая эффект «живых картин». Зачастую презентация региональных социальных иерархий могла существенно разниться от региона к региону. Один из самых показательных выводов в статье связан с указанием на единообразие, которое демонстрировали центральные территории империи, и вариативностью подобной презентации в регионах более удаленных от центра, в частности в Слободско-Украинской губернии.
Анализ взаимоотношений между регионами занимает ключевое место и в статье Кэтрин Пикеринг Антоновой. Это единственная статья сборника, где на первый план выходит экономика, а конкретно – регионы, где в XIX веке существовало развитое ткачество и текстильное производство (Москва, Иваново, Оренбург). Автор подвергает критике устойчивое представление о том, что история производства – это своего рода линейный процесс, в основе которого лежит переход от ремесленных технологий к протоиндустриализации и, наконец, индустриализации. Такая система, по мнению Кэтрин Пикеринг Антоновой, постулирует отсталость России от Британии и других развитых стран. Автор статьи предлагает рассматривать историю российского текстильного производства с позиции «региономики», то есть анализа региональной экономической деятельности, которая определяется соотношением разных форм ручного и/или механизированного труда, специализации в производстве той иной продукции и ее поставки на рынок. Экономическую деятельность в регионах Пикеринг Антонова называет не протоиндустриальной, а параиндустриальной, ведь у каждого региона в этой выборке своя система связей между теми или иными местами производства, деревней и городом, свой брендинг ткацкой или текстильной продукции, основанный на терруарных особенностях региона. Такой подход не требует непременного указания на стадии развития, которые, в свою очередь, формируют черно-белую перспективу – отсталость vs развитие. Параиндустриальный подход видит в производстве характерное для конкретного региона соотношение между продукцией, рынками и пространством производства и потребления.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯДВыводы, к которым приходят авторы статей, предлагают новую региональную оптику для исследования Российской империи. Мы полагаем, что новые изыскания, написанные на основе материалов региональных архивов, могут изменить наш подход к прошлому России и помочь выбраться из тисков традиционного восприятия региона[21].
Следует отметить, однако, что этот новый подход не предлагает кардинального изменения всей перспективы. Региональная история не может существовать без общегосударственной истории или истории политического центра: противопоставлять эти установки было бы слишком большим упрощением. Но переосмыслить значение регионов в общероссийском контексте – чрезвычайно важно, это позволит пересмотреть поле исторических исследований. В конце концов, в 1914 году территория Российской империи составляла примерно 21,8 миллиона кв. км, что в 2 раза больше, чем площадь США, и лишь немногим меньше, чем Британская империя в 1870‐е годы. Сложно представить, что региональный подход к истории столь огромной страны не продемонстрирует ничего нового[22].
Основная цель сборника – не в том, чтобы предложить (и уж тем более обосновать) некий прежде не существовавший региональный взгляд на империю. Наши задачи скромнее: мы стремимся достигнуть более глубокого анализа истории регионов как таковых. Многие историки и социологи в России и в мире, заявляющие, что нация – это «воображаемое сообщество», видят в регионе нечто неотрицаемо реальное. Возможно, это происходит потому, что регион как субнациональная единица обычно меньше по размеру, нежели государство. К тому же он менее абстрактен и, соответственно, кажется более реальным. На самом деле регион, как мы уже говорили, – это в такой же степени конструкт, как и любая другая определенная человеком часть пространства. Он сочетает в себе реальные и воображаемые политические, социальные, культурные и экономические отношения и функционирует в рамках целого ряда возможностей.
Авторы статей этого сборника исследуют разные аспекты комплексного и неоднозначного развития регионов Российской империи. В ряде статей вводятся в оборот малоизвестные архивные материалы, в других представлены новые исследовательские концепции. Хотя все статьи (за исключением работы С. Урбански) остаются в рамках собственно Российской империи, а не компаративных трансграничных моделей, некоторые авторы анализируют регионы в рамках мультирегиональных или межрегиональных установок[23]. Мы надеемся, что представленные в работах выводы будут полезны для поиска новых ответов на старый вопрос: как оценить роль регионов в истории России, как измерить их влияние на развитие страны.
В этом отношении мы идем по пути, который почти 20 лет назад наметил Анатолий Викторович Ремнёв, полагавший, что «если признать, что Российская империя была не простым конгломератом народов и территорий, а сложной системой, включавшей в качестве элементов разнопорядковые с асимметричным статусом… регионы, имеющие различные социально-экономические, политические и социокультурные характеристики, то необходимо будет изменить ракурс исторического исследования, который потребует существенного расширения тематики и понятийного аппарата»[24].
В определенном смысле это издание – продолжение тех идей, которые высказывал наш друг и коллега. Именно поэтому мы посвящаем ему нашу книгу. Мы надеемся, что эта работа внесет свой вклад в процесс переосмысления регионов в истории Российской империи, подтверждая тем самым, что регион – это не только физическое пространство или субъективный образ территории и ее жителей, но и важное действующее лицо российского прошлого.
Часть 1. Понятия, категории, исследовательский взгляд
Владислав Боярченков
«Русская история в самой основе своей есть… История областей»
Провинциализм, народность и колонизация в историческом дискурсе федералистов эпохи Великих реформ[25]
Если не общепринятым, то, безусловно, самым эффектным способом публичного представления нового преподавателя университетской корпорации в России середины XIX века была организация вступительной лекции, посетить которую могли все желающие. Именно в такой обстановке – не в обычной аудитории, а в переполненном зале, где проходили торжественные собрания, в присутствии руководителей учебного округа во главе с попечителем, – состоялся дебют на кафедре русской истории Казанского университета А. П. Щапова 11 ноября 1860 года. Вниманию публики был предложен «Общий взгляд на историю великорусского народа».
Несмотря на то что текст этой лекции представлял собой своеобразный экстракт курса гражданской истории, который на протяжении нескольких предшествовавших лет читался Щаповым в Казанской духовной академии, для университетских слушателей ее содержание стало подлинной сенсацией. Присутствовавшие на лекции спустя годы отмечали в один голос небывалый ажиотаж, охвативший аудиторию с момента появления лектора перед кафедрой и удерживавший ее на протяжении всего примерно двухчасового выступления, которое завершилось оглушительной овацией[26], а сам текст впоследствии долгое время циркулировал в среде казанского студенчества, благодаря чему сохранился[27]. Чем же так увлек казанскую публику молодой адъюнкт, если не брать во внимание его необычную внешность и энергичную манеру изложения материала?
Вероятно, прежде всего слушавших подкупала новизна предлагаемых Щаповым подходов к осмыслению прошлого России. С первых слов лектор заявил о неприятии господствующих взглядов на русскую историю, в основе которых лежали идеи государственности и централизации; в противовес этим принципам им предлагались начала народности и «областности»: «Русская история в самой основе своей есть, по преимуществу, история областных масс народа, история постепенного территориального устройства, разнообразной этнографической организации, взаимодействия, борьбы, соединения и разнообразного политического положения областей до централизации и после централизации. Только в русской истории вы встретите своеобразное, территориальное и этнографическое самообразование областей путем колонизации»[28].
Вместо истории государства на первый план была вынесена история народа, вместо идущих на смену друг другу столиц – области, стихийно образующиеся на всем пространстве Российской империи в процессе непрерывной колонизации. Собравшиеся на вступительную лекцию ощущали себя свидетелями рождавшейся буквально у них на глазах новой концепции русской истории, идущей вразрез с привычными представлениями. Не пройдет и года, как эта концепция без существенных изменений будет представлена на суд читателей петербургских «Отечественных записок», в щаповской статье «Великорусские области и Смутное время», а затем и в других его работах на страницах столичных периодических изданий. Сам их автор тоже окажется в Петербурге, хотя и не по собственной воле: он будет доставлен в Третье отделение в связи с участием в панихиде по погибшим во время Бездненского восстания крестьянам, а затем – до окончательного решения вопроса о его будущем – получит место в Министерстве внутренних дел.
В то же время в Петербурге обосновались Н. И. Костомаров и П. В. Павлов, преподававшие историю в университете и в училище правоведения соответственно, а также К. Н. Бестужев-Рюмин – сотрудник «Отечественных записок», регулярно помещавший там критические разборы новинок исторической литературы. Все они во многом совпадали с Щаповым в представлениях о том, какие задачи стоят перед исследователями русской истории и что нужно сделать для их достижения, – настолько, что это давало повод некоторым современникам видеть в их трудах, а также в работах некоторых московских ученых – таких, как Ф. И. Буслаев и Д. И. Иловайский – очертания наиболее перспективной концепции русского прошлого[29]. «Провинциализму» – следам обособленной прежде жизни различных частей Российской империи – предлагалось в этой концепции уделить первостепенное значение. Хотя в вопросе о происхождении и границах самих этих частей между учеными были расхождения, характер связи между территориями все они были склонны именовать федеративным. Это повышенное сочувственное внимание к федерализму сближало их между собой и ставило особняком в глазах современников.
Примечательно, что к сходным взглядам эти исследователи пришли независимо друг от друга: они не были знакомы между собой до того, как в течение короткого временного отрезка – с 1859 по 1860 год – их первые работы в защиту недооцененной предшественниками истории областей нашли дорогу к публике. Однако едва ли не более озадачивает другое совпадение: всего через несколько лет каждый из них – кто-то резко и безоглядно, как Щапов, кто-то постепенно, как Костомаров, – свернул с намеченного пути, открывавшего, казалось, широкий простор для изучения истории регионов. При желании можно отыскать в их позднейших трудах отголоски прежних увлечений, но ни сами бывшие федералисты, ни другие историки, которые тогда считали себя их последователями, не поставили бы свою подпись под приведенными выше словами Щапова из вступительной лекции в Казанском университете.
Чем же, помимо выяснения места этой федералистской концепции в ряду сменявших друг друга в историографии теорий и парадигм, интересен сегодня этот недолгий опыт осмысления прошлого России как истории составивших ее частей? Наверное, наивно было бы ожидать, что ключ к решению злободневных проблем региональной истории может быть обретен в процессе чтения исторических трудов полуторавековой давности, даже если у федералистов той поры и встречаются идеи, созвучные тем, которые вдохновляют современных исследователей. Вместе с тем обращение к этому давнему опыту представляется поучительным хотя бы в силу того, что ни до, ни после федералистов начала 1860‐х никто не пытался с такой решительностью противопоставить историю областей тому основополагающему взгляду, который готов отводить российским регионам лишь роль периферии, положение которой определяется в центре. Как же получилось, что «провинциализм» был вынесен на передний край исторического дискурса в России середины XIX века, и почему конструкции, где этот концепт служил краеугольным камнем, оказались столь недолговечны?
* * *Первое, что обращает на себя внимание при рассмотрении выступлений защитников «провинциализма» в русской истории, – это их хронологическое совпадение с эпохой широкомасштабных преобразований, развернувшихся в начале царствования Александра II. Щапов, Костомаров и их единомышленники в этом вопросе впервые обратились к публике со словами о важности местной исторической жизни вскоре после того, как в печати стало возможным обсуждение предстоящей крестьянской реформы. Известия о польском восстании 1863–1864 годов, воспринятые правительством как сигнал к сворачиванию преобразований, прозвучали приговором для федеративных проектов, историческим обоснованием которых были поглощены упомянутые исследователи. Поэтому едва ли продуктивно рассматривать заявку федералистов на создание собственных исторических теорий в отрыве от дискурса Великих реформ с характерным для него противопоставлением новых принципов отжившей свой век рутине.
Все эти авторы, хотя и в разной степени, не были чужды публицистике, которую, судя по всему, считали подходящим местом презентации результатов своих научных изысканий. Современного исследователя не должны вводить в заблуждение названия статей того же Щапова, так похожие на монографии: «Великорусские области и Смутное время», «Земские соборы в XVII столетии. Собор 1642 года» и др. Так, свое намерение познакомить читателей с прошлым областей в XVII–XVIII веках он объяснял актуальностью «провинциализма, областного начала в исторической и современной жизни русского народа», а при описании деятельности Земских соборов не чурался использовать явные анахронизмы, когда обнаруживал в ней проявление «права общественного земского народосоветия» и «областной челобитной гласности»[30]. Такие приемы оправдывались, в частности, тем, что публикации федералистов адресовались широкой публике «толстых» журналов. Стоит ли удивляться, что некоторые их работы даже в этот относительно благоприятный с точки зрения цензурных условий период не были допущены к публикации.
С другой стороны, насколько бы Щапов и Костомаров, Павлов и Бестужев-Рюмин ни были вовлечены в идейную борьбу, сопровождавшую отмену крепостного права и другие преобразования начала 1860‐х годов, содержание их научных работ невозможно редуцировать к отклику на публицистическую злобу дня. Как уже отмечалось в литературе, эти ученые сами были в первом ряду тех, кто формировал у публики запрос на федерализм и критику централизации[31]. Точно так же упрощением была бы и попытка объяснить прекращение поисков федеративного начала в российском прошлом исключительно давлением извне.
Пометы цензоров на сохранившейся в фонде цензурного ведомства корректуре щаповской статьи «Областные земские собрания и советы» свидетельствуют о том, что нарекания у них вызывала не интерпретация областной истории в федеративном ключе, а критика существующих порядков и рекомендации по их усовершенствованию, которые нередко приобретали характер прямой агитации в пользу «необходимости ближайшего, непосредственно-местного дознавания и представительства народных нужд»[32]. Не похоже, чтобы и министр внутренних дел П. А. Валуев, усматривавший в текстах своего подчиненного пугачевщину, разумел под ней обращение к местной истории до московской централизации или провинциальные сюжеты более поздних времен[33]. Иначе говоря, политический радикализм, присущий некоторым из выступлений федералистов, не было основания воспринимать как неизбежное следствие их исследовательской программы. Более того, погружение в прошедшую жизнь областей, к которому они так горячо призывали на рубеже 1850–60‐х годов, могло помочь им обрести своего рода убежище в тот момент, когда выяснилось, что о скором наступлении для России федеративного будущего нечего было и думать. Тем не менее этого погружения не произошло: по мере того как перспективы федерализма становились все более туманными, каждый из них в поисках новых тем для своих исследований все дальше отходил от решения исторической проблемы регионального прошлого.



