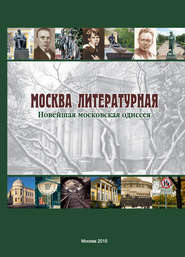 Полная версия
Полная версияМосква литературная. Новейшая московская одиссея
По воспоминаниям очевидцев, новоиспеченная супружеская чета представляла собой странную парочку: он – небольшого роста, но крепкий такой живчик с «наглинкой» в глазах как у Митьки Коршунова (Е.Г. Левицкая) – и она, высокая, статная, ширококостная, всегда в черном… Страстно хотелось молодцу показать жене город, похвастаться Москвой. И повел ее – не куда-нибудь, в Большой театр, на «Бориса Годунова» (благо и проживали рядом, да еще с соседями-гримерами Большого театра и почти жениными однофамильцами Гремиславскими). Конечно, культурное мероприятие произвело на Марию Петровну впечатление колоссальное… Только не совсем такое, на которое, верно, рассчитывал муж: у нее чуть не слезы брызнули от стыда за свой несоответственно бедный наряд. За непраздничное платье среди этой красоты. И сам Михаил Александрович одевался в те поры весьма колоритно: брюки, перешитые из материнской юбки, шапка – женина. Но, похоже, вида своего ничуть не стеснялся. (Зато потом, в тридцатые, когда ставили во все том же Большом оперы «Тихий Дон» (1936) и «Поднятая целина» (1937) (Шолохов убеждал режиссера использовать подлинные казачьи песни и казачьи костюмы, к тому времени прочно запрещенные) – усмехнувшись, припомнил ли тот зимний культпоход? Увидел ли собственной судьбы очередной круг – или не до философствований и обобщений пришлось тогда (принявший участие в ленинградской постановке «Тихого Дона» Дмитрий Шостакович публично обвиняем в формализме, а против самого Шолохова было выдвинуто фантастическое обвинение: будто бы в баяне одного из казаков, приглашенных через Шолохова для участия в постановке, был запрятан наган для террористического акта против Сталина).
Весной Шолохов увез жену на Дон, хотя от идеи поселиться в Москве полностью не отказался. Последуют новые набеги-приступы, и полюбившийся Георгиевский переулок, кстати, стороной обойден не будет. Одно лето Шолоховы проживут на подмосковной даче на Клязьме (вроде и не город, но и до донских степей далече: простору там Шолохову не хватало, степного горизонта). И где-то весной 1926 уедет Шолохов из Москвы с решительным намерением взяться за роман. Именно из Москвы (по штемпелю – из 9-го почтового отделения, обслуживающего центр Москвы и, в частности, Георгиевский переулок) отправлено им письмо Харлампию Ермакову (прототипу Григория Мелехова) с просьбой сообщить «дополнительные сведения относительно эпохи 1919 г.»…То есть где-то буквально рядышком вполне могла бы обрести достойное место мемориальная доска с примерным текстом: «Здесь, в Георгиевском переулке, в снесенном в 1938 г. доме 14/2 весной 1925 года был задуман будущим нобелевским лауреатом М.А. Шолоховым роман-эпопея “Тихий Дон”». Со словами «Тихий Дон», мы, наконец, через весь Георгиевский, выходим на Большую Дмитровку, дальше – вверх, к перекрестку с Камергерским и Кузнецким мостом, к родному для любого преподавательского сердца ориентиру – универмагу «Педкнига».
Мы рассуждаем, что про то, как гуляли Шолохов с приятелями все той же дружеской компанией, что на литсеминары хаживала, по Тверской (в баре, на месте которого теперь ресторан «Центральный» (Тверская, 10), отмечали первый сборник поэта Ивана Молчанова), как любили закатиться в Марьину рощу «цыган слушать» (оказывается, любил донец Шолохов цыганское пение); как отпраздновали выход первой книги «Тихого Дона» – приобрели в Камергерском корзину с продуктами и бутылками, затем, по дороге, в магазине «Кавказ» Шолохов соблазнился казацким нарядом: каракулевой кубанкой, буркой, бешметом с газырями, сапогами, рубахой – накупил и раздал друзьям кинжалы и отделанные серебром пояса… А направлялись они всем обществом туда же, куда, только с другой стороны, устремились и мы – к дому 7/5 по Большой Дмитровке, в котором во второй половине 20-х находилась квартира ближайшего московского друга Шолохова – Василия Кудашева.
Отсутствие каких-либо достоверных данных о подробностях знакомства Шолохова с Кудашевым звенит знакомыми филологическому сердцу россыпями неуловимых неопределенностей. – Вероятно, в рабфаковской компании (Кудашев-то на Рабфак имени Покровского поступил, поскольку, в отличии от Шолохова – сына купца, обладал заветным направлением на учебу от ЦК комсомола). Наверное, в начале 20-х. Оба что-то сочиняли, оба обивали пороги редакций. Видимо, чувствовали некую схожесть судеб. Даже одно, краткое, время работали вместе в «Журнале крестьянской молодежи». Рассказы там печатали. Но Шолохов засел за роман. Даже по этой походной хронологии получается, что первые два тома «Тихого Дона» написаны за два неполных года – от осени 1926 до зимы 1927–1928. А на остальные два тома Шолохов потратил в общей сложности 12 лет (в шесть раз дольше). Но это тоже – факт литературной истории, нуждающийся скорее в осмыслении, чем в опровержении.
Существует еще одна особенность творческой истории романа, указанную хронологию несколько корректирующая: протовариант начинался не Мелеховским куренем, но – Корниловским мятежом (второй книгой канонического текста, написанной еще аж осенью 1925 года). Думается, тогда повествование действительно представляло собой лишь художественное переложение судьбы Харлампия Ермакова (в рукописи – Абрама Ермакова). Ведь, как отмечал сам Шолохов, семейная драма Мелеховых – плод его фантазии. Но те «петербургские сцены» показались автору неубедительными и неинтересными. Вернулся Шолохов к замыслу через год. Как свидетельствуют черновики, долго и мучительно искал героев, их предысторию (ту самую, знаменитую, практически – народную легенду о чужачке-турчанке). Или, например, имена. Имя предшественницы Аксиньи – Анисья. Фонетически Анисья и Аксинья – похожи, только второе имя – точнее (а Анисья – менее выразительно, хотя и ближе, скажем, к имени матери писателя Анастасия). Не просто – иная, но еще и (по разысканиям В. Левченко) с тюркского ак су – белая вода (связи Аксиньи со стихией воды, эпизодам ужения на Дону, роли Дона в перипетиях любовных схождений Григория и Аксиньи посвящен не один десяток литературоведческих статей)…Именно в этом доме, в квартире с «нехорошим» номером 13 на дружеских читках романа имена Аксиньи, Натальи, Григория, Петра и Пантелея Прокофьевича Мелеховых впервые были произнесены.
О плагиате заговорили позднее, после выхода первых двух книг. Нашли очерк Голоушева с аналогичным названием. В 1929 году созывается Комиссия по вопросу о плагиате под руководством М.И. Ульяновой. Но не будь этих обвинений и этого разбирательства, не обладали бы мы теперь авторской рукописью «Тихого Дона». Действительно, в ответ на эту возню Шолохов привозит черновики в Москву, в уже знакомую квартиру наиболее близкого друга Кудашева – в качестве решающих «вещественных доказательств». Именно у Кудашева, в его семье, эти рукописи и. Все прочее, весь довоенный шолоховский архив погиб в огне бомбежки (хотя есть свидетельства, что и полный текст романа «Они сражались за Родину» также был предан огню – но уже по авторской воле, по гоголевско-булгаковской традиции).
Нашедший те самые «позабытые» черновые листы у наследников Кудашева Лев Колодный предполагает, что причина фактического предоставления рукописи в полную собственность вдове Кудашева кроются в переживании Шолоховым своей «вины» перед другом, ушедшим в 1941 году на фронт с «писательской ротой» и погибшим под Москвой. Помните: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны»… Не исключено, что речь шла и о какой-то конкретной помощи, которую Шолохов пообещал (или порывался), но так и не смог (не успел? не сложилось?) оказать Кудашеву. Недаром же Матильда Кудашева все эти годы хранила и рукопись, и гробовое молчание… Выходили книги антишолоховедов, а вдова друга – со своей стороны, и, что самое поразительное, Михаил Шолохов со своей – не проговаривались о существовании чудом уцелевшей папки. Так или иначе, но какое-то время (до переезда Кудашевых) автографы «Тихого Дона», нынче выкупленные у наследников и переданные в НМЛ И РАН, были прописаны по этому самому адресу: Б. Дмитровка, 7/5 (или – Камергерский пер, 5/7).
Мы – в самом устье Камергерского. Как не вспомнить, что именно здесь поманил юного Юрия Живаго оттаявший глазок со свечой (провозвестник творчества), здесь Лара с револьвером в муфте – в гостях у Патули Антипова, здесь – доктор Живаго в цветах, чающий воскресения… В Москве (не только в Швеции) Пастернак с Шолоховым – и те рядышком, невольными и неосознанными соседями. Ну и Л.Н. Толстой: в 1830—1840-е годы напротив в доме 4 по Камергерскому располагалась гостиница И. Шевалье, в которой Л. Толстой останавливался и каковую, по уже упоминаемому авторскому обыкновению, описал в повести «Казаки»… – …Но за «Тихим Доном» следуем мы дальше.
Тут – недалеко. Почти (соотносительно) вровень обманчиво легкой фортуне романа от дружеских читок до широких публикаций. В тот же – 1928 – год опубликованы «Октябрем» первые две книги. Выходит, пускай «апология казачества», пускай «не на пролетарскую тему», пускай «понравился белогвардейцам» (пускай «Миша, а ты все же контрик» /Генрих Ягода/; пускай «допустил в своем «Тихом Доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Сырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и др.» /И.В. Сталин/). И ожесточенные споры, и публичные диспуты о романе, еще не запрещенные и модные в те времена (например, во всем том же 1928 в Политехническом музее (Новая площадь, 3/4))…
Завороженные красотой текста и несомненным даром автора, редакции дают добро роману. Параллельно с журнальным вариантом, в июне 1928 «Московский рабочий» (Кузнецкий мост, 7) выпускает в свет первую книгу «Тихого Дона». Эти адреса знакомы Шолохову еще по публикациям «Донских рассказов»: совсем рядом (угол Неглинной и Кузнецкого моста, 9) в журнале «Комсомолия» в 1925 напечатан «Бахчевик». В редакции «Московского рабочего» состоялась знаковая для Шолохова встреча с его будущим верным другом и советчицей Евгенией Григорьевной Левицкой (членом КПСС с 1903 года, как укажет Шолохов, посвящая ей «Судьбу человека»). Она состояла в «Московском рабочем» литературным консультантом, и «Тихий Дон» приняли к тиражированию с ее благословения.
В письмах он – по-казачьи – величал ее маманюшкой, а себя – блудным сыном. Она по-родительски выговарила ему за отлынивание от написания романа, по его просьбе подыскивала и высылала ему на Дон периодику с оценками его произведений (как правило, критически-отрицательны-ми). Он ей, по-сыновьи оправдываясь, описывал Донской голодомор 1929 и 1933 годов (одно из шолоховских писем 1929 года Левицкая, верный ленинец, не побоялась передать самому Сталину – чтобы был осведомлен о положении на местах). Из их переписки о повседневной биографии Шолохова узнаешь больше, чем из иного исследования. Там и история создания третьей-четвертой книг «Тихого Дона», и, мягко говоря, непростая и не способствующая творчеству обстановка, сложившаяся вокруг Шолохова в 30-е, его тревоги послевоенного времени – соположенные с бытовыми подробностями, изложенные живым слогом (в отличие от строго-казенного языка шолоховских автобиографий). Дополняют сии эпистолы воспоминания самой Левицкой о знакомстве с Шолоховым, о поездке в Вешенскую. Поездка, надо думать, – своего рода «ответный визит» на многочисленные шолоховские посещения Левицкой (сначала в Пятом Доме Союзов по улице Грановского (Романов пер, 3), потом – на Кутузовском проспекте, 26)…
…Даже будучи в 1930 году Берлине вместе с Кудашевым и Артемом Веселым, Шолохов не преминул навестить семью дочери Левицкой, Маргариты и Ивана Клейменовых. Когда в 1938 Клейменова арестовали, Шолохов ходил хлопотать за него к Берии на Лубянку, не ведая, что хлопочет за покойника. Ходатайствовал и за арестованную следом за мужем Маргариту Клейменову. Ее дело пересмотрели, приговор отменили и выпустили перед самой войной…Вот ведь выбрал, кому посвятить рассказ о военнопленном Андрее Соколове – матери и теще репрессированных…Под конец жизни, чувствуя себя неуютно с близкими, она, в свою очередь, так трогательно ему жаловалась и сама себя одергивала: «Ведь Вы “писатель” – сами все знаете». И, пожалуй, этими кавычками даже чуточку подшучивала над адресатом.
…С Кузнецкого моста тихо льющийся «Тихий Дон» выплеснулся в читающую Россию.
Интермедия на тему «Художник и власть»Метафорически говоря, они, вождь и писатель (по формулировке архивиста Ю. Мурина, опубликовавшего переписку Шолохова со Сталиным), постепенно и неуклонно двигались ко встрече друг с другом. Шолохов никогда не писал произведений на сталинскую тему (ни до XX партсъезда, ни после). В «Они сражались за родину» пытался остаться объективным, «сторонним живописцем эпохи». И всё-таки были они не просто лично знакомы, они общались с большей или меньшей регулярностью. Познакомил их Горький в 1931 году (горьковская дача в Красково – еще один из несомненных шолоховских адресов; как, впрочем, и дача самого Сталина). Странно было бы предположить, что это знакомство – из разряда случайных или – что его инициатором был молодой Шолохов. Известно, что тогда Сталин интересовался продолжением «Тихого Дона» и спрашивал, когда же Григорий Мелехов станет коммунистом. А Шолохов в ответ – отшучивался.
Дескать, «я очень уговаривал Григория, но он никак не хочет вступать в партию». К тому же как раз в следующем, 1932 году Шолохова принимают в партию, издают «Поднятую целину». И все становится поводом для легенд. Казалось бы, даже веди Горький или его референты стенограмму той знаменательной встречи, все равно никто бы не поверил, что Сталин не требовал написать роман о коллективизации; не обещал – в обмен на прославление политики КП – продолжать печатать роман об отщепенце Мелехова (цитировавшиеся выше сталинские слова о «грубейших ошибках», допущенных автором в «Тихом Доне» уже написаны, только пока не опубликованы).
Что способно поколебать этот миф? То, что в письме Ф. Кону следом за указанием на просчеты, Сталин неожиданно продолжал: «Но разве из этого следует, что «Тихий Дон» – никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи?» Но ведь те, кого вождь и учитель счел негодными, отправились (прямым или же кружным) путем во сыру землю, а Шолохов – уцелел, даже Сталинскую премию получил (причем по личному сталинскому же распоряжению). Да, «Поднятую целину» не рвались публиковать. Насильно поменяли название (в письме к Левицкой Шолохов сам называет его ужасным) – но согласился. Сталин одолел произведение за две ночи и с усмешкой резюмировал: «Что там у нас за путаники сидят? Мы не побоялись кулаков раскулачивать – чего же теперь бояться писать об этом! Роман надо печатать». Или шолоховское освещение коллективизации Сталина устраивало?
…В одном из писем к вождю, посвященном кошмарам коллективизации, Шолохов умоляет прислать на Дон «доподлинных коммунистов». Шолоховские послания Сталину за 1933 год – это самые мрачные фантасмагории Платонова, сбывшиеся въяве: о выселении на мороз целых семейств, заподозренных в сокрытии хлеба, о пытках и зверствах (Шолохов с методичностью хроникера фиксирует различные способы и средства, примененные к несчастным активистами из агитколон). Не удивительно, что взбешенный адресат комментирует: «Ваши письма не беллетристика, а сплошная политика»… Но, остывши, снисходит до ответного послания, в котором во всем обвиняет… самих крестьян (ваших уважаемых хлеборобов), саботирующих хлебозаготовки. Красной Армии и рабочим хлеб нужнее.
Каким неубедительным аргументом выглядит в этих письмах упоминаемый Шолоховым замысел будущего второго тома колхозного романа… Его обещания («Как работали…, борясь за укрепление колхозного строя, – я постараюсь, в мере моих сил и способностей – отобразить во второй книге»); его угрозы («решил, что лучше написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу «Поднятой целины»). Как будто бы писатель торгуется с вождем?
В 1937 Шолохов с трудом вызволяет из-под ареста своих ближайших соратников. Их торжественно возвращают ему в Кремле, в присутствии Сталина и с его одобрения. Под впечатлением от рассказов последних Шолохов снова пишет Вождю, критикует, высказывает сомнения в целесообразности следствия, когда подследственные бесконтрольно передаются в руки следователей. Похоже, он потрясен услышанным и рассчитывает потрясти своею правдой читателя (пусть одного – но самого важного)…Байка этого периода: Пришел Шолохов просить у Сталина за очередных арестованных. Сталин, недовольно: «Что это вы тут все ходите и ходите, просите и просите? Вот ваш черед настанет – за вас-то кто придет и попросит, а? – Вы сами, товарищ Сталин. – Вы действительно так думаете? Смотрите – не ошибитесь». Знакомые не скрывают от Шолохова, как – выбивали показания на него. («Шолохов у нас, Шолохов сидит, Шолохов сдает»),
В 1938 году Шолохов, предупрежденный казаками, бежит от НКВД-истов из Вешек прямиком в Москву, добивается приема у Сталина. Тот разыгрывает перед ним сцену очной ставки с обвинителями и, пожурив за недоверие к властям (кого не надо – у нас не сажают), милостиво (показательно!) отпускает. Шолохов, говорят, в финале пересказывает вождю анекдот с пуантом «вот и доказывай потом, что ты не верблюд». Кстати, по материалам шолоховских писем даже проводилось расследование. Правда, признали, лишь отдельные перегибы (еще троим дела пересмотрели, выпустили).
В конце 1939-го (после всего этого), ко дню рождения Шолохов отправляет вождю поздравление-обещание распить некогда подаренный коньяк за его, вождя, здоровье и в честь скорого завершения работы над «Тихим Доном». В 1940-м Шолохов лично привозит окончание романа в Москву – Сталину на читку и одобрение. Можно лишь предполагать, чем руководствовался Сталин, поддерживая публикацию последнего тома «Тихого Дона»…Снова не беллетристика, а политика?
В 1942 году, пригласив Шолохова к себе в Кремль и высказывая озабоченность состоянием его здоровья после контузии, Сталин прямо-таки намекал на необходимость создать роман о текущей войне. Желательно, с фигурами военачальников. Причем не трудно догадаться, кого конкретно из полководцев полагал Сталин нуждающимся в увековечивании. Грамотно рассудил: три шолоховских романа – три великие эпохи в истории страны (революция, коллективизация и Великая Отечественная). Сталин помнил, что не дождался от Шолохова славословий ни в «Тихом Доне», ни, по большому счету, в «Поднятой целине». – …Роман о войне Шолохов в итоге так и не дописал, оставив вместо окончательного текста множество вопросов и домыслов. А свой гениальный послевоенный рассказ «Судьба человека» опубликовал вообще после сталинской смерти.
Вождь и писатель перестали общаться после войны, но продолжали иметь друг дружа в виду: Сталин опубликовал давнее письмо об «ошибках» в «Тихом Доне», Шолохов невинно попросил указать, где и какие именно, но исправлять не поторопился. Кажется, лучше всего суть взаимоотношений писателя и правителя передает следующая почти что народная притча: Задумали при Сталине поставить памятник Шолохову. Как никак, любимец вождя. Объявили конкурс. Третье место занял проект, изображающий Михаила Шолохова с томом сочинений Сталина. На втором месте оказался план монумента: Сталин, читающий одно из произведений Шолохова. Первое место присудили макету, изображающему Сталина без посторонних предметов, отвлекающих внимание народонаселения.
Магически-завораживающую силу числа «три» никто не отменял, и мы вступили на Тверской бульвар. От памятника Пушкину – вниз, к Литинституту, собираясь на сей раз воссоздать литературные маршруты писателя. Мы остановились у флигеля дома 25 по Тверскому бульвару(с 1933 года – Вечерний рабочий литературный университет (затем Литературный институт имени А.М. Горького)) напротив мемориальной доски, посвященной проживавшему здесь Андрею Платоновичу Платонову. Их общение с Михаилом Александровичем – поразительный пример сходства несходного. Когда только успели познакомиться и подружиться? Когда только начиналось их хождение в литературу и дистанции огромного размера между официально признанным гением и гениальным же отщепенцем еще не существовало?…Почти земляки, один – воронежец, второй – донец, ищущие истины для себя, своих героев, своей страны (по типу своему что Гришка Мелехов, что Саша Дванов – истые правдоискатели, нищие духом странники до имя высшей справедливости). Обозначу (пунктирно) пункты встреч: «Тихий Дон» и «Чевенгур» (время создания последнего равно времени написания двух начальных томов «Тихого Дона», истоки революции, революционные перипетии, построение нового общества, споры о земле и хлебе – вот краткий спектр тем и проблем, актуальных для обоих романов; про возможности сопоставления сюжетов, героев, метафор и символов уже и не говорю, их – тьма, невспаханное поле); «Котлован» и «Поднятая целина» (интуитивно исследователи уже пытались нащупать переклички между этими произведениями, но высота пока не взята, хотя и заманчива); «Возвращение» и «Судьба человека» (ну как тут не воскликнуть, что Алексей Иванов и Андрей Соколов – настоящие названные братья?). Но это все – чистая литература, а что же биография?
Не удивительно, что никаких документальных подтверждений товарищеских взаимоотношений Платонова и Шолохова теперь и не отыскать (кроме обращений Марии Платоновой к Шолохову). Можно предположить, что еще в конце 20-х их познакомили «перевальцы» Кудашов и Тришин, бывшие одновременно друзьями Шолохова и – платоновскими земляками, знакомцами, почти «учениками» (современное литературоведение называет этих авторов «писателями платоновского круга»). А.А. Газизова, ссылаясь на рассказы вдовы писателя Марии Платоновой, убеждает нас в верности адреса: именно сюда, на Тверской приходил в гости к опальному Платонову Михаил Александрович, здесь они, запираясь один на один и, по неизменной за века традиции, не отказывая себе в водке, нескончаемо говорили, обсуждали, спорили… А потом, в страшном 1938-м, когда был арестован и осужден пятнадцатилетний сын Платонова (по печально знаменитой 58-й статье (58-1а – измена родине, 58–11 контрреволюционная революционная деятельность, 17-58-8(соучастие в теракте)), помогал или не помогал Шолохов освободить Платона Платонова? Предания очевидцев (как и весь шолоховский характер, вся его заступническая деятельность) свидетельствуют – да, безусловно. – Но современные ученые скептики сомневаются, ссылаясь на филерские отчеты стукача, введенного в окружение обезумевшего от горя Платонова…Думается, нам, из нашего относительно благополучного сегодня, как-то слишком уж легко и просто расставлять акценты и раздавать оценки…Хорошо, но как тогда быть с шолоховским участием в издании платоновских сказок? Его-то невозможно оспорить и отнести к случайностям. (После публикации в 1946 году в «Новом мире» платоновского шедевра «Семья Иванова» («Возвращение»), сочтенного клеветой на героев войны и тружениц тыла, положение Платонова осложняется донельзя. Как указывает Н.В. Корниенко, детские издания тех лет – единственная ниточка, связывающая Платонова с литературной жизнью. В 1947 году выходят «Башкирские народные сказки», в 1949 году «Волшебное кольцо» – обе книги под редакцией М. А. Шолохова. Надо так понимать, что участие популярного автора и лауреата Сталинской премии было необходимым условием издания, дающего опальному Платонову хоть какие-то средства к существованию и, как сказать, официально подтверждающего высокий художественный уровень платоновских сказок).
Мы потихонечку двинулись дальше, вниз по бульвару. Наш следующий адрес – чуть-чуть направо на перекрестке, Малая Никитская 6/2.…Из всех домов, так или иначе связанных с московской литературной жизнью второй трети XX века, выбираю именно этот особняк в стиле модерн по нескольким причинам. Причина прагматическая: очень уж удобно расположен, как раз перевалочным пунктом на нашем сегодняшнем маршруте. Причина историко-литературная: в этом здании на специально организованном писательском приеме 26 октября 1932 года было принято решение о создании Союза Писателей СССР. Причина литературно-биографическая – в 1931–1936 годах здесь проживал Максим Горький (с 1965 года здесь функционирует мемориальный музей-квартира писателя).
Для полноты обзора мы переходим на другую сторону улицы, запрокидываем головы, разглядывая модернистски причудливые линии и краски фасада, тогда как за спиной у нас – Церковь «Большое Вознесение» по Большой Никитской 36, в недостроенном приделе которой, по одной из версий, венчался с Н.Н. Гончаровой А.С. Пушкин… На встрече руководителей государства с писателями, наивно радовавшимися упразднению РАПП и надеявшимися на послабление режима, присутствовали: от власти – Молотов, Ворошилов, Каганович, и, конечно, сам Сталин (что придавало собранию особый статус); от творческой элиты – Фадеев, Катаев, Леонов, Маршак, Кольцов, Сейфуллина, Багрицкий, Шолохов. Краткий конспект этого собрания найден Валентином Осиповым в записях Корнелия Зелинского. Россыпь примечательных деталей и подробностей. Распространялся Сталин и о, как бы мы сейчас прокомментировали, «своем видении образа Григория Мелехова», утверждая, что последнего «нельзя считать типичным представителем крестьянства». Но, как будто компенсируя шпильку, Сталин поднимает тост за Михаила Шолохова, задевая тем самым чувства прочих участников…Или вот такая многозначная подробность: вождь предлагает любимцу-Шолохову спеть одну из казачьих песен. Тот отнекивается, ему якобы на выручку приходит Фадеев, – и в итоге Шолохов обречен нехотя подпевать… Говорят, во время сего концерта автор «Тихого Дона» нашел возможность по-английски неприметно откланяться.



