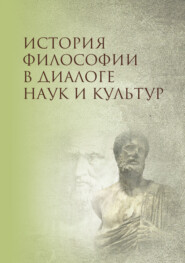
Полная версия:
История философии в диалоге наук и культур
При этом жанр интеллектуальной истории Рорти называет почвой современной истории философии. Интеллектуальная история помогает сохранить почтение к фигурам прошлого и одновременно выводит диалог с ними в широкую перспективу гуманитарных наук, спасая историю философии от окостенения. «Нам, – настаивает Рорти, – нужна другая история мысли – такая, которая позволила бы сделать наш разговор с философами-предшественниками более увлекательным, насыщенным и полновесным»[21]. Именно интеллектуальная история мыслится как поле, в котором история философии станет свободной для поиска новых ориентиров.
Подводя итоги, уместно оживить тот образ, который практически каждый человек связывает со словами «исследователь» или «ученый». Они – те, кто исследует: это ботаник с лупой или биолог над микроскопом, врач за рентген-аппаратом, физик в лаборатории за приборной доской, химик, склонившийся над пробиркой. Этот устоявшийся обыденный образ метко фиксирует три составляющих науки: предмет (что), метод (как) и исследователя (как). В гуманитарных науках в каждой точке мы обнаружим проблемность: что исследуют гуманитарную науки? (какую видимую или невидимую реальность), какими методами они пользуются? (что значит «осмыслять», «анализировать» и проч.) и кто является гарантом научности? что делает исследователь? как он работает? Эти три точки – предмет, метод, актор – точки проблематизации гуманитарных наук в целом, и неудивительно, что кризисы исторического и историко-философского знания проходят именно через них.
История философии зарождается в попытке обособить то «что», которое она схватывает от истории мысли и философии, определяя свой предмет как историю философской мысли, прогрессивные попытки приблизиться к истине. По отношению к философии она мыслит себя как пропедевтическое введение, обращаясь к которому в опыте саморазличения философия успешнее и точнее определяет свое актуальное настоящее.
Уточняя предмет и обособляя его как от философии, так и от истории мысли, на волне методологических дискуссий в гуманитарных науках, в процессе дифференциации гуманитарного знания, а также одновременно со становлением истории как самостоятельной науки с собственной методологией, история философии проблематизирует свое «как» и ставит вопрос специфического историко-философского метода. Вслед за историками она развивает метод понимающей интерпретации, могущей дать как доступ к субъективному мысленному опыту прошлого, так и возможность объективной его фиксации.
Невозможность решения проблемы соотношения объективного и субъективного в историко-философской практике приводит к проблематизации перспективы актора: того, кто ведет исследования, получает доступ к прошлому и становится его проводником в настоящем. Ситуация постмодерна в историческом знании углубляет кризис интерпретативных схем: проблематизируются не только критерии достоверности интерпретации и возможность ее объективности, но и идентичность исследователя, вновь обращает его к собственному предмету, заставляет его также задуматься о том, что же он все-таки исследует и о чем говорит: прошлое или настоящее. Таким образом, замыкается круг самосознания, давая истории философии как научной отрасли неугасающий стимул для проблематизации собственной методологии и источник ее саморазвития.
§ 2. Литературоведение и проблема точки зрения
Науки о языке и литературе всегда очень тесно соприкасались с философией как наукой об общих основаниях мироустройства: сознание, язык, текст всегда были для них общим проблемным полем. Однако одно из пространств потенциального диалога до сих пор обходят вниманием как филологи, так и философы, хотя оно имеет важное значение для развития историко-философских и философско-исторических исследований в XX веке, а также может многое прояснить в современных спо3рах о сознании. Это проблематизация перспективы, которую нам принесли структурные исследования текста.
Надо признать, что при всей актуальности и, в определенной мере, очевидности проблемы перспективы в истории философии она до сих пор не становилась предметом специального исследования. К ней практически вплотную подходят литературоведческие работы о точке зрения[22], труды по философии истории и историографии последних лет[23], однако они не преодолевают дисциплинарную границу и не рассматривают вопроса перспективы в других гуманитарных науках. В рамках самой истории философии чрезвычайно близко приближаются к этому вопросу труды о жанровом своеобразии истории философии, он затрагивается в работах по французской традиции философии истории философии, в том числе по философской историографии постструктурализма.
Прояснение перспективы, или точки зрения, в историко-философской работе – проблемная область, которая может быть разработана только в диалоге трех областей: философии (истории философии), литературоведения (нарратологии) и истории (философии истории, историографии, интеллектуальной истории). Что может дать нам перспективистская проблематизация в истории философии, если мы последуем путем литературоведения? Какой проблемный диапазон нам станет доступен? Что показывает преемственность подхода по отношению к тексту, событийному прошлому, философской мысли, как работают с такой перспективой историки и историки философии? Все эти вопросы и составляют проблемное поле настоящей статьи.
Возможность проблематизации перспективы принесли структурные исследования. Немец О. Людвиг, англичане Г. Миллер и П. Лаббок, француз Ж. Женетт, австриец Ф. Штанцель, а также наш соотечественник Б. Успенский (и их последователи), присмотревшись к литературным памятникам прошлого и настоящего, заговорили об изменении возможностей текста в зависимости от того, какая повествовательная форма лежит в его основании. Борис Успенский в своей классической работе 1970 г. «Поэтика композиции» ставит эту проблему максимально широко. «Она представляется ц е н т р а л ь н о й (разрядка автора – О.В.) проблемой композиции произведения искусства – объединяющей самые различные виды искусства. – подчеркивает он в начале книги. – Без преувеличения можно сказать, что проблема точки зрения имеет отношение ко всем видам искусства, непосредственно связанным с семантикой (то есть репрезентацией того или иного фрагмента действительности, выступающей в качестве обозначаемого)…»[24] [Успенский, 1995, с. 9] Все теоретики трактуют вопрос перспективы в собственной терминологии, и каждая из предложенных систем может быть использована при концептуализации методологических проблем истории философии. Особенно продуктивной оказывается здесь терминология «точки зрения» и «фокализации».
Проблема точки зрения в литературе разрабатывается в англо-американской традиции. О ней заговорил еще в 1884 г. Генри Джеймс: в работе «Искусство прозы» он акцентировал тот факт, что повествование может вестись с разных позиций и назвал эту перспективу повествования «точка зрения». Точка зрения впоследствии стала считаться композиционнным основанием творчества Джеймса. «Первым этапом создания романа для Джеймса всегда было определение точки зрения. Кто должен рассказывать историю или наблюдать за ней? С какой стороны подойти к предмету? Как воплотить свои “ценности”? За какими сторонами происходящего нужно следить? Кто должен быть “центром?”»[25], – подчеркивает Леон Эдель. И эти вопросы станут наиболее дискутируемыми вопросами в перспективистских дискуссиях литературоведения.
В 1921 г. Перси Лаббок развил терминологию Джеймса и акцентировал тот факт, что рассказываемая в романе история может быть преподнесена посредством различных форм повествования, и, собственно, именно в этих формах состоит специфика художественного произведения[26]. Точка зрения романиста для него и есть тот вопрос, который может проблематизировать читатель. «Вся сложность проблемы метода в искусстве прозы (the craft of fiction) связана с проблемой точки зрения – вопросом о том, какую позицию рассказчик занимает по отношению к истории»[27], – подчеркивает Лаббок. Он выделяет два типа повествования в романе, которые связаны с разными перспективами: 1) картинная (или панорамная), где история представляется в виде рассказа о событиях и преобладает монолог рассказчика; 2) драматическая (сценическая) перспектива, которая строится не на рассказе о событиях, а на их показе, причем в него оказываются вовлечены разные герои и разные позиции.
Лаббок не проясняет различий между персонажем-рассказчиком и автором и не проблематизирует их отношений. Эта двойственность, заметная еще у Джеймса, отмечает всю англо-американскую традицию литературоведения и нарратологии. Х.А. Алварес Аморос пишет об этом противоречии: «Отличительной чертой англо-американской концепции точки зрения является ее многосложность. С того момента, как Лаббок определил ее как “позицию рассказчика (narrator) по отношению к истории”, он связал идею точки зрения как таковой с идеей точки зрения вымышленного рассказчика или агента повествования (narrative agent), и получившаяся в результате амальгама повлекла неточные критические описания и, в особенности, множество противоречивых классификаций точек зрения или повествовательного голоса (narrative voice), которые основывались на множестве разнообразных критериев»[28]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2002. С. 111.
2
Models of the History of Philosophy. Vol. II: From the Cartesian Age to Brucker. Eds. G. Piaia, G. Santinello. Dordrecht Heidelberg London New York: Springer, 2011. Р. 409, 427.
3
Бруккер Я. Критическая история философии, служащая руководством к прямому познанию ученой истории, изданная в пользу обучающагося российскаго юношества. Пер. М.Г. Гаврилова. М.: Унив. Тип. У Н. Новикова, 1788.
4
Longo M. Geistige Anregungen und Quellen der Bruckerschen Historiographie / 3Jacob Brucker (1696–1770): Philosoph und Historiker der europäischen Aufklärung. Hrsg. W.Schmidt-Biggemann, T3h. Stammen. Berlin: Academie Verlag, 1998. P. 159‒186.
5
Савельева И.М., Полетаев А.В. «Возведение истории в ранг науки»: К юбилею Иоганна Густава Дройзена // Диалог со временем. 2008. № 25 (1). С. 42.
6
Васильев Ю.А. Историка Иоганна Густава Дройзена как методология истории // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 2. С. 219.
7
Дройзен И.Г. Историка. Лекции об энциклопедии и методологии истории. Пер. Г.И. Федоровой. СПб: Владимир Даль, 2004. С. 234.
8
Там ж. С. 235.
9
Савельева И.М., Полетаев А.В. Становление исторического метода: Ранке, Маркс, Дройзен // Диалог со временем. 2007. Вып. 18. С. 94.
10
Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Дильтея. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. С. 83.
11
Колингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. Пер. Ю.А. Асеева. М.: Наука, 1980. С. 166.
12
Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. Пер. Л.А. Торчинского. М.: Научный мир, 2003. С. 109.
13
Черняев А.В. История философии и новая историческая наука / История философии: вызовы XXI века. Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М.: Канон+, Реабилитация, 2014. С. 159.
14
Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX‒XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. С. 122.
15
Анкерсмит Ф. Нарративная логика: семантический анализ языка историков. М., 2003. 3
16
Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 110–127.
17
Фуко М. Живопись Мане. Пер. А.В. Дьякова. СПб.: Владимир Даль, 2011. 229 с.
18
Колингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. Пер. Ю.А. Асеева. М.: Наука, 1980.
19
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. Пер. И. Сергеевой. М.: Academia-Центр, Медиум, 1995. С. 252.
20
Делёз Ж. Переговоры, 1972‒1990. Пер. В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2004. С. 177.
21
Рорти Р. Историография философии: четыре жанра. Пер. И. Джохадзе. М.: Канон +, Реабилитация, 2017. С. 108.
22
Huḧ n P., Schmid W., Schon̈ ert J. Point of view, perspective, and focalization: modeling mediation in narrative. New York: Walter de Gruyter, 2009.
23
Tucker A. A companion to the philosophy of history and historiography. Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.
24
Успенский Б. Поэтика композиции // Семиотика искусства. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 9.
25
Edel L. The Prefaces of Henry James. Paris: Jouve, 1931. P. 71.
26
Lubbock P. The Craft of Fiction. London: Johnathan Cape, 1921. P. 20, 23.
27
Ibid. P. 251.
28
Álvarez Amorós J.A. Henry James, Percy Lubbock, and beyond: A critique of the Anglo‐American conception of narrative point of view // Studia Neophilologica. 1994. Vol. 66. № 1. P. 47.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



