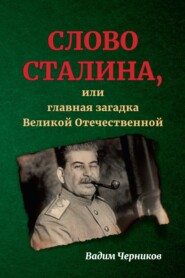скачать книгу бесплатно
Теперь пришла пора рассмотреть время подписания Пакта, которое так тщательно выбирал Сталин. Он не забывал про Японию, ведь с весны 1939 года развернулся полномасштабный военный конфликт у реки Халхин-Гол, который японцы назвали «локальной войной». Сталин внимательно следил за военными действиями на востоке, где впервые блеснул полководческими талантами Жуков. Получив данные о том, что Красная армия переломила ситуацию и победа в этой войне близка, Сталин немедленно активизировал переговоры с Гитлером. И абсолютно не случайно, что именно в день подписания Пакта войскам Красной армии удалось окончательно разгромить главную группировку японской армии. Тут как раз – всё по сталинскому плану! – в Страну Восходящего Солнца и подоспела новость о том, что Германия и СССР заключили Пакт о ненападении. При этом Гитлер даже не счёл нужным поставить японское правительство в известность. Этого в Японии никак не ожидали. Пакт вызвал в стране неприкрытое возмущение действиями Германии, а следом начался пересмотр всей военной стратегии. В итоге военное поражение и Пакт привели Японию к правительственному кризису: в отставку ушло правительство сторонника совместной немецко-японской войны против СССР Хиранумы. Новое же правительство возглавил сторонник войны на южнотихоокеанском направлении Абэ. Четвёртого сентября 1939 года оскорблённая Япония резко заявила, что ни за что не вмешается в войну в Европе, а через девять дней заключила с СССР договор о перемирии. Итак, выполняя свой план, Сталин навязал Гитлеру Пакт, да ещё и рассорил его с Японией. Гитлер пошёл и на это, «кинув» своих японских союзников. Почему? Гитлеру необходимо было убрать на время «восточную угрозу» в виде Красной армии и заняться Европой. К её неудовольствию. Итак, подписанием Пакта Сталин «развязывает руки» Гитлеру и, несомненно, толкает Германию на Запад.
Вторая мировая стала неизбежной. Однако дело в том, что именно Пакт не только сделал неизбежной мировую войну, но и войну, которую вскоре назовут Великой Отечественной. С ПОДПИСАНИЕМ ПАКТА О НЕНАПАДЕНИИ СТАЛА НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ ВОЙНА ГЕРМАНИИ И СССР. Мало того, если до Пакта она «маячила на горизонте», то теперь она стала НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ БЛИЗКОЙ. На первый взгляд Пакт как раз «говорит» об обратном, то есть СССР оттягивает, откладывает начало войны и получает те самые почти два года для более тщательной подготовки страны к войне. Однако это мифы. На самом же деле две державы после Пакта и взаимного присоединения новых территорий буквально громадными шагами начали движение навстречу с обязательной и скорой войной в итоге. Они получают для начала общую границу а следовательно, прямое столкновение политических и территориальных притязаний, решить которые никаким иным способом, кроме военного столкновения не представлялось возможным уже В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ. Так, чуть больше через год Финляндия, которую Гитлер Пактом вынужден пока отдать на растерзание Сталину, станет «камнем преткновения» на переговорах Молотова и Гитлера в Берлине. К ним прибавятся сталинские требования по Балтике, Румынии, Болгарии и Черноморским проливам, которые стали возможными ввиду присоединения румынской территории и прибалтийских стран по Пакту. Кроме того, успешные компании Гитлера в Европе, ставшие возможными именно благодаря Пакту, попросту «убрали» с военной карты возможных союзников СССР или просто тех, кто мог оказать сопротивление Гитлеру, и в итоге столкнули лицом к лицу лишь две реальных военных силы – Красную армию и вермахт. Мюнхенский договор-сговор логично привёл к тому, что менее чем через год разразилась мировая война. Второй, тоже якобы мирный Пакт так же логично создал предпосылки уже для неизбежной и близкой Великой Отечественной.
Как вывод: Пакт в итоге стал провалом Сталина на европейском внешнеполитическом фронте. Гитлер, которому договор буквально развязал руки, быстро разгромил сильнейшую армию континента, а также союзников Франции и стал хозяином Центральной Европы. Перед войной с СССР Гитлер серьёзно увеличил мощь армии и военной экономики, не говоря уже о том, что попросту ограбил завоёванные страны, что также дало ему большое преимущество в 1941 году. Таким образом, инициатива Сталина по подписанию Пакта принесла громадную пользу в первую очередь Германии и предопределила те страшные испытания, которые выпали на долю СССР в грядущей войне.
Девятая глава
Четвёртого сентября – даже чернила Молотова и Риббентропа не успели просохнуть на гербовой бумаге – Германия напала на Польшу. Мюнхенский договор перестал действовать, Германии немедленно объявили войну Англия и Франция, и Вторая мировая официально началась. Впрочем, всё ограничилось лишь объявлением войны. Союзники всё так же рассчитывали, что вслед за Польшей настанет очередь СССР. Никто Польше, как и ранее Чехословакии, на помощь не пришёл. Что полностью лишает современных западных историков права даже заикаться по поводу того, кто не только подготовил ещё в 1917–1918 годах Вторую мировую, кто ей потворствовал в 1930-х и, наконец, кто дал ей в итоге разгореться. Сталин же немедленно начал реализовывать условия «секретных приложений». В итоге СССР принял участие в разделе Польши, ввел туда войска и отодвинул границу на западном направлении, а позже присоединил Прибалтику в виде республик с соответствующими правительствами. 28 сентября пала Варшава, а между СССР и Германией в тот же день был подписан новый Договор, который назывался громко: «О дружбе и границе между СССР и Германией». Инициатива опять исходила от советской стороны, и снова Сталин настоял на очередных протоколах-приложениях. Конечно же и Договор о дружбе подписан Молотовым. Сталин же, как Секретарь партии, снова в сторонке. Он не подписывал ни Договор, ни его «секретные части», не выступал с заявлениями и даже с разъяснениями, а вот Молотов «подставляется» по полной программе. Случайно ли это? Да полноте. Всё по плану Сталина. А пока что прочтём Договор со всеми приложениями-протоколами.
Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией: Правительство СССР и Германское правительство после распада бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они пришли к соглашению в следующем:
I. Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качестве границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего Польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту и более подробно будет описана в дополнительном протоколе.
II. Обе стороны признают установленную в статье I границу обоюдных государственных интересов окончательной и устранят всякое вмешательство третьих держав в это решение.
III. Необходимое государственное переустройство на территории западнее указанной в статье I линии производит Германское Правительство, на территории восточнее этой линии – Правительство СССР.
IV. Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений между своими народами.
V. Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами должен произойти возможно скорее в Берлине. Договор вступает в силу с момента его подписания.
Секретный дополнительный протокол. Нижеподписавшиеся Уполномоченные констатируют согласие Германского Правительства и Правительства СССР в следующем: Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный протокол изменяется в п. 1 таким образом, что территория литовского государства включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны Люблинское и части Варшавского воеводства включаются в сферу интересов Германии (см. карту к подписанному сегодня Договору о дружбе и границе между СССР и Германией). Как только Правительство СССР предпримет на литовской территории особые меры для охраны своих интересов, то с целью естественного и простого проведения границы настоящая германо-литовская граница исправляется так, что литовская территория, которая лежит к юго-западу от линии, указанной на карте, отходит к Германии. Далее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные соглашения между Германией и Литвой не должны быть нарушены вышеуказанными мероприятиями Советского Союза.
Секретный дополнительный протокол. Нижеподписавшиеся уполномоченные при заключении советско-германского договора о границе и дружбе констатировали свое согласие в следующем: Обе стороны не допустят на своих территориях никакой польской агитации, которая действует на территорию другой страны. Они ликвидируют зародыши подобной агитации на своих территориях и будут информировать друг друга о целесообразных для этого мероприятиях.
Доверительный протокол. Правительство СССР не будет препятствовать немецким гражданам и другим лицам германского происхождения, проживающим в сферах его интересов, если они будут иметь желание переселиться в Германию или в сферы германских интересов. Оно согласно, что это переселение будет проводиться уполномоченными Германского Правительства в согласии с компетентными местными властями и что при этом не будут затронуты имущественные права переселенцев. Соответствующие обязательства принимает на себя Германское Правительство относительно лиц украинского или белорусского происхождения, проживающих в сферах его интересов. Москва, 28 сентября 1939 года. Молотов – Риббентроп.
Доживший до 1986 года Молотов до конца своей долгой, почти вековой, жизни будет лгать и отвергать само наличие секретных или дополнительных протоколов как к Пакту, так и к этому Договору. Впрочем, и сам Сталин «забыл» о нём сразу же после 22 июня. На самом же деле этот «договор-невидимка» широко освещался на страницах советских газет в 1939 году. Молотов – а кто же ещё? – и Риббентроп в тот же день даже выступили с совместным заявлением по итогам подписания. Вот его текст: «После того как Германское Правительство и Правительство СССР подписанным сегодня договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие в результате распада Польского государства, и тем самым создали прочный фундамент для длительного мира в Восточной Европе, они в обоюдном согласии выражают мнение, что ликвидация настоящей войны между Германией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой стороны, отвечала бы интересам всех народов. Поэтому оба Правительства направят свои общие усилия в случае нужды в согласии с другими дружественными державами, чтобы возможно скорее достигнуть этой цели. Если, однако, эти усилия обоих Правительств останутся безуспешными, то таким образом будет установлен факт, что Англия и Франции несут ответственность за продолжение войны, причём в случае продолжения войны Правительства Германии и СССР будут консультироваться другу с другом о необходимых мерах». На следующий день текст самого договора – без «секретки», конечно, – был опубликован в «Правде» вместе с картой «Граница обоюдных государственных интересов СССР и Германии на территории бывшего Польского государства». По сути, заявление Молотова – Риббентропа говорит о том, что именно Англия и Франция виноваты в продолжающейся мировой войне, снимая ответственность даже с Германии, не говоря уже про СССР.
Интересно, как советская – читай, сталинская – пропаганда снова делает сальто-мортале и на время забывает, как много лет клеймила «германский фашизм». Который нацизм на самом-то деле. Немедленно вводится новый термин для определения политического режима в Германии под названием «идеология гитлеризма». Вот цитата из доклада Молотова «О внешней политике Правительства» на Внеочередной пятой сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года: «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это – дело политических взглядов. Но любой человек поймёт, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываясь фальшивым флагом борьбы за демократию». Вот оно как, оказывается. Однако не пройдёт и двух лет, как 22 июня 1941 года Молотов скажет о том, что война СССР навязана «кликой кровожадных фашистских правителей Германии». Сталин же в своём первом Обращении заявит конкретнее: «Наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом – германским фашизмом». И никакого вам «гитлеризьму» и прочего «идиотизьму» уже в помине нет, а вот «злейший враг – германский фашизм» есть. Немудрено, что советская пропаганда, то есть Сталин, быстро забыла об этом «дружеском» договоре. После начала войны во всех официальных речах и статьях речь шла исключительно о нарушении Германией «Пакта о ненападении», но никак не «Договора о дружбе», о котором вообще больше не скажут ни слова.
Тем не менее, от «ненападения» два режима вроде бы подошли к «дружбе». Однако ни о какой дружбе в договоре нет ни слова. Здесь всё чётко, по делу и по плану. Достаточно снова прочесть очередной документ, и станет совершенно очевидным, что Сталин и Гитлер просто делят территории и население. Чётко определена новая граница и перемещение населения: немцы уезжали в германскую зону оккупации, а украинцы, белорусы, русские в советскую. Присоединив новые-старые территории, СССР получил общую границу с Германией, а от новых западных границ было гораздо ближе до Берлина, чем до Москвы, что Сталин считал серьёзным преимуществом в грядущей войне с Германией. Кроме того, в СССР проводятся явно предвоенные мероприятия. Первого сентября 1939 года вводится всеобщая воинская повинность, а призывной возраст снижается с 21 года до 19 лет, а по некоторым категориям граждан и до 18. Армия в короткое время вырастает с трёх до пяти миллионов человек. Мало того, разобравшись, с военной и политической точек зрения с Японией, Сталин продолжает отодвигать границы СССР. Теперь уже на севере, где граница с Финляндией слишком близко подходит к Ленинграду. В октябре того же года СССР начинает долгую и кровопролитную войну с Финляндией, которая вызывает резкую критику Запада, и со штампом «страна-агрессор» Союз выгоняют из Лиги наций.
В Берлине внимательно наблюдали за этой войной, оценивая силу РККА и всего СССР. Сегодня общепринятой точкой зрения отечественных историков является следующая версия «Зимней войны»: она была тяжёлой, но окончилась победой СССР, что позволило отодвинуть границу от Ленинграда, присоединить крупный город Выборг и обезопасить Мурманск. Что именно эти планы преследовал Сталин и в итоге их выполнил. Однако на самом деле это была очень странная война. Казалось бы, в таких комфортных условиях целью Сталина могло быть быстрое и полное завоевание Финляндии с последующим провозглашением советской республики по примеру прибалтийских стран, на что указывают некоторые историки. Однако цели у Сталина были совсем иные. Он по-прежнему руководствовался в первую очередь политическими мотивами. Итак, все знают, что начавшаяся 30 ноября 1939 года Финская война выдалась для СССР тяжёлой и кровопролитной. Никакой «молниеносной» операции и полного захвата Финляндии в итоге не случилось. Как принято считать, в первую очередь по вине наркома обороны Ворошилова, решившего что для победы хватит сил одного Ленинградского военного округа. Понеся тяжёлые потери, Красная армия в итоге прорвала финскую оборону только в 1940 году, но к тому времени Англия и Франция уже были готовы отправить в Финляндию 50-тысячный корпус французской регулярной армии и 300 союзных самолётов. И хотя Финляндия уже была не способна воевать, Сталин не пошёл на прямое военное столкновение с Англией и Францией. Ведь таким образом он – по умолчанию – вступал в открытый вооружённый конфликт с союзниками на стороне Германии, которая уже находилась в состоянии войны с Англией и Францией. Это в планы Сталина совершенно не входило, и 13 марта между СССР и Финляндией был заключён мир. Вот такие в целом выводы, однако действительно ли это все выводы?
Нет, конечно. Поговорим об истинных планах Сталина в этой странной войне, которая закончилась лишь частичной победой, да ещё и дорогой ценой. Только вот почему произошло именно так? Почему Сталин решает, что предложение Ворошилова начать войну силами только одного Ленинградского военного округа верное? Ведь если цель состоит в быстром захвате Финляндии, то ничто не мешает направить туда гораздо большие силы и подавить сопротивление маленькой страны. Время для операции выбрано удачное, а силы армий несопоставимы. Только что получен боевой опыт на Халхин-Голе. Останавливают большие потери? Но Сталину абсолютно нет до них никакого дела! Преследуя свои цели, он будет бросать на фронт в 1941–1942 годах миллионы новобранцев и народных ополченцев, ничуть не беспокоясь о немыслимых потерях. Почему же здесь задействованы ограниченные силы? Почему на этой войне дивизии РККА будут погибать в окружении и никто месяцами не придёт им на помощь? Почему армия безобразно обеспечена всем необходимым? Почему, наконец, Сталин разыгрывает удивительную сцену в декабре 1939-го и опрашивает генералов на предмет того, кто решится на командование армией и закончит войну? В итоге вызывается (?!) Тимошенко, и только после этого организовывается ещё один фронт и достигается успех в войне, за которым следует мир. Эти же вопросы волновали и Микояна: «Сталин – умный, способный человек – в оправдание неудач в ходе войны с Финляндией выдумал причину, что мы „вдруг“ обнаружили хорошо оборудованную линию Маннергейма. Была выпущена специально кинокартина с показом этих сооружений для оправдания, что против такой линии было трудно воевать и быстро одержать победу. Но только наивный человек не задал себе вопроса: почему же Советская Армия и наша разведка не знали о такой мощной оборонительной линии под самым своим носом? Ведь эта линия всему миру была известна». И это ещё не всё. Когда наш рассказ дойдёт до 22 июня 1941 года, нас ждут ещё более серьёзные откровения Анастаса Ивановича относительно того, кто же виновен в том, что «Зимняя война» выдалась такой тяжёлой и кровопролитной.
А пока же, после всего этого хаоса, безобразия и крови, сам Сталин оптимистично оценивает итоги войны, заявив на весь мир: «Наша армия стала крепкими обеими ногами на рельсы новой, настоящей советской современной армии… Мы победили не только финнов, мы победили еще их европейских учителей». Слишком много вопросов, на которые может быть лишь один ответ: это безобразие просто-напросто устраивало Сталина, он никуда не торопился и всё шло по его плану. Особенно же его устраивал международный резонанс. Оглушительные военные провалы Красной армии и неспособность всей государственной системы оперативно решать вопросы в войне даже против малюсенькой Финляндии не остались незамеченными в мире. Англичане откровенно издевались над Советами, французы хохотали, а в Германии лишний раз убедились в непрофессионализме РККА и слабости СССР. Гитлер заявил, что «СССР – колосс на глиняных ногах». Военный атташе в Москве подполковник Кребс докладывал: «Максимальные размеры Красной армии военного времени определенно не достигнут 200 дивизий, что подтверждается финским и японским военными атташе». Вывод один: Сталин дал ещё один «залп» по Гитлеру. Именно после этой странной войны громадного СССР против крошечной Финляндии Гитлер уже не боится удара такой слабой армии, как РККА. Он принимает окончательное решение, куда ему в первую очередь надлежит ударить, а именно – на запад! Сталин же вскоре разыграет «финскую карту» снова, но уже с целью давления на Гитлера и провоцирования его на вторжение.
Итак, Гитлер выбирает запад, а не восток буквально «по указке Сталина». При правильном, в целом, выводе английские «кукловоды» ошиблись с направлением удара Гитлера. На самом же деле всё логично: война на два фронта Гитлеру не нужна, но и с СССР он пока что воевать не готов. Франция и Англия уже находились в состоянии войны с Германией, а в таких условиях сцепиться ещё с СССР и воевать на два фронта просто несусветная глупость. Гитлер, безусловно, предполагал, что Англия и Франция и пальцем не пошевелят, если он развернётся на восток, но всё равно оставлять в тылу сильную французскую армию и английские войска было опасно. В Лондоне и Париже, потирая руки, будут спокойно смотреть, как немцы и русские убивают друг друга, но не безучастно. Они будут вооружаться, наращивать силы армий и флотов, чтобы потом добить обескровленного победителя. Напомним, что в результате сталинских «игр», и особенно финской войны, Гитлер крайне низко оценивал силу РККА, а армию Франции считали самой сильной сухопутной армией на континенте. Кроме того, промышленный потенциал Европы был гораздо выше, чем СССР, и Гитлеру было необходимо не только оружие, но и машины, паровозы, вагоны и квалифицированные кадры, а всё это было как раз в Европе. Для чего? Для будущей войны с СССР и затем захвата мира. И, вполне логично, Германия обернулась сначала на север, а потом и на запад. После падения Норвегии и Дании вермахт громит 600-тысячную бельгийскую и 400-тысячную голландскую армии и французские части, расквартированные за пределами страны. Затем приходит черёд той «самой мощной сухопутной» 2,5-миллионной армии Франции, усиленной 14 английскими дивизиями. Союзникам не помогло даже двукратное преимущество в танках и самолётах. Они просто забыли уроки истории и Первой мировой. Присвоив себе лавры победы в той войне, они поздновато вспомнили о том, что тогда на востоке громадный фронт держала Россия, которая как минимум дважды спасала Францию от полного разгрома, разворачивая наступления на германском фронте. Франция символично капитулирует 22 июня 1940 года. Загнав англичан на их остров, Гитлер стал полноправным хозяином Центральной и Западной Европы.
Мы подходим к серьёзному выводу: английский план натравить Германию на СССР, развязать затяжную бойню и добить победителя не сработал, но не сработал и «зеркальный план» Сталина. Пакт окончательно и бесповоротно сыграл на руку Гитлеру, быстро завоевавшему всю континентальную Европу. Внешнеполитические задумки Сталина до этого момента работали, и Гитлер повернул на Запад. Однако сработали-то они слишком значительно и быстро, а никакой долгой и кровопролитной войны Германии против Европы не вышло. Сталину теперь необходимо было подумать над новым планом. И он думает, тем более что время у него ещё есть, ведь начинается Битва за Британию. Гитлер уже в июле отдаёт приказ на разработку операции «Морской лев» по вторжению в Англию. Однако командование вермахта немедленно заявляет, что без господства в воздухе операция обречена на провал: британский флот несомненно разобьёт немцев на море. В итоге эту битву немцам выиграть не удалось, что к октябрю 1940 года становится окончательно понятным. Германия теряет 1887, а Англия 1023 самолёта и почти 25 тысяч погибших мирных граждан. Итак, Гитлер захватил почти всю континентальную Европу, но Англия, которой оказывают помощь США, не разбита и навязывает Германии войну в воздухе, на морях и на средиземноморских островах.
Главным итогом всех этих событий становится тот, что в континентальной Европе к лету 1940 года действительно остаются только две силы, способные противостоять и уничтожить одна другую: Германия и СССР. Как не вспомнить тот вывод английской разведки, что подписание Пакта приведёт к неминуемому столкновению этих стран? Это время теперь стремительно приближается. Итак, война против Германии неизбежна, однако когда и как она начнётся? Военно-стратегическими решениями могли быть только два: СССР начинает наступление первым, вторгается в Польшу и далее, как обычно, на Берлин. Однако это решение необходимо было принять ещё тогда, когда основная часть немецкой армии сражалась в Западной Европе или сразу же после разгрома союзников. Если думать о безопасности своей страны, конечно. В этом случае необходим был быстрый – на войне самый важный фактор, если кто не знает, это именно время – удар-прорыв через слабые немецкие войска прикрытия границы на Польшу, Румынию и далее на Восточную Пруссию. Пока из Западной Европы выдвигались бы основные части вермахта, РККА могла нанести критический урон Германии, который с большой вероятностью приводил бы к разгрому врага. Командование вермахта было точно такого же мнения. Вот что пишет начальник оперативного отдела штаба фельдмаршала фон Рундштедта генерал Блюментритт: «Рундштедт полагал, что если бы русские хотели напасть на Германию, то они сделали бы это в тот момент, когда все немецкие армии находились на Западном фронте». С военной точки зрения, да и с точки зрения безопасности своих граждан звучит логично, не правда ли? Не говоря уже о том, что версия автора «Ледокола» тогда полностью подтвердилась бы, а война в таком случае должна была бы начаться летом 1940 года. Этого, как мы знаем, не случилось. Вторым вариантом выглядел тот, когда СССР готовился бы к стратегической обороне. И, если уж решено действовать таким образом, то вся военно-политическая система страны должна была срочно готовиться по всем позициям для выполнения «оборонного» плана, как нам много лет и внушали. Посмотрим, так ли это, ведь впереди очередные планы вождя. Он вновь их корректирует согласно обстановке. На этот раз они впрямую коснутся будущей войны и тех немыслимых жертв и катастроф, которые произошли по вине автора этих самых планов.
А что думает на этот счёт Гитлер? И Гитлер прекрасно понимает, что остался один враг – СССР, и немедленно отдаёт соответствующие приказы. По воспоминаниям одного из авторов «Барбароссы» Паулюса: «В конце июля 1940 года Гитлер сообщил штабу оперативного руководства ОКВ, а также главнокомандующим тремя видами вооруженных сил, что он не исключает возможности похода против Советского Союза, и дал поручение начать предварительную подготовку». Итак, война с Францией только-только окончена, а Гитлер уже готовит нападение на СССР, невзирая ни на какие Пакты. Так что никого Сталин, вопреки версии Резуна, не обманул. Политическое решение ещё не принято, но работа Генштаба вермахта по планированию войны с СССР начинается. Мало того, к этой дате уже есть директива Гитлера как основа плана:
«а) Развертывание продлится четыре – шесть недель, б) Необходимо разбить русскую сухопутную армию или по крайней мере занять такую территорию, чтобы можно было обеспечить Берлин и Силезский промышленный район от налетов авиации противника. Желательно такое продвижение в глубь России, чтобы наша авиация могла разгромить ее важнейшие центры, в) Политические цели: украинское государство, союз прибалтийских государств, Белоруссия, Финляндия. Прибалтика – заноза в теле, г) Необходимо 80—100 дивизий. Россия имеет 50–75 хороших дивизий».
Разработку первого варианта плана поручают начальнику штаба 18-й армии генерал-майору Эриху Марксу. Почти «родная» для всех советских людей фамилия, правда? Маркс – Энгельс – Ленин – тот самый «бородатый триумвират» столпов идеологии марксизма-ленинизма. На самом же деле здесь горькая – горше некуда – ирония истории, ведь Карл Маркс ненавидел Россию на запредельном, можно сказать, на генетическом уровне! Его главной мечтой было пойти на неё войной и просто стереть Россию с исторической арены. Мечтами «помельче» были оттеснить её куда-нибудь подальше в Азию или, в крайнем случае, заставить служить «прогрессивным государствам». Просто удивительно, что и сегодня вполне можно выйти в Москве на станции метро «Марксистская» или «полюбоваться» его 160-тонным монументом в центре столицы. Точнее, удивительно, унизительно и мерзко.
Итак, промежуточный итог планирования следующий: «…наносить только один главный удар из Румынии, Галиции и Южной Польши в направлении на Донбасс, разбить находящиеся на Украине армии и вслед за этим маршировать через Киев на Москву». 31 июля 1940 года Гитлер дал такие установки: «Вывод: на основании этого заключения Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года. Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше. Операция только тогда будет иметь смысл, если мы одним ударом разгромим государство. Одного захвата известной территории недостаточно. Остановка зимой опасна. Поэтому лучше подождать, но потом, подготовившись, принять твердое решение уничтожить Россию. Это необходимо также сделать, учитывая положение на Балтийском море. Существование второй великой державы на Балтийском море нетерпимо». Мысли Гитлера логичны: не спешить и хорошо подготовиться, напасть весной, действовать быстро и до наступления зимы.
Однако фюрер уже решает, что одного удара на юге недостаточно. Таким образом, готовятся две группы армий. Первая наносит удар на Киев с выходом на Днепр и захватом Одессы. Цели второй – удар на Прибалтику и Белоруссию и выход на Москву. После этого двухсторонний охват с севера и юга, а позже частная операция по овладению районом Баку. Гитлер подытоживает: начало похода – май 1941 года. Заметим, Гитлер готовится нападать безотносительно планов советского командования, так что запомним эту важную во всех смыслах дату. 15 МАЯ 1941 ГОДА. Срок для проведения операции – пять месяцев. Это та самая «молниеносная война»? – спросит внимательный читатель. И добавит: «Что-то многовато». И правильно сделает читатель, что спросит и добавит. Потому что ни о каком блицкриге Гитлер не говорит и задачи такой не ставит от слова «совсем». И это тоже запомним! Итак, генерал Маркс готовит более детальный «Оперативный проект „Восток“, а окончательный вариант «Директивы 21», более известной как план «Барбаросса», начинает разрабатывать будущий фельдмаршал и «герой Сталинграда» Фридрих Паулюс.
Крайне важными вопросами в связи с началом разработки «Барбароссы» выступают следующие: знал ли Сталин об этом плане вообще и когда именно узнал? Разведчики в последние годы дали ответ и привели очередной массив неопровержимых документов о том, что Сталин о разработке «Барбароссы» имел ясное представление буквально с момента отдания Гитлером приказа на его разработку. Сергей Нарышкин пишет: «Летом 1940 года Гитлер отдал приказ Генштабу вермахта о подготовке к войне с СССР сразу после окончания исхода англо-французских войск из Дюнкерка. Первыми сведениями об этом можно считать сообщение нашей резидентуры во Франции от 4 августа 1940 г. о начале переброски высвободившихся гитлеровских войск с западного фронта к советским границам… Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940-го по июнь 1941 г. только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных со общений». Итак, уже в начале августа 1940-го Сталин знает о начале подготовки Директивы № 21. Ещё раньше, 19 июля 1940 года, Гитлер пробует договориться с Англией и предлагает парламенту заключить мир. Однако английское правительство это предложение отклоняет. Благодаря разведке Сталин и об этом немедленно узнаёт. В итоге Гитлер 31 июля 1940 года на военном совещании заявляет, что Англия будет держаться только при наличии США и СССР. Поэтому Россию надо ликвидировать, напав не позднее весны 1941 года. Война всё ближе. Сталин об этом прекрасно знает, и чем же он ответит?
Десятая глава
К зиме 1940 года военное могущество Германии возрастает в несколько раз. А что же Сталин? До этого момента Сталин всячески демонстрирует миролюбие, декларирует неукоснительное соблюдение Пакта о ненападении и Договора о дружбе. В кремлёвских кулуарах он неоднократно озвучивает мысль о том, как выгодно дружить с Гитлером и какое светлое будущее от таких миролюбивых отношений ждёт обе страны. Так что если в тех самых «кулуарах» прячется очередной шпиён-вражина, то и ему нечего доложить в Берлин, кроме того, что Сталин предъявляет на всеобщее услышание. Советская пропаганда всё так же клеймит английский империализм. Однако одновременно западные границы СССР всё ближе к Германии, а Сталин не так уж мирно, но так же неуклонно продолжает движение на запад, и вот уже Румыния по ультиматуму от 27 июня 1940 года вынуждена от дать СССР Бессарабию и Северную Буковину. Туда немедленно вводятся советские войска. Таким образом, основному поставщику нефти для Германии существенно урезали территорию, а до нефтяных полей Плоешти теперь менее 200 километров. Япония тем временем начала переориентацию захватнической политики с Дальнего Востока на Тихий океан. Так что же выберет Сталин, который уже отлично знает о том, что разработка плана нападения Германии на СССР идёт полным ходом? Конечно же – и об этом прекрасно знают Гитлер, Черчилль, Рузвельт и вообще все политики, которые не живут в мире иллюзий и фантазий, – Сталин выберет войну. Даже Торин Дубощит это знает. Однако пока наступает время для очередной военно-политической игры Сталина.
Выждав – а кто бы в этом сомневался? – ровно до окончания Битвы за Британию, он вновь настаивает на переговорах высшего уровня между СССР и Германией. Гитлер соглашается. В ноябре 1940 года состоялся государственный визит Председателя Совета Народных Комиссаров, а по совместительству министра иностранных дел Вячеслава Молотова – а кого же ещё? – в Берлин, где он встречается лично с Гитлером, под аккомпанемент бомбёжки немецкой столицы английской авиацией. Британцы всё знают и на всякий случай демонстрируют свою силу и тем и другим, но на самом деле только Гитлеру. При этом Молотов получает от Сталина строжайшее задание: ни при каких обстоятельствах ничего не подписывать. Следующими двумя задачами он определил выяснить, как Гитлер собирается делить мир, и обозначить сферы интересов СССР. Не случайно Молотов немедленно сообщает Гитлеру, что его слова будут отражать точку зрения Сталина. Впрочем, это Гитлеру прекрасно известно, как заранее ясно и то, что переговоры закончатся ничем. Понятно это и Молотову, то есть Сталину. Переговоры обречены на провал. Остаётся выяснить, кто имен но станет его инициатором.
Гитлер для начала выдвигает мирные инициативы: он предлагает СССР присоединиться к странам Оси, то есть к Германии, Италии и Японии, а также без проблем и помех вести советскую экспансию в направлении Индийского океана, где у Германии нет никаких интересов и территориальных запросов. Казалось бы, сбывается сон-кошмар Британской империи, и Россия-СССР всё-таки выдернет из королевской короны самый крупный и драгоценный индийский бриллиант. Однако про советские притязания в Европе фюрер не говорит ни слова, предполагая оставить всё как есть. К тому времени германские подразделения уже перебрасываются в Финляндию, а неприкосновенность румынских границ также обеспечивается немецкими войсками в этой стране. Фюрер явно даёт понять, что обсуждать советские претензии на Финляндию и часть Румынии он не намерен. Таковы предложения Гитлера.
Если рассмотреть сталинский «краеугольный камень» мифа о необходимости подписания Пакта для того, чтобы якобы «оттянуть начало войны» с Германией, то эти условия вполне этому соответствуют, не правда ли? И в этом случае предложения Гитлера следовало бы не с ходу отвергать, а как минимум рассмотреть. Если бы задачей было «тянуть время», то с этими предложениями от Гитлера Молотов должен был спокойно улетать обратно в Москву, где их следовало всесторонне обсудить и обдумать. Возможно, создать рабочую или консультационную группу с участием Германии, Италии и Японии. Начать всестороннюю разработку планов. И так далее и так далее. То есть тянуть то самое «необходимое» время во вполне себе дружественной обстановке чуть ли не бесконечно. Мало того, это было необходимо сделать и в рамках той самой «ледокольной» версии, по которой Сталин якобы готовил внезапный удар! И в этом случае переговоры и обсуждение условий дальнейшего сосуществования двух стран надо было затягивать, а попутно тайно готовить и вскоре наносить тот самый удар. Только вот получается, что именно Сталин ни того, ни другого абсолютно не хочет! И что же делает Молотов по его приказу? А Молотов в ответ немедленно затевает с Гитлером дискуссию по поводу «субъекта и объекта» присоединения к странам Оси. Другими словами, речь зашла о том, кто же тогда будет главным в этом союзе – Гитлер или Сталин? Понятно, что на второстепенную роль Гитлер не соглашается, и вопрос таким образом с вхождением СССР в состав стран Оси был не только никоим образом даже не обсуждён, а немедленно Молотовым – Сталиным закрыт. Разговор переходит из дружеского русла в холодный обмен мнениями.
Однако у советской стороны к тому же есть свои предложения, а точнее, требования, больше похожие на ультиматум. Пойти на них Германия никоим образом не может, о чём Сталину прекрасно известно. Ведь теперь СССР хочет получить Финляндию – вот и настал час разыграть «финскую карту» по плану Сталина! – и Болгарию полностью, а также снова часть Румынии, не говоря уже полном контроле за Черноморскими проливами, расширении влияния в Средиземном море и на Балканах. Фюрер только криво усмехнулся. Известно, что у него было два «пунктика», которые сформировались в ходе голодной Первой мировой: это продовольственная и ресурсная безопасность Германии. И Сталин умело бьёт по больному, ведь полная оккупация Финляндии не только поставит под вопрос поставки стратегического никеля для рейха из этой страны, но и создаст серьёзную угрозу пограничной с Суоми Швеции, откуда Германия получает железную руду. Не говоря уже о господстве на Балтике, которое фюрер считал немецким морем. Ни в каком виде Гитлер не желал уступать и по Румынии – основному и близкому источнику нефти для рейха. Ввод советских войск в Болгарию, а также контроль СССР за Черноморскими проливами также опасен, потому что из Турции в Германию шли стратегически важные поставки хромовой руды и продуктов. Таким образом, Сталин впрямую предлагает Гитлеру нереальные условия, согласно которым по сути от «доброй воли» СССР будут зависеть поставки в Германию важнейших ресурсов.
Ну и самое главное, хотя это тоже касается ресурсов, а именно нефти: Молотов заявляет, что СССР желает сосредоточить свои стратегические усилия отнюдь не в направлении Индийского океана, а в сторону Ирана и далее всего Персидского залива. Сталин желает взять под контроль не индийские пряности и чай, а крупнейшие из известных тогда нефтяных месторождений, что фюрера категорически не устраивает. Это тоже «ресурсный удар» по Германии. Естественно, такие нереальные требования оставляются Гитлером без ответа, а переговоры вообще заходят в тупик, сворачиваются и прекращаются. Таким образом, Молотов, как герой Мэла Гибсона из «Храброго сердца», своим визитом просто «нарвался на драку». В итоге переговоры можно смело считать провалом, однако не этого ли хотел Сталин? Иного ответа нет и быть не может. Потому что если одна сторона хочет мира или даже передышки, то она, как минимум, не выдвигает ультиматумов, а, наоборот, ведёт себя более сдержанно и взвешенно. Даже если вполне уверена в себе. Способов тут в дипломатии и политике масса: затягивание переговоров, взаимные визиты, подключение к переговорам третьих стран, создание совместных рабочих групп, взаимные уступки, требование гарантий, промежуточные протоколы и договоры и так далее и тому подобное. Вместо этого Сталин устами Молотова ставит Гитлеру очередные ультиматумы, а переговоры заканчиваются ничем уже на второй день. Совершенно ясно, что одна сторона для себя всё уже решила и эта сторона – Сталин. В итоге Гитлеру, Сталину и всему миру всё предельно ясно и война неминуема.
Молотов улетает в Москву, где Сталин ещё немножко с Гитлером «поиграет». 25 ноября 1940 года Молотов передаёт германскому послу Шуленбургу подкорректированные советские требования: «СССР согласен принять в основном проект пакта четырех держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи при следующих условиях: 1. Если германские войска будут теперь же выведены из Финляндии, представляющей сферу влияния СССР, согласно советско-германского соглашения 1939 года. 2. Если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность СССР в Проливах путем заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией и организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданелл на началах долгосрочной аренды. 3. Если центром тяжести аспирации СССР будет признан район к югу от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу. 4. Если Япония откажется от своих концессионных прав по углю и нефти на Северном Сахалине на условиях справедливой компенсации». Однако Гитлер больше играть не намерен, и эти предложения просто-напросто остаются без ответа. Он вообще не собирается что-либо обсуждать, когда каждое предложение – а Сталин делает это намеренно! – начинается со слова «Если». При этом фюрер убеждён в слабости СССР и его армии, чему всячески способствовал сам Сталин, как мы помним. Практически все политико-дипломатические контакты между двумя странами с этого момента «подмораживаются», хотя взаимовыгодное военно-экономическое сотрудничество идёт своим чередом. Таким образом, всё совершенно ясно: война на пороге. Осталось понять, когда именно и как именно она начнётся.
С этого момента внешняя политика СССР поставлена буквально «на паузу». Сталин чётко выполняет условия Пакта и Договора, а для всех его приказ «Не провоцировать Германию» становится уже законом. Таким образом, условный «мяч» Сталин любезно вручает Гитлеру, вынуждая именно его принимать решение. И Гитлер всё прекрасно понимает: он отдаёт приказ на подготовку к войне с СССР, окончательную доработку плана «Барбаросса» и на стратегическую переброску войск к восточным границам рейха. Вскоре в немецком Генштабе был окончена работа над «Директивой № 21», которая получила название «План Барбаросса». Гитлер подписал его 18 декабря 1940 года. Давайте с ним ознакомимся в подлиннике с небольшими сокращениями.
Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии (План «Барбаросса»). Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их распоряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы для защиты занятых территорий от всяких неожиданностей. Задача военно-воздушных сил – высвободить такие силы для поддержки сухопутных войск при проведении Восточной кампании, чтобы можно было рассчитывать на быстрое завершение наземных операций и вместе с тем ограничить до минимума разрушение восточных областей Германии вражеской авиацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на Востоке должна быть ограничена требованием, чтобы все театры военных действий и районы размещения нашей военной промышленности были надежно прикрыты от налетов авиации противника и наступательные действия против Англии, особенно против ее морских коммуникаций, отнюдь не ослабевали. Основные cилы Военно-Морского Флота должны и во время Восточной кампании, безусловно, быть направлены против Англии.
Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил против Советской России я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операций. Приготовления, требующие более продолжительного времени, если они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.05.41 г. Решающее значение следует придать тому, чтобы никто не разгадал намерения осуществить нападение. Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны проводиться, исходя из следующих основных положений.
I. Общий замысел.
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в западной части России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых крыльев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на территорию Германского рейха. Конечной целью операции является создание заградительного барьера против азиатской части России по общей линии Волга – Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у России на Урале, можно будет парализовать с помощью авиации. В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажется, таким образом, неспособным продолжать борьбу. Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции.
Предполагаемые союзники и их задачи
1. В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии. Верховное Главнокомандование вооруженных сил в соответствующее время согласует и установит, в какой форме вооруженные силы обеих стран при их вступлении в войну будут подчинены германскому командованию. 2. Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы своими отборными силами поддержать наступление германских войск на южном фланге, по крайнем мере в начале его, сковать силы противника там, где не введены в действие германские войска, а в остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах. 3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной германской северной группы войск (части 21-й армии), следующей из Норвегии, и вести совместно с ними боевые действия. Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко. 4. Следует считать возможным, что cамое позднее к началу операции шведские железные и шоссейные дороги будут предоставлены для использования германской группе войск, предназначаемой для действий на Севере. А) Сухопутные силы (выражая согласие с оперативными замыслами, доложенными мне.) Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и южную части. Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий. Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее нее и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким образом будут созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север, с тем чтобы во взаимодействии с северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, действующие в Прибалтике. Лишь после обеспечения выполнения этой неотложной задачи, за которым должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к операциям по взятию Москвы как важного центра коммуникаций и военной промышленности. Только неожиданно быстрый провал русского сопротивления мог бы оправдать постановку и выполнение этих обеих задач одновременно.
Армии, действующие на юге от Припятских болот, должны еще западнее Днепра в ходе окружной операции и при помощи сильных флангов полностью разбить расположенные на Украине русские силы. C этой целью необходимо сконцентрировать главное направление удара из района Люблина в общем направлении на Киев, в то время как силы, находящиеся в Румынии, образуют отделенный большим расстоянием защитный фланг через нижнее течение Прута. Румынской армии отводится задача сковать находящиеся между ними русские силы. По окончании сражений южнее и севернее Припятских болот развернуть преследование противника и обеспечить достижение следующих целей: на юге своевременно занять важный в военном и экономическом отношении Донецкий бассейн, на севере быстро выйти к Москве. Захват этого города означает не только решающий политический и экономический успех, но и потерю важнейшего железнодорожного узла.
Б) Военно-воздушные силы. Их задача будет заключаться в том, чтобы максимально парализовать и нейтрализовать противодействие русских военно-воздушных сил и поддержать сухопутные войска в их операциях на решающих направлениях. Это будет прежде всего необходимо на направлении центральной группы армий и на главном крыле южной группы армий. Русские железные дороги и пути сообщения в зависимости от их значения для операции должны перерезаться или выводиться из строя посредством захвата наиболее близко расположенных к району боевых действий важных объектов (речные переправы!) смелыми действиями воздушно-десантных войск. В целях сосредоточения всех сил для борьбы против вражеской авиации и для непосредственной поддержки сухопутных войск не следует во время операции подвергать нападению объекты военной промышленности. Подобные нападения, и прежде всего в направлении Урала, будут стоять на повестке дня только по окончании маневренных операций.
В) Военно-Морской Флот. В войне против Советской России Военно-Морскому Флоту отводится задача, обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать прорыву Военно-Морского Флота противника из Балтийского моря. Учитывая, что после выхода к Ленинграду русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и окажется в безнадежном положении, следует избегать до этого момента крупных операций на море. После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, чтобы обеспечить полную свободу морских сообщений в Балтийском море, в частности снабжение по морю северного фланга сухопутных войск (траление мин!).
IV. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании этой директивы, должны совершенно определенно исходить из того, что речь идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свою нынешнюю позицию по отношению к нам. Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно быть максимально ограниченным. Остальных сотрудников, участие которых необходимо, следует привлекать к работе как можно позже и знакомить с задачами только в том объеме, который необходим для исполнения служебных обязанностей каждым из них в отдельности. В противном случае существует опасность возникновения серьезнейших политических и военных осложнений в результате раскрытия наших приготовлений, сроки которых еще не определены.
Снова зададим важные вопросы: знал ли Сталин об окончании работы над этим планом, ведь Гитлер отводил решающее значение сохранению его секретности? Знал. Агент советской разведки с оперативным псевдонимом «Альта», под которым скрывалась журналистка Ильзе Штёбе, уже за несколько лет до этих событий завербовала немецкого дипломата Рудольфа фон Шелиа, известного как «Ариец». От него уже в конце декабря (!) 1940 года пришла конкретная информация о разработке плана вторжения в СССР, известного как «Барбаросса». Когда в Москве потребовали подтверждения, «Альта» сообщила: «Данные основаны не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, о котором известно лишь ограниченному кругу лиц. „Ариец“ подчеркивает – подготовка наступления против СССР началась давно, но была одно время приостановлена в связи с проведением компании против Англии. Гитлер считает, что состояние Красной армии низкое и весной он будет иметь несомненный успех». Так что всё Сталину было прекрасно известно в тот же месяц, как План был окончательно утверждён Гитлером. Мало того, Сталин получил прямое подтверждение тому, что его «игра» по заманиванию Гитлера уже принесла успех, а фюрер оценивает силу РККА как «низкую» и уверен в «несомненном успехе»! Ниже мы увидим и другие документальные подтверждения того, как ИНО и Разведупр не только заблаговременно предупредили Сталина о разработке плана «Барбаросса», но и практически «положили на стол» вождю его окончательный вариант. Тот самый, который будет приведён в действие 22 июня, да ещё и с фамилиями командующих всеми тремя группами армий. Причём сделали это ещё за 4 месяца до начала войны! Не может быть? Не спешите делать выводы, уважаемые читатели, потому что и может, да и было именно так. Таким образом, советская разведка окончательно сняла с себя все обвинения и возложила их впрямую на Сталина.
Что же касается «Барбароссы», то давайте проведём небольшой анализ, основываясь на полном тексте подлинного документа, а не на громких заявлениях советской пропаганды, начиная со сталинской и дошедшей до нашего времени в виде «неоспоримых тезисов», которые на самом деле не что иное, как мифы. К примеру о том, что Гитлер-де «хотел за пару месяцев дойти до Урала». А вот согласно «Барбароссе», конечной целью значится достижение линии Волга – Архангельск и ни о каком, не говоря уже о двухмесячном, «походе на Урал» нет ни слова. Советские уральские заводы в плане планируется разбомбить авиацией, и только. Одним мифом, как мы понимаем, сразу становится меньше.
Теперь поищем в документе вторую популярную военную сказку о той самой «молниеносной войне», которая на немецком звучит дословно «блицкриг». Ту самую «молниеносную», которую уже в июне – июле 1941 года СССР, по словам Сталина, «полностью сорвал». В свою очередь, «факт» о «провале блицкрига» оправдал все неудачи не только Красной армии, но и советского правительства и самого Сталина. Всё бы, как говорится, ничего, да только в Плане «Барбаросса» конкретный срок выполнения задач вообще не указан, а уж тем более нет такого термина как «блицкриг». Мы помним, что при подготовке «Барбароссы» Гитлер определял операцию продолжительностью до 5 месяцев. Но теперь всё иначе: именно достижением намеченных целей, а не временем определяется успех компании. Гитлер, безусловно, ставит задачу, вносит в план и рассчитывает на «кратковременную компанию». Только вот между «кратковременной компанией» и «молниеносной войной» громадная разница, не правда ли? Много интересного можно найти, если читать документы внимательно, а не интерпретировать их по собственному усмотрению, как делал сначала Сталин, а потом и советские идеологи, выковавшие военные сказки.
Совершенно очевидно, что представлять Гитлера дурачком, которого якобы обманул Сталин ещё в 1939 году, на чём настаивают «ледокольщики», не стоит. Он прекрасно и задолго до под писания Пакта знал о неизбежности войны против СССР, да и вообще разгром восточного соседа всегда был его, Гитлера, идеей фикс. Кроме того, план «Барбаросса» не претерпел с 18 декабря 1940 года принципиальных изменений ни в мае, ни в июне уже 1941 года. Все эти факты говорят о том, что Гитлер сам планировал вторжение в СССР, а не реагировал на приготовления Красной армии с целью её опередить. Последующий перенос начала вторжения Гитлером с мая на июнь, о причинах которого мы вскоре поговорим, ещё весомее говорит о том, что Гитлер отталкивался только от своих планов. Он сам всё в том же убеждении, что РККА слаба, а СССР тот самый «глиняный колосс». Так что эта парадоксально удобная – как для сторонников Гитлера, так и Сталина – теория критики не выдерживает уже за полгода до начала войны, а вскоре окончательно развалится под тяжестью фактов.
Анализируя военно-стратегическую часть Плана, сделаем вывод о том, что в итоге намечены не один и не два, а три главных удара: на Киев, Ленинград и Москву, при этом основные силы вермахта наступают в центре и на северо-западе. Главными же целями являются вовсе не захват отдельных городов – эти мифы вскоре придумает тоже Сталин, – а разгром Красной армии в приграничных сражениях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Только после выполнения этой стратегической задачи выделяются цели: Ленинград, Донецкий бассейн и Москва. Все приготовления планируется завершить к 15 мая 1941 года, и на этот раз срок прописан в плане совершенно чётко.
Тем временем и в СССР происходят два знаменательных события, свидетельствующих о подготовке к скорой войне. 23 декабря 1940 года в Москве проходит Совещание высшего командного состава РККА с участием 270 военачальников. На Совещании обсуждался опыт «Зимней войны», события на Халхин-Голе и уроки «французской кампании». Новый нарком обороны Тимошенко в своём докладе сообщил, что большинство советских командиров в военном деле «остались на уровне Гражданской войны». Начальник автобронетанкового управления генерал Федоренко откровенно заявил, что мехкорпуса не отработали даже взаимодействие внутри себя, а о действиях вместе с другими частями, авиацией и артиллерией речи не может идти вообще. Командующий Забайкальским округом Конев просил подготовить «тактический справочник» для командиров, многие из которых вообще не имеют представления о танках, самолётах и даже о радиосвязи. Кроме того, тысячи танков требовали капремонта. Критиковал командный состав и новый начальник Генштаба Мерецков. С докладом «Характер современной наступательной операции» выступал Жуков, который, тем не менее, уделил немало времени и организации обороны. Общий итог подвёл Тимошенко. Новый нарком очень подробно разобрал действия вермахта при разгроме Франции и сделал вывод о том, что: «Красная армия ответит: 1) эффективной глубокой обороной; 2) контрударом механизированных соединений, способным быстро опрокинуть вермахт; 3) эффективной доктриной – оперативным искусством». Очень важны слова о «глубокой обороне» и контрударах мехкорпусами, которые вроде бы полностью соответствуют классической советской версии начала войны. Запомним их. Как и то, что недостатков в РККА масса и их необходимо было срочно устранять, однако до войны больше таких масштабных военных совещаний в СССР не проводилось. В начале же января 1941 года состоялась и «широко известная в узких кругах» штабная игра на картах, в которой Жуков разгромил Павлова, а затем его же и командующего Прибалтийским округом Кузнецова, действуя сначала за немцев, а затем за наших. Сталин, присутствовавший при этом, нервничал и негодовал, на прощание «разнёс» Мерецкова, заявил о том, что успех на войне зависит от умения командующего, и на этом все выводы были сделаны.
Одиннадцатая глава
Итак, мирные переговоры сорваны и столкновение неминуемо. Однако, вопреки мнению Гитлера, далеко не вся политическая и военная элита Германии готова была воевать с СССР. Тот же посол Шуленбург высказывался резко против, не отставали от него и многие высокопоставленные военные, которым пришлось двадцать с небольшим лет назад воевать с русской армией. Блюментритт пишет: «Рундштедт с самого начала был категорически против войны с Россией. Он довольно хорошо изучил Восток ещё в Первую мировую войну, и полученный опыт позволил ему сделать определенные выводы. Это была, с его точки зрения, непонятная страна с тяжёлым климатом, безграничными пространствами и плохими дорогами, а русский солдат был вообще непредсказуем. Именно поэтому Рундштедт поинтересовался у Гитлера, понимает ли тот, какой риск берет на себя, нападая на Россию. Главнокомандующий сухопутными войсками Браухич и начальник Генерального штаба Гальдер тоже испытывали серьезные опасения». На стороне Гитлера были непрекращающиеся в течение трёх лет победы, завоевания и присоединение новых земель, но верхушка вермахта продолжала сомневаться, и вопрос о нападении далеко не был решён.
В СССР же особенно волновалась армия, командованию которой глобальные трудности в войне с крохотной Финляндией на многое открыли глаза. Военные не собирались замалчивать эти проблемы, а сигналили наверх. На совещаниях по итогам и «обобщению опыта войны», к примеру, командарм Курдюмов и комиссар Запорожец всё это Сталину докладывали. Однако вождя преимущественно интересовали две темы: дезертиры и «самострелы». Вплоть до технологии. Запорожец рассказал, что солдаты стреляют себе в ноги или в левую руку, в мягкие ткани, чтобы себя не изувечить. На что Сталин со смехом замечает: «Дураков нет». Очень к месту юморок вождя, особенно когда в полках количество «самострелов» доходило до 10 % от всего личного состава. Не отставали от военных и Особые отделы ГУГБ НКВД, завалившие Сталина докладными следующего содержания: «В 56-й стрелковой дивизии до 70 % красноармейцев и младших командиров пошли в бой совершенно в негодной обуви, что привело к массовому обмораживанию. После каждого боя количество обмороженных превышало в 2–3 раза количество раненых и убитых»; «С 17 по 22 ноября бойцы и командиры 609-го стрелкового полка хлеба совершенно не получали, продфуража совершенно не было, лошадей кормили корой и ветвями деревьев, в результате чего лошади истощали и начался падёж». Естественно, всё это вызывало буквально возмущение солдат, оканчивающееся массовым мародёрством, дезертирством, «самострелами» и самоубийствами, а порой и убийством своих командиров в первом же бою. Однако Сталин не реагирует, оценивая войну положительно.
На этой войне он, кроме всего прочего, опробовал будущие методы, которые могли «помочь» в грядущем столкновении с Германией. Так, на 53-й день «Зимней войны» вышла совместная директива Наркомата обороны и НКВД, начинающаяся со слов: «Для обеспечения борьбы с возможными случаями дезертирства из действующих частей Красной армии, а также частей РККА, следующих в действующие армии», приказывалось выделять по взводу из каждой дивизии РККА для организации ещё не отрядов, а заслонов. Однако уже через три дня вышел другой совместный и совсекретный приказ за № 003/0093. В нём «для пресечения случаев дезертирства и в целях очистки тыла действующих армий от вражеского элемента» вводились уже реальные заградотряды – тогда их называли контрольно-заградительные отряды (КЗО) – исключительно из частей НКВД. Всего на финской войне действовали 27 КЗО НКВД численностью по 100 человек каждый. Так что к началу Великой Отечественной РККА и НКВД уже имели серьёзный опыт применения таких отрядов в условиях современной войны.
Неудачи же в войне Сталин полностью свалил на плечи командования армии. Репрессии против командного состава РККА шли полным ходом как в боевых условиях, так и по итогам. С большими потерями из окружения вырвалась 44-я стрелковая дивизия, однако вскоре её командир комбриг Виноградов, начальник штаба дивизии полковник Волков, а также полковой комиссар Пахоменко были осуждены полевым судом и расстреляны прямо перед строем дивизии, остатки которой они вывели из окружения. Два месяца (!) в котле сражались 18-я дивизия и 34-я танковая бригада. 28 февраля они начали прорыв, в ходе которого понесли страшные потери в так называемой Долине смерти у города Питкяранта, в результате чего из 15 тысяч солдат в живых осталось лишь 1300. Командир дивизии Кондрашов, сумевший вывести остатки своей части, был вскоре расстрелян. Командир 34-й танковой бригады Кондратьев также вывел остатки бригады из окружения, где ему стало известно о расстреле командования 44-й дивизии. Он собрал совещание в штабной землянке, по итогам которого сам Кондратьев, начштаба бригады полковник Смирнов, комиссар бригады Гапонюк и комиссар 18-й дивизии Израецкий совершили массовое самоубийство.
В любом случае всё это непотребство нужно было срочно исправлять. «Финские выводы» всё же подтолкнули Стали на снять «вечного» Клима Ворошилова с должности Наркома обороны, вместо которого был назначен Тимошенко, а также Шапошникова – его место занял Мерецков – с поста начальника Генштаба. Однако серьёзного анализа причин неудач Сталин не сделал. Попытки же военных повлиять на ситуацию успехом не увенчались, так как Сталин их попросту пресекал. Не укрылась эта тема и от немецких разведчиков. Кребс и Кестринг были весной 1941 года приняты Гитлером и заявили ему, что устранение недостатков, подтверждённых в ходе войны с Финляндией, идёт крайне медленными темпами. От фюрера разведчики отправились к начальнику Генштаба генералу Гальдеру, где ещё более категорично заявили, что никаких перемен к лучшему в Красной армии не происходит. Сталин же упорно продолжал свою игру и, нахваливая армию, давал понять всем, в том числе и военным, что всё в РККА хорошо, волноваться не стоит, а любой агрессор «получит по зубам». Не надо паниковать! Самое интересное при этом, что и Гитлер получал вполне себе правдивые сведения о состоянии Красной армии, но многое от его глаз Сталину удалось скрыть. Немецкая разведка предполагала наличие в РККА лишь десяти тысяч танков преимущественно устаревших моделей. Советскую авиацию же 5-й разведывательный отдел Генштаба люфтваффе под командованием полковника Шмидта оценивал весьма невысоко, что лишний раз подтвердила, согласно его выводам, та же финская война. И это было полностью на руку Сталину и его плану.
Однако командование армии отнюдь не собиралось даже затягивать, а не то чтобы замалчивать вопросы подготовки к новой войне во всех отношениях. Если новый нарком маршал Тимошенко пока вникал в дела, то другой «назначенец» молчать не стал. Кирилл Мерецков, ставший по итогам финской войны Героем Советского Союза, был назначен на должность начальника Генштаба в августе 1940 года. На совещании руководства армии и членов Политбюро в конце сорокового года он прямо заявил, что война с Германией неизбежна, необходимо переводить армию и страну на военное положение, укреплять границы. Кроме того, Мерецков подверг жёсткой критике существовавшие стратегические планы Генштаба, по которым главный удар Германии будет нанесён на Украину, заявив, что считает главными и самыми опасными западное – на Москву и северо-западное – на Ленинград. И что же в итоге? Мерецков был немедленно высмеян, назван Сталиным «главным паникёром» и уже в январе 1941 года снят с должности. Сам Мерецков, правда, в своих мемуарах пишет, что Сталин изначально назначал его «временно», но эта версия не выдерживает критики. Потому что Сталин про слова Мерецкова, пока только пониженного в должности, хорошо помнил. Двадцать третьего июня, на следующий день после начала войны, Мерецков был арестован. На допросах его зверски избивали, однако в сентябре Сталин его вдруг милует – видимо, стало понятно, что опытных командующих армиями катастрофически не хватает – и иезуитски отправляет именно на Ленинградский фронт. В 1944 году Кирилл Мерецков станет маршалом, однако второй звездой Героя даже за прорыв блокады Ленинграда Сталин его уже не наградит, хотя орденом «Победа» всё же отметит.
Что же касается начальника Генштаба, то приведём слова Микояна по поводу сменившего Мерецкова Жукова: «Даже подготовленный военный человек не смог бы так сразу выполнять функции начальника Генштаба. Нужно пробыть несколько лет на этом посту, чтобы охватить все проблемы по организации армии и тыла, производства и конструирования вооружения, создания оборонных заводов. Начальник Генштаба должен в этом разбираться. Откуда мог Жуков все это знать, понимать, как лучше поступать, если так скороспело поднимался по служебной лестнице?» Добавим, что и Мерецков, и Жуков, а в 1942-м году и Василевский всячески отказывались от назначения на должность начальника Генштаба и твёрдо заявляли об этом самому Сталину, считая свои военные знания и опыт недостаточными. Василевский в своих мемуарах даже пишет, что, решая вопрос о его назначении, Сталин – гнусный приёмчик, которым он часто пользовался, – передал ему письмо от генерала-преподавателя Академии, в котором тот возражал против его назначения. Василевский, кстати, не обиделся и с генералом полностью согласился, но это ничего не поменяло.
Однако, невзирая на молодость, отсутствие опыта, опасность немедленной опалы, а в дальнейшем и возможной угрозы жизни, генералы и маршалы перед войной намекали, грозили и пугали, как могли. Жуков и Тимошенко неоднократно предлагали Сталину различные варианты действий, а порой чуть не на коленях вымаливали разрешение, к примеру, на доукомплектование дивизий в апреле 1941-го до штата военного времени. На профессиональном языке то, что требуют от Сталина Нарком обороны и начальник Генштаба, называется «военная мобилизация», которую не следует путать с всеобщей. Военная призвана лишь дополнительно призвать на службу в армию такое количество солдат и офицеров, которое необходимо для укомплектования подразделений по штату военного времени. Ведь штат мирного времени допускает до 30–40 % отсутствия личного состава, что делает подразделение фактически не готовым к войне. И в апреле они у Сталина разрешение «выбивают», но лишь частичное. Жуков в своей книге пишет, что даже выполнение этих мер привело бы к тому, что дивизии могли быть укомплектованы личным составом «лишь до 8 тысяч солдат» при штате военного времени в 14 тысяч! То есть чуть больше, чем наполовину. Катастрофически не хватало офицеров. Вот что пишет в своих мемуарах Баграмян, бывший перед войной начальником оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа: «…только в войсках нашего округа к маю 1941 года недоставало более 30 тысяч человек командного и технического состава. Большие надежды в 1941 году, как я уже говорил, мы возлагали на майский выпуск военных училищ. Но молодые лейтенанты попали в части всего за несколько дней до начала войны и, конечно, не успели освоиться, изучить своих подчиненных». Директиву о приведении войск военных округов в полную боевую готовность Жуков и Тимошенко предлагали Сталину послать в войска уже четырнадцатого июня. Сталин всё категорически запретит, вплоть до ночи двадцать первого июня. Они же, а также нарком флота Кузнецов, как могли, боролись за осуждённых командиров и офицеров. Ручались за них. Представляли списки, в результате чего были освобождёны многие офицеры.
Итак, мы прекрасно понимаем, что Сталин знает о плане «Барбаросса» буквально с начала его разработки, не говоря уже о начале сосредоточении немецкой армии на своих границах, однако к началу 1941 года он всё так же непреклонен. Сталин во всеуслышание «не доверяет» ни своей разведке, ни военным, ни даже сигналам «на высшем уровне» лично от Черчилля и Рузвельта. Естественно, США и Англию волнуют в первую очередь свои интересы, согласно которым быстрый разгром СССР в их планы на данный момент не входит. Крушение восточного гиганта приведёт к такому усилению Германии, которое может поставить их на грань катастрофы. Германия немедленно получит необходимые нефть, уголь, металл, продовольствие и миллионы рабов. Плюс научный потенциал, контроль над всей Европой, Скандинавией, Балтийским и Чёрными морями, массу иных преимуществ. Поэтому они осторожно дуют в трубы и позванивают колокольчиками. В ответ – никакой реакции. Вспомним факты из речи Хрущёва: «Из опубликованных теперь документов видно, что еще 3 апреля 1941 года Черчилль через английского посла в СССР Криппса сделал личное предупреждение Сталину о том, что германские войска начали совершать передислокацию, подготавливая нападение на Советский Союз. Черчилль указывал в своем послании, что он просит "предостеречь Сталина с тем, чтобы обратить его внимание на угрожающую ему опасность". Черчилль настойчиво подчеркивал это и в телеграммах от 18 апреля и в последующие дни. Однако эти предостережения Сталиным не принимались во внимание. Больше того, от Сталина шли указания не доверять информации подобного рода с тем, чтобы-де не спровоцировать начало военных действий». Гитлер, согласно «Барбароссе», с зимы сорок первого начинает собирать армию на западных границах СССР, что, естественно, не остаётся незамеченным не только в СССР, но и вообще в мире. Снова Хрущёв: «Многочисленные факты предвоенного периода красноречиво доказывали, что Гитлер направляет все свои усилия для того, чтобы развязать войну против Советского государства и сконцентрировал большие войсковые соединения, в том числе танковые, поблизости от советских границ». А Сталин молчит.
С начала года советская разведка и дипломаты одно за другим приносит сведения о готовящемся вторжении. Вновь Хрущёв: «Следует сказать, что такого рода информация о нависающей угрозе вторжения немецких войск на территорию Советского Союза шла и от наших армейских и дипломатических источников… Так, например, в донесении из Берлина от 6 мая 1941 года военно-морской атташе в Берлине капитан 1 ранга Воронцов доносил: "Советский подданный Бозер… сообщил помощнику нашего морского атташе, что, со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Латвию. Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах…" В своем донесении от 22 мая 1941 года помощник военного атташе в Берлине Хлопов докладывал, что"…наступление немецких войск назначено якобы на 15.VI, а возможно, начнется и в первых числах июня…" В телеграмме нашего посольства из Лондона от 18 июня 1941 года докладывалось: "Что касается текущего момента, то Криппс твердо убежден в неизбежности военного столкновения Германии и СССР, и притом не позже середины июня. По словам Криппса, на сегодня немцы сконцентрировали на советских границах (включая воздушные силы и вспомогательные силы частей) 147 дивизий…"». А Сталин не верит ни мае, ни даже в июне.
Берлину по дипломатической линии лишь задаются вопросы о сосредоточении армии. В ответ идут невнятные отговорки Гитлера, что армия-де собирается в Польше для удара по Англии! Версия, несомненно, для клинических идиотов. Однако она Сталиным принимается. В смысле «принимается». Знаменитая «операция немецкой разведки по дезинформации» советского правительства, которая якобы «ввела Сталина в заблуждение» годна только для недалёких «пожирателей» сталинских мифов. Поверить во всё это невозможно, вот и мы не станем. Тем более что и советские деятели в них не верили, ведь Хрущёв в итоге делает единственно логичный вывод: «Несмотря на все эти чрезвычайно важные сигналы, не были приняты достаточные меры, чтобы хорошо подготовить страну к обороне и исключить момент внезапности нападения».
Двенадцатая глава
То, что Сталин прекрасно ориентируется в обстановке, иллюстрирует абсолютно вопиющий факт, когда 20 марта 1941 года Военная разведка представила ему ни много ни мало, а тот самый последний и действующий вариант плана «Барбаросса»! И не только ему одному, что ещё важнее. Мы уже об этом говорили. «Засветил» же этот факт в своих мемуарах первым никто иной, как Жуков.
Сделаем отступление и расскажем о том, почему к мемуарам Жукова «Воспоминания и размышления» следует относиться достаточно критически, но одновременно исключительно серьёзно. Как, впрочем, и ко всем мемуарам советских маршалов и генералов, изданным после войны. Критически потому, что они, несомненно, были подвергнуты жёстким правкам и цензуре. Во-вторых, авторы были живыми людьми, со своими слабостями, обидами, эго, и, естественно, о собственных ошибках или неудачах говорить не любили. Сегодня многие обвиняют только Жукова в присвоении заслуг в своих мемуарах, однако он был как раз достаточно самокритичен и чужих заслуг не крал. Тем не менее и он, и остальные генералы-маршалы не особенно рвались вспоминать свои военные неудачи и писали о них, скажем, кратко. Этому вполне способствовало и то, что цензура крайне неодобрительно относилась в целом к углублённому анализу военных неудач в годы Великой Отечественной вообще и в первые годы войны особенно, а концентрировалась – вполне в соответствии со сталинскими заветами – на победах. Если же кто-то из авторов всё же говорил о неудачах, то немедленно выяснялось, что виноваты в них другие командиры, но не они сами. У Шапошникова, Жукова и Василевского это были чаще всего командующие фронтами, у маршалов и генералов в ранге командующих фронтами – командиры армий, а у тех – комдивы и комкоры и далее по ранжиру.
Кроме того, здесь есть ещё одна определённая и отчётливая «ловушка», ведь многие мемуары впоследствии переиздавались через многие годы после смерти их авторов, и там «вдруг» оказывались те или иные дополнения, уточнения, а то и целые «пропавшие», а затем «найденные» отрывки из этих книг. Особенно это касается «Воспоминаний и размышлений» Жукова, которые выдержали уже 15 изданий и потихоньку-помаленьку из первой 730-страничной книги издания 1969 года разрослись до двух, а затем и трёхтомника. Безусловно, нельзя исключать того, что эти находки вполне себе достоверны и родственники Жукова, принимавшие активное участие в переиздании мемуаров, действительно что-то обнаружили в семейных архивах или восстановили начальные, не подвергшиеся цензуре варианты. Возможно? Вполне. С другой стороны, эти «возможности» и приведённые в поздних изданиях новые факты или цитаты Жукова яростно – и, если говорить начистоту, не без оснований – оспариваются многими историками. На самом же деле первое издание «Воспоминаний и размышлений» написано достаточно сухим языком и далеко не так эмоционально по сравнению с более поздними, дополненными. Здесь нет, к примеру, масштабной критики самого Сталина или подробного рассказа о довоенных репрессиях против командиров РККА. Именно поэтому в данной книге мы будем пользоваться мемуарами Жукова, а также других генералов и маршалов, изданными при жизни самих авторов. Такой подход, во-первых, исключит те самые поздние и оспариваемые «дополнения». Второй же простой и очевидной причиной опоры на первоисточники выступает та, что в годы выхода первых изданий были ещё живы многие свидетели, которые могли немедленно уличить авторов во лжи. Особенно это касается мемуаров Жукова, увидевших свет тогда, когда были живы Тимошенко и Василевский, Ворошилов и Будённый, Хрущёв и Молотов, Маленков и Микоян, Фитин, Голиков, Адмирал Флота Кузнецов и многие другие из числа тех, кто стоял очень близко к власти или буквально рядом со Сталиным. Тех, кто был свидетелем важнейших предвоенных событий и первых дней войны в Кремле. Заметим, что бурной реакции от них не поступило и никто Жукова во лжи глобально не обвинил, что говорит само за себя. Тем ценнее факты из этого издания 1969 года, которые крайне трудно сегодня оспорить и обвинить автора в предвзятости, а мы будем далее приводить отрывки, сверяясь с бумажным оригиналом книги буквально до запятой. Однако при таком подходе критикам придётся согласиться и с тем, что личные газетные, а тем паче телевизионные интервью или прижизненная переписка маршалов и генералов также имеет право считаться фактической. Невзирая даже на то, что в этом случае они нередко давали несколько – или серьёзно – иную версию событий, ранее описанную ими же самими в мемуарах. О причинах, побудивших авторов отходить от первоначальной версии, можно говорить или спорить долго, но важнее найти «золотую середину» и максимально объективно осветить те или иные факты, что мы и попробуем сделать на страницах книги.
Что касается серьёзного отношения, то, при всех вышеперечисленных отрицательных факторах, воспоминания маршалов и генералов Великой Отечественной – это всё-таки не художественная, а документальная литература. Другими словами, литература фактическая, пусть и представляла собою литературно обработанные варианты изложения материала для того, чтобы читателю было интересно и понятно. Мемуары – это в любом случае взгляд свидетелей на войну «изнутри». И здесь как раз то самое «ничто человеческое не чуждо» выступало в иной роли. Теперь уязвлённое честолюбие, пережитый страх смерти, обида или унижение маршалов и генералов, которые они когда-то пережили, заставляли их порой не только оправдывать самих себя, но и пытаться говорить о более серьёзных вещах. Каждый из них – в меру своей порядочности или просто способности аналитически мыслить – пытался всеми правдами и неправдами обойти цензуру и сказать о главном.
Итак, после анализа воспоминаний Жукова и Василевского, Кузнецова и Ерёменко, Баграмяна, Чуйкова, да и вообще всех мемуаристов Великой Отечественной приходит понимание того, что, так или иначе, их объединяет один и тот же глобальный вывод: существует страшная тайна или загадка войны. О которой они знают или по крайней мере догадываются. И о которой им никто не позволит сказать прямо. Она заключается в неожиданной, непредвиденной и практически невозможной катастрофе армии, которая, тем не менее, стала явью в 1941–1942 годах. А в итоге привела к немыслимым жертвам, затяжной тяжелейшей войне и запредельной цене победы. Совершенно чётко маршалы и генералы выделяют и главные периоды тайны-загадки: предвоенный – начало войны – первые полтора года. Все военные мемуаристы – с разной степенью «прозрачности» – намекают, что виноват в этой катастрофе кто-то повыше командования РККА. Очевидно, что адресуют они свои претензии-намёки лично Сталину, сосредоточившему в своих руках всю власть перед войной, а вскоре после её начала ставшему настоящим военным диктатором. Именно поэтому если в этих мемуарах основательно «покопаться», то можно обнаружить не только крупицы истины и «осколки» фактов, но серьёзные намёки и выводы, а порой настоящие исторические сенсации. Потому не вызывает удивления тот факт, что именно Сталин в послевоенные годы категорически не одобрял написание мемуаров маршалами и генералами. Василевский пишет: «Первые книги о войне были написаны вскоре после ее окончания. Я хорошо помню два сборника воспоминаний, подготовленных Воениздатом, – „Штурм Берлина“ и „От Сталинграда до Вены“ (о героическом пути 24-й армии). Но оба эти труда не получили одобрения И. В. Сталина. Он сказал тогда, что писать мемуары сразу после великих событий, когда еще не успели прийти в равновесие и остыть страсти, рано, что в этих мемуарах не будет должной объективности. При всей спорности этого утверждения оно не могло не сказаться какое-то время на моем отношении к написанию книги». Кто бы сомневался.
Ярким примером всего вышесказанного выступает маршал Андрей Ерёменко, который, вопреки строжайшим запретам Сталина, всю войну вёл дневник и одним из первых опубликовал свои мемуары. Андрей Иванович, дважды тяжело раненный и чуть не потерявший ногу, прошёл всю войну, но чувствовал себя обиженным и обделённым славой и наградами. Мы уже говорили про тот самый «человеческий фактор», и здесь он как раз «во всей красе». Основания у Ерёменко, кстати, вполне были: он рекордные девять раз в годы Великой Отечественной командовал различными фронтами, но войну окончил лишь с одной звездой Героя, а звание маршала получил только в 1955 году. О том, как Сталин виртуозно лишил командующего Сталинградским фронтом Ерёменко славы главного героя этой битвы, хотя он не только отстоял город, но и окружил армию Паулюса, мы ещё расскажем. Так что причины у маршала были, не считая натянутых отношений с Жуковым и Василевским. Первое издание его книги «В начале войны» было подготовлено ещё в 1963 году и с большими сокращениями, но через два года издано. И в этой книге маршал неожиданно сделал крайне серьёзные выводы о начальном этапе войны, о которых мы поговорим в свой черёд. Так сказать, «погнал волну». Почему? В том числе и потому, что Ерёменко в этом случае ничем не рисковал, ведь войну он начал командующим армией на Дальнем Востоке, а сменил арестованного Павлова в должности командующего разбитым Западным фронтом лишь через неделю после её начала. К тому же через пару дней он и вовсе стал замом нового командующего фронтом Тимошенко. Тем не менее комментарии Ерёменко о событиях на Западном фронте никак не вписывались в новую парадигму истории начала войны с её основными аксиомами: миролюбивая политика СССР – внезапное нападение – стратегическая оборона и временные неудачи армии – провал гитлеровского блицкрига. Именно в это бетонное идеологическое русло направляла брежневская система общественную и военную мысли. Кроме того, жёсткие выводы Ерёменко намекали не на вину командующих приграничными фронтами, а адресовывались «наверх», в Москву. Как минимум, претензии маршал предъявлял к Наркомату обороны и Генштабу РККА, то есть к Тимошенко и Жукову. Но всем было известно, под каким жёстким контролем они находились, так что вполне очевидно, что далее на «горизонте» маячила фигура Сталина. Таким образом, глобально ставился вопрос о провальном и катастрофическом начале войны вследствие военно-стратегических ошибок и практически преступных решений «сверху», за которые никто так и не ответил. Крайне неприятные вопросы поднял Ерёменко по теме, которая стала буквально «табу» для всей постхрущёвской истории войны.
На этом фоне неудивительно, что когда Жуков приступил к написанию мемуаров под девизом: «Я расскажу всю правду о войне без прикрас», то вызвал в Кремле страшный переполох, а его начавшуюся работу немедленно взяли под контроль Политбюро ЦК КПСС и КГБ. Напомним, что в 1957 году Хрущёв, после подавления Жуковым восстания в Венгрии, испугался его влияния и добился снятия маршала с поста министра обороны СССР, а заодно и исключения его из состава Центрального комитета КПСС. В следующем году Жукова отправили в отставку с сохранением квартиры, дачи, машины, большой пенсии и права ношения военной формы. При этом ему категорически запретили даже встречаться с ветеранами и выступать перед кем бы то ни было. После снятия Хрущёва «условия содержания» Жукова смягчили, но не кардинально. К 20-летию Победы наградили орденом Ленина, а вот парад посетить запретили категорически. Он выступил рецензентом нескольких фильмов и сам поучаствовал в съёмках, опубликовал несколько статей, дал интервью Симонову, которое тут же отредактировали, а затем вообще «положили на полку», и на том «свобода» закончилась. Так или иначе, но после десятилетней работы мемуары свои Жуков к 1966 году написал. При этом сотрудники КГБ неоднократно проникали на его дачу и переснимали уже написанные страницы, так что то, о чём он писал, было известно с первой страницы.
С изданием же книги вышла настоящая детективная история. Дело в том, что никто её печатать в СССР не то что не спешил, но и вообще не собирался. Рукопись два года пылилась в Агентстве печати «Новости», пока, до сих пор неизвестным образом, одна из копий не оказалась в Англии! Тамошний главный редактор, правда, не спешил её издавать, что на первый взгляд странно, не так ли? Ведь та самая «английская» рукопись Жукова-до цензуры, заметим – безусловно являлась бестселлером тогда и остаётся таковой даже сегодня, однако где-то затерялась и до публикации на Западе дело так и не дошло до сего дня. Странно? Нет, логично, потому что с приходом к власти Брежнева в середине 1960-х между Западом и СССР установился своеобразный историко-идеологический консенсус по вопросу Второй Мировой. Мифическая история этой войны полностью устраивала не только Сталина и пришедших за ним – за вычетом Хрущёва – партийных и советских деятелей и идеологов. Она же, в свою очередь, устраивала США и Англию. Бывшие союзники, а теперь «непримиримые» идеологические враги расположились на разных полюсах и с различными, но вполне удобными для обоих лагерей историческими выводами. Согласно которым и подготовил и развязал Вторую Мировую, а также Великую Отечественную войну один только Гитлер. На этом фоне в СССР почти забывали о сговоре в Мюнхене, а Запад взамен не особенно муссировал тему Пакта Молотова – Риббентропа. И те и другие соглашались, что вермахт на всех нападал «неожиданно», а также планируя исключительно блицкриги. Далее в нашей стране считали, что войну выиграл СССР при «некоторой» помощи союзников. А союзники, наоборот, что они с «некоей» помощью СССР. Каждый вполне комфортно жил в своём сказочном болотце и не особенно лез в соседнее. Мало того, в Англии прекрасно понимали: их правительство перед войной «заигралось» с Гитлером, что привело в итоге к весьма печальным последствиям для Британской империи. Так или иначе, но вскоре после Второй Мировой некогда самая могущественная империя стала терять колонии одну за другой, а глобально пальму мирового лидера забрали себе США. Именно поэтому сегодня в Англии гораздо более охотнее вспоминают о Первой Мировой, по итогам которой как раз Британская империя была главной победительницей со всех точек зрения. Так всё и существовало, не считая редких «прорывов», среди которых был совместный советско-американский документальный фильм 1978 года о Великой Отечественной. Который назывался ни много ни мало «Неизвестная война» и вызвал в США и вообще на Западе настоящий «взрыв мозга». Немудрено, ведь западные граждане в двадцати сериях узнали о событиях на Восточном фронте, о грандиозных битвах и немыслимых жертвах, а легенда о США и Англии как о главных победителях в войне стала рассыпаться на глазах. Впрочем, это был лишь эпизод, который ничего коренным образом не изменил и все остались «при своих».
Сложнее было с остальной Европой. Которая постаралась очень быстро «забыть» о том, что некоторые страны даже не попытались, как Австрия и Чехословакия, вообще противостоять агрессии и отстоять свою родину. А другим очень не хотелось вспоминать, как они воевали на стороне Германии в составе стран Оси или в батальонах СС, как работали «ударно» на своих заводах и фабриках, всемерно помогая Гитлеру. Как выдавали евреев и подпольщиков на расправу, как «трудились» в обслуге концлагерей. Впрочем, сначала Сталин, а затем и его преемники в СССР также не хотели заострять внимание на участии в войне на стороне Гитлера стран по крайней мере Восточной Европы и концентрировали внимание на движении Сопротивления и совместной борьбе Европы и СССР против Германии. Совершенно не случайно сегодня – вспомним ту же Резолюцию Европарламента – любые попытки исторических расследований воспринимаются буквально в штыки этим якобы оплотом свободы слова.
Не случайно в последние годы некоторые «историки» – попутный ветерок в их паруса дует конечно же с Запада – выдвигают очередную «горячую» версию о том, что-де Жуков выполнял в своих мемуарах некий «заказ» партийных идеологов, пришедших после снятия Хрущёва к власти и вознамерившихся «сочинить» новую историю войны. Сделав якобы именно Жукова главным творцом победы, всемерно принизив роль, естественно, Сталина. Вывод эти «историки» – а к этой группе бойко и, как всегда, «принципиально» подключился в своих последних работах и Резун – делают неожиданный, обвиняя именно Жукова во всех бедах войны. На том основании, что он и до войны ничего не предпринял, и в начале войны принимал решения неверные, а порой и преступные, да и в дальнейшем только и делал, что «забрасывал немца трупами». Такой вот «мясник», «хам» и «приготовишка». Почему? Потому что эти «историки» прекрасно понимают: нужен крайний и главный виновник, чтобы отвести удар от Сталина. Поэтому именно Жуков, бывший «целых» – а на самом деле неполных – пять месяцев до войны начальником Генштаба, а потом ещё и назначенный на должность Заместителя Верховного Главнокомандующего, во всём и «виноват». О том, что именно Сталин назначил Жукова на эти должности, они конечно же «забывают». Особенно старается Резун, чей «Ледокол» за последние годы разнесён в щепки рассекреченными данными СВР, а над его кумиром Сталиным, семнадцать лет до войны и в первые полтора военных года единолично руководившим страной и армией, сгущаются серьёзные тучи.
Однако абсолютно ясно, что Жуков отнюдь не выполнял некий «партийный заказ», а, наоборот, смертельно испугал кремлёвских идеологов. Зададим вопрос: а что же так обеспокоило новое партийное руководство страны, которое обратило пристальное внимание на историю Великой Отечественной в связи с 20-летием Победы? И начало загонять историю войны в её «классическую» короткую и поэтапную версию, которая начиналась уже с внезапного или неожиданного нападения 22 июня 1941-го. Тогда выяснится, что мемуары Жукова как раз абсолютно Брежневу – Суслову были не только не нужны, но и опасны! Ведь во время хрущёвской «оттепели» Симоновым и другими были заданы крайне неудобные вопросы, касающиеся предвоенного периода и начала войны, «внезапного нападения» и действий РККА летом 1941 года. Вот что говорил в своём докладе сам Хрущёв: «В ходе войны и после нее Сталин выдвинул такой тезис, что трагедия, которую пережил наш народ в начальный период войны, является якобы результатом „внезапности“ нападения немцев на Советский Союз. Но ведь это, товарищи, совершенно не соответствует действительности. Как только Гитлер пришел к власти в Германии, он сразу же поставил перед собой задачу разгромить коммунизм. Об этом фашисты говорили прямо, не скрывая своих планов. Для осуществления этих агрессивных планов заключались всевозможные пакты, блоки, оси, вроде пресловутой оси Берлин – Рим – Токио. Многочисленные факты предвоенного периода красноречиво доказывали, что Гитлер направляет все свои усилия для того, чтобы развязать войну против Советского государства, и сконцентрировал большие войсковые соединения, в том числе танковые, поблизости от советских границ». Серьёзный вопрос, не правда ли? А для новой сказочной версии войны, которую начали создавать Брежнев и Суслов, просто убийственный.
И уже на этом фоне воспоминания Жукова – а при всём уважении к Ерёменко слова «маршала Победы», бывшего в начале войны начальником Генштаба, имели гораздо более серьёзный вес – были как раз крайне опасны. Но, деваться некуда, после «английской эпопеи» с рукописью мемуары решили всё-таки издать в СССР уже в срочном порядке. При этом книгу подвергли многочисленным правкам, на которые Жуков в итоге согласился, хотя поначалу категорически не желал этого делать. Однако понял, что иного выхода нет, да и сам он отнюдь не был диссидентом и до конца жизни добивался снятия с себя обвинений по партийной линии. Поэтому мемуары Жукова, конечно, серьёзно отредактировали, но, как водится, спешка и штурмовщина после глобальной секретности не пошли на пользу рецензентам.
Тринадцатая глава
Кое-что важное, если не архиважное, они не заметили и пропустили в печать, а именно: два разведывательных предвоенных сообщения. В первом случае речь идёт о Главном разведывательном управления РККА, которым перед войной руководил генерал Филипп Голиков. Подчинялся Разведупр напрямую начальнику Генштаба РККА, и за год своей службы Голиков сменил трёх руководителей: Шапошникова, Мерецкова и Жукова. Тем не менее информация от Голикова поступала не только в Генштаб, но и напрямую ещё нескольким адресатам, среди которых были Сталин, Молотов, а также Нарком обороны. Итак, Жуков пишет буквально следующее: «20 марта 1941 года начальник разведывательного управления генерал Ф. И. Голиков представил руководству доклад, содержавший сведения исключительной важности. В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они последовательно отражали разработку гитлеровским командованием плана „Барбаросса“, а в одном из вариантов, по существу, отражена была суть этого плана. В докладе говорилось: „Из наиболее вероятных военных действий, намечаемых против СССР, заслуживают внимания следующие: Вариант № 3, по данным… на февраль 1941 года… для наступления на СССР, написано в сообщении, создаются три армейские группы: 1-я группа под командованием генерал-фельдмаршала Бока наносит удар в направлении Петрограда, 2-я группа под командованием генерал-фельдмаршала Рундштедта – в направлении Москвы и 3-я группа под командованием генерал-фельдмаршала Лееба – в направлении Киева. Начало наступления на СССР – ориентировочно 20 мая“. По сообщению нашего военного атташе от 14 марта, указывалось далее в докладе, немецкий майор заявил: „Мы полностью изменяем наш план. Мы направляемся на восток, на СССР. Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы будем непобедимыми и можем продолжать войну с Англией и Америкой…“ Наконец, в этом документе со ссылкой на сообщение военного атташе из Берлина указывается, что „начало военных действий против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года“».
Нет сомнений, что в руки советской военной разведки уже в феврале (!) 1941 года попала главная часть реального плана «Барбаросса» со стратегически важными данными о нанесении не одного, не двух, а трёх главных ударов вермахта! С реальными фамилиями командующих группами армий вермахта и с датами нападения начиная с 15 мая. Можно ли верить Жукову в этом вопросе? Может быть, Жуков лжёт, в чём его неоднократно обвиняли, и в очередной раз пытается перевалить ответственность со своей головы на разведку? Ведь далее он пишет: «Однако выводы из приведенных в докладе сведений, по существу, снимали всё их значение и вводили И. В. Сталина в заблуждение. В конце своего доклада генерал Ф. И. Голиков писал: „1. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов действий весной этого года считаю, что наиболее возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. 2. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки“». То есть как раз ответственность переваливает.
Однако если бы дело было именно так, то Жукову вообще не следовало поднимать этот крайне спорный эпизод, не правда ли? Тем более что ставший после войны маршалом Филипп Иванович Голиков, умерший только в 1980 году, легко мог в этом случае опровергнуть Жукова. Так что не сходится эта версия. Отметим также, что эпизод с докладом Голикова вошёл и в фильм-эпопею «Битва за Москву». И всё же сомнения остаются, однако их развеивает во-первых сам Голиков. Несколько лет назад по дневникам, записям и воспоминаниям маршала была составлена книга, озаглавленная «Записки начальника разведупра». И, хотя нам всем хотелось бы, чтобы о своей работе в военной разведке – и особенно о предвоенном периоде – её руководитель вспомнил бы больше, чем на одну главу, но что имеем, то имеем. Тем не менее Голиков признаёт «один раз допущенную серьёзную ошибку в выводе», подтверждая, таким образом, версию Жукова. В этой же книге Голиков развеивает и другой распространённый миф о том, что-де Жуков и вообще руководство Наркомата обороны не считалось с Разведупром, ставило под сомнение деятельность самого Голикова и в итоге не реагировало на разведданные: «По периоду своей работы в РУ не помню ни одного случая, когда бы наше донесение подвергалось критике, опротестованию, а тем более отмены со стороны инстанций, которым Разведупр подчинялся и которые обязаны были им руководить». Мало того, Голиков самым активным образом участвовал в подготовке к войне и выступал с докладами на заседании Главного Военного Совета и совещании РККА. В то же время Голиков пишет: «Бывать в период работы в разведке у И.В. Сталина и лично докладывать ему мне не приходилось. Вызывать меня к себе он, как видно, не видел необходимости». В этом нет ничего удивительного, такая же ситуация была и с начальником Иностранного отдела Фитиным, но и тот и другой, как мы уже говорили, направляли свои разведдонесения Сталину как первому адресату.
Итак, Голиков признаёт ошибку. Или всё-таки «ошибку»? Ответить на этот вопрос позволит рассекреченный ныне полный текст того самого доклада Голикова от 20 марта 1941 года, фрагмент которого привёл в своих мемуарах Жуков.
Доклад Начальника Разведуправления Генштаба Красной Армии генерал-лейтенанта Голикова в НКО СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Высказывания, (оргмероприятия) и варианты боевых действий Германской армии против СССР»
Большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной 1941 года, исходит от англо-американских источников, задачей которых на сегодняшний день, несомненно, является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией. Вместе с тем, исходя из природы возникновения и развития фашизма, а также его задач – осуществление заветных планов Гитлера, так полно и «красочно» изложенных в его книге «Моя борьба», краткое изложение всех имеющихся агентурных данных за период июль 1940-го – март 1941 года заслуживают в некоторой своей части серьезного внимания.
За последнее время английские, американские и другие источники говорят о готовящемся якобы нападении Германии на Советский Союз. Из всех высказываний, полученных нами в разное время, заслуживают внимания следующие:
1. Геринг якобы согласен заключить мир с Англией и выступить против СССР.
2. Японский ВАТ передает, что якобы Гитлер заявил, что после быстрой победы на западе он начинает наступление против СССР.
3. В Берлине говорят о каком-то крупном разногласии между Германией и СССР. В связи с этим в германском посольстве говорят, что после Англии и Франции наступит очередь за СССР.
4. Турецкая газета «Сон Поста» сообщает, что германский командующий войсками в Австрии, обращаясь к войсковым частям, заявил, что главным врагом Германии являются русские и что на германских солдат может быть возложена задача еще большего расширения границ Германии.
5. Американский посол в Румынии в своей телеграмме в Вашингтон сообщает, что Джигуржу имел беседу с Герингом, в которой последний сказал, что если Германия не будет иметь успеха в войне с Англией, то она вынуждена будет перейти к осуществлению своих старых планов по захвату Украины и Кавказа.
6. Германский ВАТ высказал, что после окончания войны с Англией немцы помогут Финляндии получить обратно потерянную территорию.
7. Гитлер намерен весною 1941 года разрешить вопрос на Востоке.
8. В беседе с югославским ВАТ в Москве последний говорил, что Финляндия – это зона интересов СССР. Недавно советник германского посольства в Москве Пильгер прямо сказал, что финны храбро дрались зимой и они их русским не отдадут. За последнее время немцы подстрекают финнов против русских. Финны уже поговаривают о том, что «граница с СССР еще не окончательная, посмотрим, что будет после заключения мира в Европе».
9. Югославский ВАТ считает, что среди немцев имеются два течения: первое – СССР в настоящее время слаб в военном и внутреннем отношениях и настаивают на том, чтобы использовать удобный момент и вместе с Японией покончить с СССР и освободиться от пропаганды и от «дамоклова меча», висящего все время над Германией; второе – СССР не слаб, русские солдаты сильны в обороне, что доказано историей. Рисковать нельзя. Лучше поддерживать с СССР хорошие отношения.
10. Английские и французские журналисты утверждают, что в Германии происходит какая-то расстановка сил. В Стокгольме велись переговоры между Германией и Англией, представителем от Англии был Ллойд Джордж, но что эти переговоры ни к чему не привели. Греческий журналист сообщил, что в Мадриде в июле 1940 года имели место переговоры между Германией и Англией и что Германия недовольна СССР, так как последний предъявляет какие-то новые требования.
11. Данные Германией и Италией гарантии о границе Румынии направлены исключительно против СССР. Эти гарантии дополнены военным соглашением между Германией и Румынией. Этими гарантиями проникновению СССР на Балканы будет положен конец.
12. Министр иностранных дел Румынии о мире между Германией и СССР. Гитлер хочет мира, так как его терпение к СССР почти истощилось и что СССР полностью будет подготовлен к войне только в 1942 году. Он же сказал, что неофициально мирные переговоры ведутся в Стокгольме, Мадриде и Ирландии.
13. Среди немецких офицеров ходят слухи о том, что в феврале 1941 года в своем выступлении в «Спортпаласе» на выпуске офицеров Гитлер сказал, что у Германии имеются три возможности использования своей армии в 228 дивизий – для штурма на Англию, наступление в Африку через Италию и против СССР.