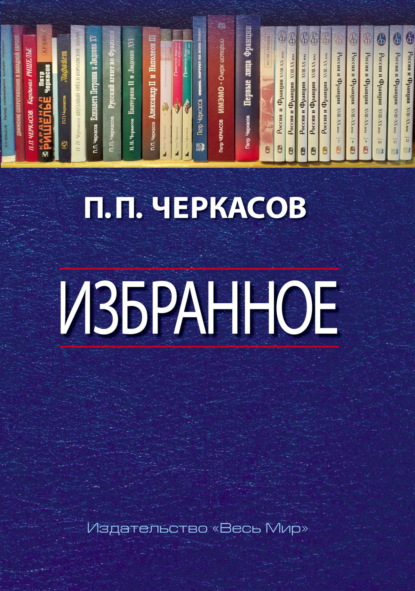
Полная версия:
Избранное. Статьи, очерки, заметки по истории Франции и России

Петр Черкасов
Избранное. Статьи, очерки, заметки по истории Франции и России

© П.П. Черкасов, 2021
© Издательство «Весь Мир», 2021
Вместо предисловия[1]
Пётр Петрович, знаю, что ваша основная профессиональная тема – это Франция и ее отношения с Россией. А как вышло, что именно эта тема стала для вас основной?
– Дело в том, что родился я вскоре после окончания войны, когда еще остро ощущалась память о ней. Мой отец прошел всю войну до Будапешта, был ранен.
Не удивительно, что все немецкое в моем детском сознании ассоциировалось с фашизмом, и потому симпатий вызывать не могло. Когда пошел в пятый класс, встал вопрос о выборе иностранного языка – немецкий или французский? Разумеется, я сразу же выбрал французский.
Мои детские годы прошли в военных гарнизонах, где служил отец. То ли в четвертом, то ли в пятом классе в гарнизонной библиотеке мне попались «Три мушкетера» Александра Дюма, и я был, как говорят французы, «enrolé» – «завербован». Именно тогда возникла любовь к Франции, ее истории и литературе. Начиная с Дюма, читал переводную французскую литературу, которую разрешалось давать детям и подросткам. К сожалению, в те годы нельзя было самому пробраться к книжным полкам. За библиотечной стойкой сидела строгая дама, которая жестко регламентировала, что тебе надо читать, а что не надо. Поэтому, скажем, Мопассан был для нас под запретом. Да я и не подозревал тогда о существовании такого писателя.
А по окончании школы поступил на исторический факультет, и уже на первом курсе выбрал специализацию по Франции, чем немало удивил кафедру. Представьте: является первокурсник и заявляет, что хочет заниматься современной Францией, в то время как специализация в университете начиналась только с третьего курса. На кафедре, конечно, изумились, но все-таки пошли мне навстречу. Я работал по избранной теме все годы учебы, и подготовил диплом, посвященный франко-западногерманским отношениям в период Пятой республики, когда у власти во Франции находился генерал де Голль.
Кстати, в студенческие годы мне посчастливилось своими глазами увидеть де Голля, который летом 1966 года приезжал в Москву с официальным визитом. Я оказался среди многотысячной толпы на площади перед Моссоветом, с балкона которого выступал генерал де Голль. Помню, шел проливной дождь, но народ, заполнивший всю проезжую часть улицы Горького (Тверскую), не расходился и громко приветствовал президента Франции. Автотранспорт и троллейбусы остановились, По-моему, это был единственный случай самоорганизации москвичей, когда райкомы партии никого насильно не сгоняли на мероприятие. Люди сами пришли. Огромная толпа стояла под дождем все время, пока выступал де Голль.
– Он тоже под дождем стоял? Над ним держали зонтик?
– У него был рост под два метра, поэтому – да, сопровождающие пытались все время подпрыгивать и поднимать над ним зонтик, но не очень получалось. Хорошо помню его последние слова: «Да здравствует вечная Россия и вечная Франция!» Это был 1966-й год, мне было 20 лет, и я, конечно, остался под большим впечатлением от того, что увидел великого человека, так непохожего на наших тогдашних бесцветных вождей.
Потом – Институт мировой экономики международных отношений Академии наук СССР, аспирантура, кандидатская на тему: «Политика Франции в Юго-Восточной Азии после 1954 года». Это когда Франция лишилась своих колониальных владений – Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Затем – работа в течение 20 лет в ИМЭМО, а в 87-м году я перешел в Институт всеобщей истории. Хотя в ИМЭМО, по-прежнему, остаюсь на полставки.
– Ведь он сейчас носит имя Примакова?
– Да, Евгений Максимович семь лет был у нас заместителем директора, а позже, уже в середине 80-х, вернулся директором Института.
Почему я перешел к изучению истории российско-французских отношений?
Все началось в 1989 году, когда, став «выездным», я оказался на франкосоветском коллоквиуме, посвященном двухсотлетию Французской революции. Тема коллоквиума – «Якобинство и большевизм». Мне поручили вести одно из заседаний. Теперь это называется модератор.
После окончания заседания ко мне подошел на фуршете, или, как говорят французы, на «бюффе», некий месье и представился сотрудником французского издательства, которое хотело бы заказать мне книгу или перевод уже имеющейся у меня работы. В то время у меня была готовая книга «Генерал Лафайет». Именно ее я и предложил. Издатель поморщился и сказал: «Вы знаете, месье, Французская революция у нас изучена вплоть до самого нижнего уровня – до департаментов, городов и сельских коммун. Поэтому, вряд ли вы сможете сказать здесь что-то новое».
Меня эта мысль поразила. Мы ведь жили в закрытом государстве, на периферии мировой исторической науки. Редко кого из нас выпускали за границу, чтобы поработать в зарубежных архивах и библиотеках. Более того, нас обязывали вести непримиримую идейную борьбу с «буржуазной» историографией, которая, понятное дело, все извращает и фальсифицирует. Свою скромную миссию мы тогда видели исключительно в историческом просвещении собственных граждан, особенно молодежи. Но то, что мне сказал месье Бонжини – так звали издателя – запало в душу. Я подумал – а зачем я вообще занимаюсь исследованиями, если они имеют столь ограниченную степень научной ценности? Как дальше жить, как работать?
И, по здравом размышлении, пришел к выводу, что надо заниматься исследованиями на стыке истории России и Франции, где уж точно можно найти и сказать что-то новое, свое. Так я и занялся изучением истории российско-французских отношений.
В те годы (1980-е) можно было достаточно свободно работать, скажем, в архиве Министерства иностранных дел СССР досоветского периода. Теперь он называется Архив внешней политики Российской империи. В принципе, там можно было получить все нужные материалы. Я читал донесения русских послов из Парижа, но мне не с чем было их сопоставить. Получалась односторонняя, во многом искаженная картина.
К счастью, уже при Горбачеве мы постепенно стали выезжать за границу и работать во французских архивах. Это, конечно, был прорыв. Мы, историки-международники, получили, наконец, возможность смотреть на объект своего исследования с двух сторон. Можно сказать, что как исследователь, работающий с первоисточниками, я состоялся именно в начале 1990-х, хотя за спиной было двадцать лет работы с печатными изданиями – французской периодикой, статистикой, парламентскими дебатами, мемуарной и научной литературой. Теперь же у меня появилась возможность поисков и сопоставления российских и французских архивных документов.
Начал я с XVIII века, поскольку регулярные отношения между Россией и Францией установились с визита Петра I в Париж в 1717 году.
– Не такие уж долгие отношения,
– Да, хотя первый французский посол побывал в Москве еще в 1586 году, при царе Федоре Иоанновиче, сыне Ивана Грозного. Но это было не постоянное посольство в нынешнем его понимании. Это была разовая поездка без каких-либо последствий. Регулярные, т. е. постоянные дипломатические отношения между Россией и Францией возникли только триста лет назад. Я и пошел в своих исследованиях по хронологии, начиная с Петра иногда, правда, от нее отступая. В середине 90-х годов выпустил первую книгу по этой проблематике. Называлась она: «Двуглавый орел и королевские лилии».
– Двуглавый орел – это понятно, а королевские лилии? Герб Франции?
– Да, это символ династии Бурбонов, отраженный в гербе Французского королевства – три желтые лилии на синем фоне. Эта книга была написана уже на архивных источниках двух стран. Потом у меня вышла книга «Екатерина II и Людовик XVI». Как и предыдущая, она была подготовлена на двусторонних источниках из архивов Москвы и Парижа. А потом появилась третья монография – «Елизавета Петровна и Людовик XV».
– А «Екатерина Ни Вольтер», например?
– Этой темой у нас в Институте занимается группа исследователей под руководством доктора исторических наук Сергея Яковлевича Карпа, руководителя Центра по изучению XVIII века. Сотрудники С.Я. Карпа изучают как раз идейные и культурные связи между Россией и Францией в век Просвещения.
– Ведь эти связи всегда были достаточно глубокими.
– Конечно, в отличие от дипломатических, они, действительно, более глубокие и более содержательные. С двусторонней дипломатией у нас с Францией часто не ладилось.
– А потом вы написали книгу о Наполеоне III. Не самая популярная фигура. Почему именно о нем?
– Дело в том, что он не только в нашей, но и во французской литературе был, можно сказать, оклеветан. Главная к нему претензия на его родине – он проиграл войну с Пруссией, которую вообще не надо было начинать. И вот за то, что он ее проиграл, за то, что у Франции отобрали Эльзас и Лотарингию и наложили на нее многомиллиардную контрибуцию, французы Наполеона III терпеть не могут до сих пор.
– Несмотря на ваши усилия?
– Ну, мои усилия здесь не играют никакой роли. Разве что для наших читателей, интересующихся историей Франции. В свое время Карл Маркс дал «каноническую» оценку Наполеону III, буквально «уничтожив» его. А возражать Марксу, как и Ленину, в СССР было совершенно невозможно и даже опасно.
В самой Франции были два гиганта – Виктор Гюго и Эмиль Золя, которые так «приложили», говоря неакадемическим языком, Наполеона III, что их «приговор» не подвергался сомнению до самого последнего времени, когда среди французских историков начался пересмотр оценки деятельности Наполеона III.
– Но это все-таки художественное слово.
– Дело в том, что художественное произведение всегда оказывает гораздо большее влияние на умы, на сознание, чем любая научная монография. Если мы когда-нибудь научимся писать свои книги как Золя и Гюго, это было бы прекрасно. Но не уверен, что когда-нибудь это случится.
– Пушкин так написал о Сальери, что теперь его все считают отравителем, хотя это не достоверный исторический факт.
– Вот именно. В 2008 году исполнилось двести лет со дня рождения Наполеона III. Я в это время был во Франции в научной командировке, а в один из вечеров оказался в гостях у мадам Элен Каррер д’Анкосс. Это глава Французской академии, крупнейший русист.
– Интересно, на каком языке вы с ней разговариваете?
– С ней я разговариваю на русском, поскольку она русского происхождения, точнее русско-грузинского: среди ее предков – графы Комаровские, Панины, Палены, Орловы и много кто еще из русских аристократов. Она родилась в эмиграции, в русской среде.
Так вот, я у нее поинтересовался, почему во Франции юбилей Наполеона III был всеми проигнорирован? «Не всеми», – ответила мадам Каррер д’Анкосс.
Она мне рассказала, что в канун этого юбилея Министерство обороны Франции отправило самолетом небольшую делегацию в Лондон, в окрестностях которого умер и был похоронен бывший император. В делегацию входили два-три генерала, кто-то из представителей Императорского дома Франции (там есть и такой) и она, как Постоянный секретарь Французской академии. Прилетели, отслужили молебен, возложили цветы и вернулись обратно. Никаких следов в СМИ этот неофициальный визит не оставил.
Для себя я решил, что займусь Наполеоном III и его отношениями с Александром II. Они были современниками и возглавляли две крупнейшие европейские державы. Оба они – значительные фигуры. С одной стороны, «Царь – Освободитель», можно сказать, наш русский Линкольн. С другой – государственный деятель, способствовавший модернизации Франции, первым из европейских правителей пытавшийся проводить социальную политику.
В результате нескольких лет работы в 2015 году появилась моя монография «Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз». Эту книгу я писал, как и предыдущие работы, на первоисточниках. В ней представлена достаточно детальная картина русско-французских отношений от окончания Крымской войны в 1856 году до падения Второй бонапартистской империи в 1870-м.
– Почему же союз так и не состоялся?
– Когда французы водрузили свой триколор (а англичане – «Юнион Джек») на Малаховом кургане в Севастополе, стало ясно, что мы проиграли Крымскую войну. Это стало сильнейшим ударом по нашей национальной гордости. И в этот самый момент один из победителей, Наполеон III, предлагает свою дружбу Александру II, только что вступившему на престол.
Почему он это сделал? Что имел в виду? Как развивалось русско-французское сближение, и почему из этого ничего не получилось? Когда и почему наша дружба закончилась? Все эти вопросы меня и заинтересовали.
А не получилось ничего по той простой причине, что в очередной раз, в 1863 году, восстали поляки, стремившиеся к национальной независимости, а мы их в очередной раз жестоко подавили. Во Франции к этому отнеслись, мягко говоря, неодобрительно. Около российского посольства в Париже устраивались многочисленные протестные акции. Французы единодушно осудили карательную операцию русской армии и требовали наказать Россию, вплоть до объявления ей войны.
Наполеон III сказал тогда нашему послу: «Я не могу пойти против общества». Да и сам французский император разделял общественные настроения. Столь ясно выраженная позиция и сорвала едва начавшееся сближение между Россией и Францией. Разумеется, были и другие причины, которые я исследовал в своей работе.
– А у нас всегда могли пойти, да и сейчас нередко могут,
– В этом, кстати говоря, принципиальное отличие нашей политической культуры и традиции от политической культуры и традиций Франции. У нас часто в истории игнорировали мнение общества, и эта традиция в определенной степени сохраняется до сих пор. Но все же, надо признать, что современное российское общество качественно отлично от советского общества 1960—1970-х годов, не говоря уже о сталинских временах.
Во Франции же всегда было по-другому. Почему? Этим вопросом я постоянно задаюсь в своих исследованиях.
Сейчас вот приступаю к новой книге с рабочим названием: «Россия и становление Третьей республики во Франции в 1870-е годы».
– Это время после отречения Наполеона III?
– Да, в результате поражения Франции во Франко-прусской войне в начале сентября 1870 года пала Вторая империя. Наполеон III вынужден был отречься, отправился в изгнание, где и умер. На обломках Второй империи родилась Третья в истории Франции республика.
Теперь вот изучаю этот исторический период, а параллельно завершаю книгу «Первые лица Франции. От Генриха IV до Эмманюэля Макрона». Она будет адресована широкому читателю, которому может быть интересна история Франции последних четырехсот лет.
Помимо собственно исследовательской работы, много лет занимаюсь публикацией найденных в архивах документов, а также редактирую выходящий с 1995 года тематический сборник «Россия и Франция XVIII–XX века». Вышло в свет уже двенадцать томов. В сборнике представлены статьи и документальные публикации по всему хронологическому и проблемному диапазону истории отношений между Россией и Францией. Среди наших авторов, как российские, так и иностранные, прежде всего французские, авторы.
– Мы сказали о том, что культурные отношения России и Франции всегда были чрезвычайно глубокими. Это проявлялось даже в том, что дворяне говорили по-французски зачастую чаще, чем по-русски, У Пушкина в лицее была кличка «Француз», Почему, как вы думаете? Эта традиция ушла? Не в этом ли причина упадка нашей культуры?
– Общее падение культуры, конечно, имеет место, но дело не только в этом. Действительно, французский язык преобладал вплоть до конца XIX века. Где тогда была Франция и где – Соединенные Штаты? Америку долго всерьез не воспринимали. В XIX и тем более в XVIII веке это была какая-то далекая периферия.
А Париж на протяжении двухсот лет считался «столицей мира», законодателем политической и всякой другой моды. Поэтому именно французский был языком международного общения. На нем велись переговоры, составлялись документы, тексты международных договоров. Дело порой доходило до абсурда. Например, вся дипломатическая переписка МИД России, по крайней мере, с середины XVIII века, велась только на французском языке. Французским влиянием была пронизана вся наша правящая и интеллектуальная элита. Вплоть до захудалых помещиков, которые сидели у себя в деревне, – они тоже старались говорить. Правда, на удивительной смеси «французского с нижегородским», как справедливо заметил один из наших классиков.
И лишь в начале XX века в России началось «возвращение к национальным истокам», когда и русские дипломаты стали, наконец, вести официальную переписку на родном языке, когда Санкт-Петербург был переименован в Петроград.
Но преобладающее французское влияние, безусловно, имело положительную сторону. С XVIII века в Россию потоком шла французская литература. Люди, умевшие читать, желавшие получить знания, читали не только романы, как барышни в «дворянских гнездах», но и французских мыслителей, просветителей, другую серьезную литературу. Так и получилось, что формирование русской интеллектуальной элиты происходило под сильным французским влиянием. Кстати, под этим влиянием вырос и русский либерализм, и революционный радикализм. Наши либералы и революционеры – это последователи французских учителей, «замутивших» у себя на родине четыре революции.
– На основе французской культуры?
– Да, но не только, конечно, французской.
Преобладающее французское влияние пошло на спад после Второй мировой войны, одновременно с общим ослаблением Франции, потерпевшей в 1940 году сокрушительное поражение.
На эту тему есть исторический анекдот. Когда фельдмаршала Кейтеля привели подписывать капитуляцию в Карлсхорсте, он вдруг увидел за столом, рядом с Жуковым, Теддером и Спаатсом, французского генерала де Латра де Тассиньи. Говорят, Кейтель выронил монокль и воскликнул, глядя на француза: «Как, и они тоже нас победили?!» Это, конечно, исторический анекдот, но он о чем-то говорит.
Честь бесславно капитулировавшей в 1940 году Франции спас генерал де Голль и участники французского Сопротивления, не смирившиеся с поражением и продолжившие борьбу за освобождение своей страны. В результате Франция оказалась в числе держав-победительниц.
И все же после войны влияние Франции, в том числе и культурное, стало заметно снижаться. Некоторое время, по инерции французский язык еще оставался языком международного общения, но он неуклонно вытеснялся английским или, скажем так, – «американским». Думаю, мое поколение было последним, кто еще успел испытать сильное французское культурное влияние, прежде всего, через художественную литературу, шансон (не путать с нашим полублатным песенным жанром) и кинематограф.
– Как же без «Фантомаса»-то жить!
– «Фантомас» и «Анжелика», были, пожалуй, последними всплесками интереса массового зрителя к французскому кино. А более взыскательный советский зритель увлекался кинематографом «Новой волны», смотрел фильмы Роже Вадима, Рене Клемана, Марселя Карне…
А потом Европу буквально накрыла волна американизации – с роком, джинсами и кока-колой. Французский язык потерял прежние позиции. В школах и университетах во всех странах упор стал делаться на английский язык, что мы сейчас и имеем. То же самое, кстати, происходит и во Франции.
– Неужели забывают французский?
– Да нет, конечно. У французов развито чувство национального достоинства. Некоторые даже гордятся тем, что не любят изучать языки, как, между прочим, и американцы. Но одновременно, французская элита, да и молодежь, понимают, что без английского сегодня никуда.
– А как вы думаете, что в российско-французских отношениях наиболее ценно?
– Когда я только начинал в середине 1960-х изучать Францию, в нашей печати, т. е. в пропаганде, вдруг заговорили об «особом характере» отношений между СССР и Францией. Действительно, тогда, при де Голле, с середины 1960-х годов, возникли некие особые отношения между СССР и Францией. Но это имело очень простое объяснение. Де Голль дистанцировался от Вашингтона и военной организации НАТО. При этом, надо подчеркнуть, он никогда не был подвержен антиамериканизму, как это у нас тогда представляли. Он был патриотом Франции – великим патриотом. Де Голль хотел, чтобы США, которые стали доминировать в западном сообществе, уважали его страну, ее место в мире, не пытались ее унизить или подчинить своему влиянию, как Южную Корею. Не добившись понимания со стороны Вашингтона, де Голль решил опереться на СССР в борьбе за место Франции в мире. Но при этом он никогда не играл в нашу игру. СССР ему был нужен исключительно для обеспечения интересов его внешней политики, что ему и удалось. Он вывел Францию из военной организации НАТО, штаб которой вынужден был переместиться из Парижа в Брюссель.
– Он уважать себя заставил,
– Да, заставил. Мы с готовностью предоставили ему такую возможность, преследуя собственные цели – раскачать западный блок, стимулировать в нем внутренние противоречия. Но в чем-то мы переоценили наши возможности оказывать влияние на де Голля. С ним это было невозможно, как, впрочем, и с его преемниками – Помпиду, Жискар д’Эстеном или Миттераном. Но и после ухода де Голля в 1969 году наша пропаганда продолжала твердить об «особых отношениях» между Москвой и Парижем, хотя оснований для этого становилось все меньше и меньше.
Я постепенно приходил к выводу, что в наших отношениях с Францией было все гораздо сложнее и не столь уж безоблачно. Между Францией и Россией дипломатические отношения существуют уже триста лет, но из них не более 50–60 лет можно отнести к сравнительно благополучным. Поистине «золотым веком» в наших отношениях были 1890—1900-е годы – время Франко-русского союза, конец которому положили большевики в 1917 году
Сближение и тесное взаимодействие России и Франции имело место в основном в периоды отдельных войн, когда мы на время оказывались союзниками. Все остальные двести пятьдесят лет – либо равнодушие, либо откровенная неприязнь.
– А почему так?
– Дело в том, что у нас с Францией никогда не было прямых противоречий, как, скажем, с Турцией, Германией, Англией или Соединенными Штатами. Но очень часто обе страны оказывались в противоположных союзах. Долгое время (XVII–XVIII века) друзья Франции – Швеция, Польша и Турция – для России были заклятыми врагами, которые блокировали ее попытки «выйти» к морям и «войти» в Европу. С другой стороны, «исторические противники» Франции – Габсбургская империя и Англия – были тогда партнерами России. Это обстоятельство и делало невозможным наше взаимодействие с Францией. Именно по этой причине весь XVIII век мы не могли найти с ней общий язык.
Но была и вторая, не менее важная причина – несовместимость политических культур и традиций двух стран, о чем я уже говорил. В России общество всегда было придавлено, находилось в подчиненном положении по отношению к государству. Во Франции же общество практически всегда было независимо от государства. Более того, по крайней мере, с XVIII века оно оказывало возраставшее влияние на внутреннюю и внешнюю политику Франции.
Когда мы говорим о философах – Вольтере, Дидро, д’Аламбере, то они в общем и целом симпатизировали России, видели, как Петр, а потом Екатерина вытаскивают страну из «варварства» и пытаются вовлечь ее в европейское культурное и политическое пространство. Так думали философы, но не все. Скажем, Жан-Жак Руссо откровенно не любил Россию, он считал, что русские как были «варварами», так ими остались. Он был убежден, что Петр I слишком рано цивилизовал свой народ, который к этому не был готов. Вторая его претензия к Петру, не лишенная, надо сказать, оснований, состояла в том, что Петр, как писал Руссо, пытался зачем-то сделать из русских то ли немцев, то ли англичан, вместо того, чтобы делать своих подданных просвещенными русскими. В самом деле, насильственное бритье бород и столь же насильственное переодевание дворян в европейские панталоны само по себе не делало русских европейцами в западном понимании. Все это было не более чем фасадом, за которым скрывалось нечто совсем не европейское. А во Франции общество с давних пор было не только автономно, но и критично по отношению к государству.



