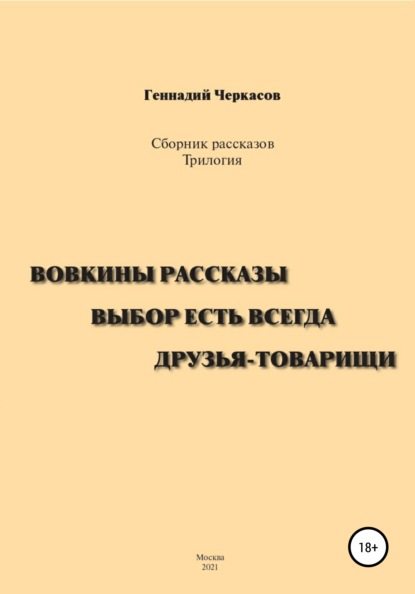 Полная версия
Полная версияСборник рассказов. Трилогия: Вовкины рассказы. Выбор есть всегда. Друзья-товарищи
После обеда сообщили Джузеппе, что вечером едут в Брест на заставу. Итальянец этому очень обрадовался и сам предложил выпить, но Евгений и переводчик вежливо отказались, что его удивило, но один онпить не стал. Ребятам надо было подготовиться к поездке. Вечером сели в поезд, о спиртном речи не было, потому что знали, как встречают «погранцы».
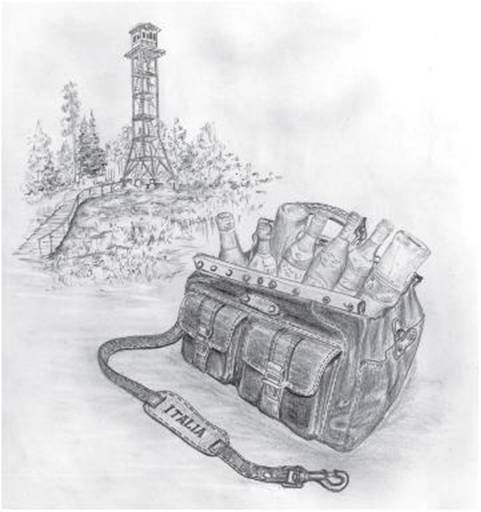
Заместитель начальника заставы сходу повёл в ресторан при вокзале, в отдельный зал. Всё пошло по отработанной схеме: «Наливай и пей». На заставу поехали через город. Джузеппе постоянно фотографировал, был доволен.
На заставе встречал сам начальник погранотряда. Тут же – вперёд к столу. Тостов было много, но пили мало. Между тостами Джузеппе рассказали историю заставы. Как она встретила начало войны 22 июня. Как воевали. Было видно, что Джузеппе это интересно. Он попросил разрешения подняться на вышку: «Фотографировать не буду!» Начальник выслушал, посмотрел на него – вроде, не очень пьян. Разрешил подняться. На этой погранзаставе была самая большая вышка – около сорока метров. Джузеппе уверенно взбирался наверх, за ним два бойца, старослужащих, на всякий случай. Поднялся, осмотрелся, пришло время спускаться, но, посмотрев вниз, он побелел, у него подкосились ноги. А возвращаться надо… Но бойцы – молодцы – мягко приземлили итальянца.
Пришла пора возвращаться в Москву – на следующий день Джузеппе улетал к себе на родину. На поезд успели, сели пить чай. Смотрим – нет итальянца. Однако волнение быстро прошло. Видим, идёт по проходу и несёт большую сумку. Открыл, а там коньяк, водка, портвейн. Понятно было, что это весь ассортимент вагона-ресторана. Джузеппе сказал, что ему в Союзе всё очень понравилось: «Об этом я напишу в своём репортаже». Приехали в Москву без происшествий. На следующий день утром Джузеппе улетел в Италию. В аэропорт его провожал Евгений. Прощаясь, итальянский журналист ещё раз поблагодарил своего нового знакомого. Показал заключённые в замок кисти рук, засмеялся и сказал: «Граница у вас на замке!» В Италии он написал интересный репортаж, где рассказал о доброте советских людей, о русской природе и о пограничниках.
Такса
Шёл 1973 год. Увеличился поток евреев, выезжающих из Советского Союза не только на свою историческую родину, но и в США и страны Европы. КГБ было чем заняться. Его главная задача – не дать вывезти ценности: золотые изделия, бриллианты, картины и другие произведения искусств. Ну, а те, кто стремился забрать с собой эти ценности, изощрялись, как могли. Чаще всего выходили на таможенников, чтобы заплатить деньги, точнее дать взятку. Но это чревато как для таможенника, так и для дающего взятку. Чекисты таких «деятелей» поймали не один десяток. Для таможенников это заканчивалось печально: в лучшем случае выгоняли, в худшем сажали. Для чекистов же хороший вариант – вербовка выезжающего. Делали ему предложение, от которого он, увы, не мог отказаться: либо ты летишь белым лебедем на землю обетованную, либо сидишь в Союзе, – и вербовочный лист подписывали с большим удовольствием.
Из золота отливали гвозди, которые вбивали в контейнеры для перевозки вещей. Отливали замки для женских сумок и чемоданов-кофров. Было и ещё много других вариантов, но не хочу давать советы контрабандистам. Сложнее всего было спрятать и провезти бриллианты. О таком случае и расскажу. Чекисты получили информацию, что один «деловой» еврей хочет вывести «камушки». Им он был хорошо известен, но поймать его и что-то предъявить не получалось. Поехали в Шереметьево. Дождались семью отъезжающего. Вылетали в Нью-Йорк. Тщательно проверили вещи – ничего. Обыскали его, жену и сына. Пусто! С ними была собака породы такса. Подумали, что это хороший контейнер для «камушков», сделали таксе клизму, конечно, сами – не везти же собаку в ветлечебницу. Двое держали, один делал, воды влили прилично. Из картонной коробки сделали лоток для туалета, посадили туда собаку, продолжая держать. Она вела себя очень спокойно, но, увы, то, чего все ждали, не получалось. Усыпив бдительность чекистов своим спокойствием, такса вдруг резко вырвалась, и опорожнила кишечник, однако вне лотка. Короче, никаких бриллиантов, но комната уделана конкретно.
Семья удачно приземлилась в Нью-Йорке. Через три дня на таможню в Шереметьево приходит телеграмма: «КГБ. Привет, ребята! Зачем так мучили собаку? Всё было в ошейнике. Всего вам доброго!» Так что, кто обделался, решите сами.
Лужники
Добрые воспоминания связаны у меня со стадионом «Лужники», и не только детские и юношеские. Я и сейчас часто приезжаю погулять туда и всегда погружаюсь в воспоминания. Стадион построили в 1956 году к открытию Первой Спартакиады народов СССР. Я и мои друзья выступали на арене «Лужников» в многочисленной группе с гимнастическими упражнениями. Мне было одиннадцать лет. Мы серьёзно готовились к выступлениям. Каждый день в течение двух месяцев тренировались в парке Сокольники. За двадцать дней до спартакиады всех, кто участвовал в открытии, привезли на тренировочный сбор в Малаховке. Хорошо запомнил это событие. Тренировки, отдых – беззаботное время.
Вот наступил день открытия. Мы начинали программу. Помню, что очень волновался. Во время выступления вокруг ничего не видел – боялся ошибиться, но всё прошло хорошо. Завершалась программа футбольным матчем команд ЦДСА и «Динамо», который закончился вничью со счётом 2:2. Для меня в мои юношеские годы «Лужники», конечно, прежде всего связаны с футболом. В те годы на стадионе проходили матчи московских команд «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и ЦДСА (впоследствии ЦСКА). Свой стадион в те годы был только у команды «Динамо». Мы, пацаны, билеты на игры не брали. Покупать их – дурной тон. «Протыривались», чаще всего перелезая через ограды. Милиционеры ловили нас, выводили, а мы делали попытки в других секторах.
В 1965 году впервые в СССР приехала сборная Бразилии по футболу, выигравшая в 1958 и 1962 годах Кубок мира. Шёл июль, погода стояла классная. Заканчивая беговую тренировку по Ленинским горам, пробегая рядом с большой спортивной ареной, мы увидели, как подъехал автобус. Из него стали выходить бразильские футболисты. Подошли ближе – нас никто не отгонял. Бразильцы громко разговаривали, широко улыбались, жестикулировали. Они не спешили идти в раздевалку. Тут у них была предыгровая тренировка. На следующий день они должны были играть с командой СССР. Я оказался рядом с Пеле и Гарринчей. Я думал, что Пеле выше меня, но, когда стоял около него, мне показалось, что мы одного роста, а у меня в то время он был 176 сантиметров.
Мне вспомнился матч Италия – Бразилия. В итальянской сборной был высокорослый, классный, мирового уровня, защитник Факетти. Однако Пеле выиграл у него все единоборства за верхние мячи. Итак, нас пустили посмотреть на тренировку бразильцев. Игроки сборной команды СССР тоже пришли. Запомнилось, что все бразильцы выходили из раздевалки, жонглируя мячом, после тренировки, когда возвращались с поля, они жонглировали и пасовали друг другу. Мяч не упал ни разу. С друзьями мы заметили, что советские футболисты не дождались конца тренировки, а увидели их всех в автобусе перед отъездом. Лица у них были невесёлые. На следующий день наша команда улетала в Краснодар на студенческие соревнования, поэтому игру я не увидел, но в записи смотрел много раз. Бразильцы без особого труда выиграли у наших со счётом 3:0. Я не футбольный тренер, но знаю, что Пеле великий футболист. Добавить нечего, но я знал и общался с великим советским футболистом Эдуардом Стрельцовым, и, если бы не случай, который можно считать трагическим для советского футбола, думаю, на чемпионате мира в Швеции, где взошла звезда молодого Пеле, Эдуард бы выглядел ярче. Это не только моё мнение. Такого же мнения были Лев Яшин и Игорь Численко.
Только хотел начать рассказ о плавательном бассейне стадиона «Лужники», пловцах, тренерах, но вспомнил ещё одну историю, связанную с футболом. Футбол – игра, которая объединила спортсменов многих видов спорта. Боксёры играли против пловцов, пловцы против ватерполистов и т.д., но в основном играли смешанными командами. Игра в футбол была для нас как разминка перед основной тренировкой. Играли круглый год, в основном, на свежем воздухе. Воротами были барьеры, и надо было попасть в створ.
Как-то летом, после часового кросса по Ленинским горам, пробегали мимо места игры в футбол, нас окликнули ребята, предложив сыграть пять на пять. У нас было полчаса в запасе, и мы согласились. Соперники, не успев опомниться, пропустили три мяча, но потом собрались и забили нам два. Однако время истекло, мы поблагодарили друг друга за игру, и тут один из той команды спрашивает: «Вы случайно не футболисты?» Мы ответили, что нет. Разговорились, соперники были профессиональными футболистами и играли за одну из команд класса «Б». Уверен, что, если бы игра продлилась, то они нас переиграли. На большом поле стиль игры один, а на малом совсем другой.
На стадионе был хороший плавательный комплекс, где тренировались пловцы, пятиборцы, ватерполисты, прыгуны в воду и гимнасты, да, именно гимнасты, так как там было два прекрасных гимнастических зала, но главное то, с какими людьми меня свела судьба. Один из них Семён Петрович Бойченко – великий советский пловец и тренер. Плавал он стилем баттерфляй. Неоднократный чемпион и рекордсмен СССР. Бил рекорды Европы и мира, но, увы, их не регистрировали. Федерация плавания Советского Союза не входила в европейскую и мировую федерации. Но факт остаётся фактом. Сам Иосиф Сталин ставил его в пример молодёжи: «Равняйтесь на Семёна Бойченко!» Однако в 1948 году Бойченко был арестован и обвинён в антисоветской пропаганде по знаменитой 58-й статье. Осуждён на десять лет лагерей. Срок отбывал в городе Соликамске, работал на деревообрабатывающем комбинате. После шести лет срока в 1954 году был освобождён, а в 1956 году полностью реабилитирован. После выхода на свободу начал тренироваться, даже пару раз выступил на соревнованиях, но понял, что его время уже ушло. Да и лагеря подорвали здоровье. Впоследствии он работал тренером, весьма успешно. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме возглавлял сборную команду СССР по плаванию. Несмотря на все трудности жизни, часто рассказывал нам о своих молодых годах и лагерной жизни, конечно, с юмором.
Как-то я с Семёном Петровичем ехал в метро, и он мне поведал, как ко дню рождения Сталина пловцы устраивали эстафету по побитию рекордов. День рождения Сталина – 18 декабря. Закрытых бассейнов в стране было немного, соревнования проходили в Москве или Ленинграде. От Сталина за установленный рекорд обязательно получали ценные подарки. О них потом подробно мне рассказал другой участник таких соревнований Виктор Иванович Гладилин. Он был известен не только как пловец на стандартные дистанции, но и участник марафонских заплывов на море и на реке. Об одном таком заплыве по Волге он мне сам говорил:
– Нас, пловцов, собрали руководители спорткомитета. Объявили, что надо проплыть марафон по Волге – 74 километра. Где-то через месяц заплыв состоялся. А я волгарь, вырос в тех местах – все течения знаю. Сразу оторвался на большое расстояние от других участников заплыва. Уже перед финишем перевернулся, поплыл на спине и вижу: на высоком берегу стоит группа людей. Когда присмотрелся, да это сам Сталин! Я его поприветствовал – помахал рукой. Он на моё приветствие ответил правой рукой. Махнул несколько раз. Я этот заплыв выиграл и получил очень красивую медаль. Жаль только, что ушко отломалось. А в конце сезона передали подарок от Сталина – мотоцикл «Харлей» с коляской. Прав у меня не было. Иногда выгонял его из сарая и учился водить. Как-то выпил, сел на «Харлей» и включил заднюю скорость. У этого мотоцикла была задняя скорость. Вылетел из сарая, но ничего – обошлось без увечий. Поставил его на место и пошёл спать. Утром поехал на тренировку, а когда вернулся домой, жена говорит: «Всё, Витя, откатался! Я мотоцикл продала».
Мотоцикл Виктора Ивановича я не видел, а часы в серебряном корпусе и с толстым серебряным браслетом мне удалось рассмотреть – это подарок Иосифа Сталина за рекорд Европы, установленный в эстафете к его дню рождения.
Может возникнуть вопрос, почему у меня столько знакомых спортсменов и тренеров из мира плавания? Учась в институте, я выступал за сборную на соревнованиях по плаванию. С добром вспоминаю знаменитого тренера Валерия Владимировича Буре, который вырастил плеяду известных советских пловцов. Среди них и два его сына – Алексей и Владимир. Алексей неоднократный призёр чемпионата СССР по плаванию стилем «дельфин», а также чемпион и рекордсмен Европы по подводному плаванию. Володя многократный чемпион СССР, Европы, трёхкратный призёр Олимпийских игр и отец двух великих хоккеистов: «русской ракеты» – Павла и Валерия. Интересно, что Владимир за физическую подготовку своих сыновей был удостоен звания заслуженного тренера России по хоккею.
Валерий Владимирович Буре играл в ватерполо. В тридцатые годы был вратарём сборной команды СССР. В 37-м году репрессирован по статье 58.8 – подготовка террористического акта. После освобождения полностью реабилитирован. Работал тренером, участвовал как тренер на двух Олимпиадах – 1968 и 1972 гг.
Нельзя не вспомнить ещё одного ученика Валерия Владимировича – Леонида Ильичёва, многократного чемпиона СССР, трёхкратного чемпиона Европы и трёхкратного призёра Олимпийских игр. Валерий Владимирович после освобождения, находясь на поселении в Норильске, работал тренером и там заметил способного парня, с которым стал заниматься. Увидел в нём чемпиона. Впоследствии помог Леониду с переездом в Москву.
С грустью вспоминаю о великом пловце – брассисте Николае Панкине, который уже ушёл из жизни. Многократный чемпион СССР, чемпион Европы, неоднократный призёр Олимпийских игр. В середине семидесятых годов произошла такая история, после которой он мог стать надолго невыездным. У Николая был товарищ по команде Сергей, которого я тоже хорошо знал. Они вместе учились в Московском институте инженеров транспорта и выступали за «Локомотив». Сергей умудрился жениться на немке. Да не просто на немке, а на немке из ФРГ, и уехал туда на постоянное место жительства. В те времена каждый год в феврале проходила традиционная встреча пловцов СССР – ФРГ Вот что мне рассказал Николай:
«Приехали в Германию, разместились и сразу на тренировку в бассейн. Наступает день финала на дистанции сто метров. Бассейн закрытый, 25-метровый, с трибунами. Едем в автобусе, и я вспоминаю о Сергее. Как ему тут живётся? Приехали, как всегда разминаюсь в бассейне, готовлюсь к старту. Меня объявляют и вдруг на русском, истошный крик с трибуны: «Колян, дави немцев, порви фашистов!» – далее ненормативная лексика. Смотрю, на трибуне, в рубашке с высоко завёрнутыми рукавами, чуть не падает в бассейн друг Серёга. У меня в мозгу пронеслось: «Ну, всё! Приехали. Это мой последний старт за рубежом». Раздался выстрел стартёра, и я поплыл. Выиграл с хорошим результатом. Иду в душ, настроения нет. Выхожу из здания бассейна, стоит Серёга, поддатый, обнялись. Он предложил встретиться на следующий день после соревнований. Он приехал специально из другого города, где он работал крановщиком, хотя был дипломированным инженером. Объяснил, что ему надо ещё полгода отучиться, чтобы дали возможность работать инженером. Я сказал, что на следующий день встретиться не получится, потому что после соревнований культурная программа и сразу в аэропорт. Пожелал ему удачи и добавил: «Серёга, из-за твоих выкриков у меня могут быть неприятности». На соревнованиях присутствовал чекист, сопровождавший нашу делегацию.
Сергей очень удивился: «Коля, какой чекист? Я кричал: «Порви фашистов!» – это у меня могут быть неприятности», – и сделав паузу, добавил: «Извини, не подумал!» На следующий день я выиграл дистанцию двести метров и в составе комбинированной эстафеты стал победителем. Больше Сергея я не видел. Чекист, конечно, всё слышал, но замечания мне не сделал. Да, очевидно, и в справке о поездке этого не отметил».
Я до сих пор сожалею, что в последние годы нам не пришлось встречаться. Николай проживал в Муроме, там тренировал детей. Так и не нашёл времени приехать, всё откладывал. Хотя не раз бывал во Владимире. Вот так: откладываешь на завтра, а завтра может не наступить.
В рассказе о «Лужниках» нельзя не вспомнить о хоккее. В первый раз я попал на хоккей в 1957 году и видел финальную игру сборной команды СССР со шведами на чемпионате мира по хоккею. Это первый чемпионат мира, который проводился в Советском Союзе. Большинство матчей проходило на Малой спортивной арене «Лужников», а финальная встреча – на Большой спортивной арене в присутствии шестидесяти пяти тысяч зрителей. На хоккей меня взял друг отца дядя Боря, во время войны он летал на бомбардировщике, а после войны работал на аэродроме Внуково. Он был хорошо знаком со Всеволодом Бобровым, Евгением Бабичем и Юрием Пантюховым – великими советскими хоккеистами. Волею случая, я познакомился с Юрием Пантюховым на сборах в Химках. В то время он тренировал команду хоккеистов одного завода-ящика. Добрый человек, прекрасный рассказчик. Навсегда запомнил, что он говорил о первой поездке в Канаду на товарищеские матчи:
– Перед отлётом собрали команду. Слово дали чекисту. Он сказал, чтобы никто не смел говорить о том, что мы профессионалы и офицеры Советской Армии – в Канаду вылетала команда ЦСКА. У всех нас были офицерские звания. Всем определили профессии. Я сказал, что с пятнадцати лет и до армии работал слесарем. Чекист кивнул – будешь слесарем. Прилетели в Канаду, выходим из самолёта. Нас встречает толпа народа и на плакатах, довольно-таки больших, наши цветные фотографии в военной форме с офицерскими погонами. В этой поездке мы выступили успешно. Зрители приветствовали с добром. На премиальные, которые дали большинству хоккеистов, в том числе и мне, купили себе коньки.
Но вернёмся к чемпионату мира. В то время наша сборная считалась фаворитом. В 1957-м мы были чемпионами мира и Олимпийских игр 1956 года. Примечательно, что в Москву из-за политических событий в Венгрии не приехали команды США, Канады, ФРГ и Швейцарии. Надо сказать, в те годы канадцы не были такими сильными, как в последующее время. На чемпионаты мира приезжала команда, ставшая в Стране кленового листа лучшей среди любителей. Чемпионаты мира по хоккею в то время проводились по круговой системе. Перед последней игрой со шведами сборная СССР с одиннадцатью очками занимала второе место, а шведы первое – они набрали двенадцать очков. Нашим хоккеистам была необходима только победа. Все зрители были уверены, что наша сборная победит. Игра началась. Шведы, несмотря на то, что их и ничья устраивала, пошли в атаку. В первом периоде они забросили две шайбы в наши ворота. Начался второй период, игра у наших не получалась. Но во второй десятиминутке второго периода игра «покатила». В итоге они за десять минут забросили четыре шайбы подряд. Шведы ответили двумя. В третьем периоде ничейный счёт сохранялся. Наши играли здорово, но шведы стояли насмерть и всё-таки завоевали золото чемпионата мира.
Романыч
Женя родился в городе оружейников Туле в 1931 году. Там он и провёл детские и юношеские годы. Того, что эти годы были для него счастливыми и безоблачными, не скажешь. Когда Жене исполнилось 10 лет, началась война, и он со всеми детьми Советского Союза прошёл и пережил эти трудные голодные годы. Его старший брат работал на заводе и оттуда же ушёл воевать, остался жив, после войны вернулся на предприятие и там проработал до пенсии. Евгений Романович гордился своим братом. Когда мы встречались, он всегда вспоминал о нём. Вот что мне рассказывал Евгений Романович о том, как он попал в секцию конькобежного спорта.
В те годы зимой среди ребят было распространено катание на коньках, зацепившись крючками за машину. Коньки прикручивали к валенкам. Этим, так сказать, зимним видом спорта занимались я и мои друзья, и я не понаслышке знал, насколько это опасно. Крючок иногда срывался, и тогда ты падал вниз, разбивая лицо в кровь. Эта «пацанская» забава очень напрягала милиционеров. Тех ребят, которых им удавалось поймать, приводили к родителям. Вот однажды за этим занятием попался и Женя. Привели домой и изъяли все приспособления для зацепа за машину. Милиционер, уходя, сказал мальчишке: «Любишь кататься на коньках – иди на стадион. Да и ребят с собой возьми!» Так Женя попал в конькобежную секцию и полюбил этот вид спорта.
Результаты росли, как на дрожжах. Особенно хорошо шёл спринт. В 1947 году Евгений установил свой первый всесоюзный рекорд на дистанции пятьсот метров. Произошло это в Туле. В Москве не поверили в показанный результат. В то время на льду блистал известный конькобежец Константин Кудрявцев, который впоследствии стал тренером Евгения и привёл его к победам на чемпионатах СССР, Европы, мира и на Олимпийских играх.
Нескольких строчек упоминания о таком человеке как Константин Константинович мало, поэтому продолжу. Он родился в 1911 году. Юношеские годы совпали с Первой мировой войной, Октябрьской революцией, Гражданской войной, голодом и разрухой в стране. Он выстоял, занялся спортом – лёгкой атлетикой, позже стал на коньки. Как спортсмен и тренер многого добился. Чемпион СССР в легкоатлетическом многоборье, бронзовый призёр СССР в десятиборье, неоднократный чемпион и рекордсмен СССР по конькобежному спорту, и, конечно, в его арсенале – высокие звания спортсмена и тренера: Заслуженный мастер спорта СССР и Заслуженный тренер СССР. К. К. Кудрявцев в горах Казахстана, рядом с Алма-Атой, нашёл место, где впоследствии был построен знаменитый каток Медео. Он и его именитый ученик Евгений Гришин принимали участие в строительстве катка, на котором в дальнейшем были установлены десятки всесоюзных и мировых рекордов. Это место обладало уникальными свойствами. В середине семидесятых годов главный тренер сборной команды СССР по конькобежному спорту Кудрявцев предложил руководству спорткомитета пригласить двух «летучих» голландцев – Андриануса Схенка (трёхкратного олимпийского чемпиона на играх в Саппоро, там он завоевал золото на трёх дистанциях, неоднократного рекордсмена и чемпиона мира) и Корнелиуса Феркерка (олимпийского чемпиона Гренобля, который на двух олимпиадах 1968 и 1972 завоевал ещё три серебряные медали) на соревнования, которые должны состояться на катке Медео. Идею Кудрявцева пригласить голландцев поддержал и Евгений Гришин, в то время он работал тренером со спортсменами Вооружённых сил в сборной команде СССР. После этого предложения руководство спорткомитета и лично его председателя Романова «закошмарило». Они сказали: «Вы что, с ума сошли? Медео самый скоростной каток в мире. Они накосят мировые рекорды, а нам потом расхлёбывать!» Вот так. Кто о спорте, а руководство – о своей заднице.
Описываю события, о которых я слышал лично от Евгения Романовича. Как-то зимой в концертном зале гостиницы «Россия» был организован концерт «Спорт и искусство рядом идут». Мы пошли втроём: Романыч, мой друг – известный гребец Александр Мартышкин и я. Пришли заранее и сразу в УТР-зал: народу полно, смотрим, где приземлиться. Видим, за столом двое: Лев Иванович Яшин, великий вратарь всех времён и народов, и актёр Олег Анофриев. Лев Иванович и Евгений Романович проживали в одном доме и были в дружеских отношениях, несмотря на то, что выступали за разные общества. Я в друзьях у Яшина не ходил, но при встрече общались. Мы подсели за стол, нам сразу налили. Выпили и «дали по тормозам». Олег совсем не пил. Сказал, что вчера основательно режим нарушил, да так, что пришлось просить Фёдора Чеханкова провести программу вместо него. (О Фёдоре Чеханкове надо писать отдельно. Талантлив: пел, танцевал, был прекрасным актёром. Достойно прошёл и девяностые годы. Служил в театре Советской Армии и был предан ему до конца своей жизни.)
И вот прозвенел третий звонок. Мы пошли в зрительный зал. Слева в зале за стол жюри сели ведущие программы: Фёдор Чеханков и Лев Яшин. Я и Александр устроились позади. Романыч, надев на себя чемпионскую ленту с медалями, пошёл на сцену. После выхода чемпионов разыгрывали викторину. Было интересно. Начался концерт. Представлял артистов, сидя за столом жюри, Фёдор Чеханков. И вот на сцену вышел поэт-пародист, который из реплик зрителей должен был составить четверостишия о физкультуре и спорте. Из зала выкрикивали реплики, и вдруг, облокотившись на моё плечо, билетёрша, солидная женщина, накинув шаль на плечи, чтобы не было видно униформу, крикнула: «Физкультура – дура!» Понятно, это было сделано в помощь артисту на сцене. Лев Иванович повернулся, взял микрофон и во всеуслышание опротестовал это заявление: «Физкультура не может быть дурой!» Чеханков, прикрыв микрофон, попытался объяснить: «Лев Иванович, это надо для артиста!» Яшин кивнул. Тогда артист, заканчивая четверостишие, произнёс: «Бабка, не будь дурой! Занимайся физкультурой!» Лев Иванович засмеялся.



