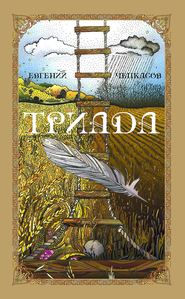 Полная версия
Полная версияТриада
Вообще, Мишино поведение приятно озадачивало Гену. Он боялся предполагать и всё-таки предполагал, что совершается таинство обретения веры, и понимал, что наблюдать за этим таинством нехорошо – на то оно и таинство. Но Валерьев ничего не мог с собой поделать и с затаенной радостью присматривался к Солеву, параллельно размышляя, что это присматривание, вероятно, отвлекло его от главного – потому-то он почти ничего и не почувствовал, приложившись к великой святыне. «Завтра утром приложусь еще раз», – решил он, крестясь на выходе из храма.
Миша и Гена держались несколько позади университетской группы, не сливаясь с ней; разрыв еще более увеличился, когда Миша, прочитав перед началом Канавки инструкцию по ее прохождению, принялся переписывать на бумажку «Богородице Дево, радуйся…». Гена улыбчиво поджидал и, загибая пальцы, творил молитву.
Наконец тронулись. Канавка представляла собой что-то вроде траншеи, прилизанной временем и поросшей травой, а рядом с ней, по дорожке, против часовой стрелки, тихонько шли паломники, шепча Богородичную молитву. Гена и Миша тоже шли и шептали. Гена чувствовал внутри себя и вовне тихую радость, какая случается изредка во время молитвы, и еще он чувствовал, что идет по кромке пакибытия. Тишина, окутавшая Канавку, была не от мира сего, и потому никакие звуки не могли ее вытеснить, – вот дети выбежали из школы, расположенной внутри Канавки, они шумят, но тишина остается тишиною. Гена дошептал, загнул палец и вновь принялся… Тихо.
– Наших не видно, – заметил Миша, окончив путь.
– Пойдем к автобусу, – предложил Гена и спросил, поспешая: – Тебе сколько осталось?
– Сбился. Но ощущения очень странные.
– Погоди. Я буду дочитывать.
Молчали почти до самого автобуса, пока Гена не перекрестился и не сказал:
– Всё.
Они успели и были направлены экскурсоводом по точному адресу к странноприимной бабушке.
– А далеко до Серафимова источника? – спросил Гена.
– Километра три. Но вам лучше с нами не ехать, а зайти к бабушке и договориться точно. Как договоритесь, идите на три ближних источника, сначала на Казанский – как раз успеете до вечерней службы. А на Серафимов источник лучше завтра, после литургии. И сухариков из чугунка батюшки обязательно возьмите. Канавка и сухарики – это обязательно.
– Спаси Бог, – пробормотал Гена, силясь всё запомнить.
– Причащаться собрались? – полюбопытствовала экскурсовод.
– Да, – ответил Гена, а Миша взглянул на него с интересом.
Экскурсовод вдруг как бы смутилась, произнесла: «С Богом!» – и поспешно села в автобус. Автобус тронулся, а она с жалостью к самой себе подумала: «Автобус – Канавка – сухарики…»
Гена же и Миша пошли искать дом странноприимной бабушки, руководствуясь точным адресом и ориентирами.
В селе Дивеево соседствовали избушки-развалюхи и крепкие срубы, брошенных домов видно не было. Гена и Миша шли по ровной асфальтированной дороге, но почему-то думалось, что она здесь одна такая, а рельеф остальных дорог села определяется колдобинами, лужами и коровьими лепехами. С какого-то двора на всё село громогласно разносилось записанное на магнитофон церковное пение. Может быть, знаменное – Гена не разбирался в этом, слышал только, что знаменное пение теперь принято хвалить, а партесное – ругать. А может быть, наоборот, партесное было – Гена не знал.
– Хорошая деталь для рассказа, – сказал Миша с улыбкой. – Слышишь?
– Слышу, хорошая, – согласился Гена и добавил: – Я и забыл, что ты тоже пишешь.
– Пишу. Надо будет в городе обменяться произведениями.
– Обменяемся. Нам сюда, кажется.
Странноприимная бабушка из домика-развалюшки показала им небольшую комнатку с кроватями. Еще она обратила внимание паломников на будильник, чтобы уж не проспали, а за ночлег попросила очень дешево.
– Скажите, а как до Казанского источника добраться? – поинтересовался Гена на прощание.
– А вот как шли от монастыря до меня, так и идите по той дороге. Дойдете до мостка через речку, перейдете и вертайте направо. Там купальня на берегу деревянная, увидите.
Паломники поблагодарили бабушку и отправились к источнику. Дорога вывела из села в поле – тихое и безлюдное. По полю змеилась речка, виднелся и мост. Солнце висело невысоко и готовилось через часок-другой-третий сесть за горизонт. Но пока оно светило ярко и настойчиво, словно не прошло еще бабье лето.
– А что нужно сделать, чтобы причаститься? – спросил Миша вдруг.
Гена ответил не сразу: он понимал, что вопрос не праздный, что Миша захотел причаститься, и, пожалуй, даже завтра причаститься, – и великое изумление онемило Гену. «Так не бывает!» – подумал он и вспомнил историю своего духовного восхождения от крещения до первой исповеди и причастия – по времени это восхождение заняло года полтора. И до крещения путь был немаленький. А тут, понимаете ли, за какие-то часы… В «Комете» на нем и крестика-то не было, – может, и сейчас нет, и он со всеми кричал: «Распни его!»…
– Ген, я спросил, – напомнил Миша.
– Ты хочешь причаститься? Завтра? – резковато уточнил Валерьев.
– Да, – ответил Солев просто.
– А ты читал про зерно, которое быстро взошло?
– Читал. Оно упало в места каменистые, поэтому у всходов не было корня и они завяли на солнце. Так бывает с людьми, которые легко веруют и легко разувериваются.
Они уже не шли – они стояли на дороге и пристально смотрели друг другу в глаза, словно играли в гляделки. Гена моргнул первым, покраснел и сказал:
– Прости меня, Миш. Прости Христа ради.
– Да ладно, Ген, всё правильно. Я и сам понимаю, что слишком быстро. Только я всё равно хочу здесь завтра причаститься.
«Может, ему послезавтра на голову кирпич свалится, а тут я со своей гордынькой влез: рановато, видите ли. Обзавидовался. Дурак», – отчитав себя таким манером, Гена решил помочь Мише, чем сможет, а уж дальше пусть священник решает.
– Пойдем, – сказал он, – а то стоим, как два барана… На ходу тоже говорить можно.
Они перешли мост и свернули направо.
– Ты веришь, что в литургической Чаше – Тело и Кровь Христовы? Веришь, что во время литургии хлеб и вино преобразуются в Тело и Кровь? – задал Гена главный вопрос.
Задумчиво помолчав, Миша медленно ответил:
– Я верю в Бога, – он примолк, будто прислушиваясь, нет ли в этой фразе фальши, и столь же медленно продолжил, после каждого постулата примолкая и прислушиваясь. – Я верю в то, что Христос – Бог… Я верю в то, что написано в Евангелии… Я верю, что связь между Богом и человеком не нарушена и богообщение возможно… Я верю, что Бог присутствует в православных храмах… Я хочу общаться с Богом так, как это делают православные… Если Христос на тайной вечере сказал, что это Тело и Кровь, и апостол Павел писал, что это Тело и Кровь, и православная Церковь верит, что это Тело и Кровь, – то это Тело и Кровь… Да, это Тело и Кровь.
Окончив свой символ веры, Миша остановился, замер, и на лицо его наплыло испуганное выражение.
– Аминь, – бодро сказал Гена, обернулся, остановился и спросил: – Что с тобой?
– Это Тело и Кровь, – повторил Миша с ужасом. – Тело и Кровь Христа.
– По вкусу как хлеб и вино, не бойся.
– Тело и Кровь Бога! То есть получается, что я могу завтра прикоснуться к Богу?!
– Да. Если тебя священник допустит.
– А что нужно, чтобы допустил?
– К причастию готовятся, – с удовольствием объяснил Гена. – Постятся и молятся, а перед причастием исповедуются. Обычно постятся не менее трех дней, а вечером перед причастием и утром вычитывают каноны и особые молитвы. Обязательно нужно быть на вечерней – на помазании. Ну, на вечерней мы побываем, каноны и молитвы отчитаем, а вот как быть с постом – не знаю. Ты случайно не вегетарианец?
– Нет. Но сегодня у меня на завтрак была овсянка на меду, обед здесь постный был…
– Один день есть, уже неплохо. Только на исповеди не забудь сказать, что постился один день.
– Ладно, скажу.
– Опять стоим! – спохватился Гена. – Ну сколько можно стоять? Мы такими темпами на службу опоздаем.
– Тогда побежали! – как-то по-детски озорно воскликнул Миша и припустил по тропинке к деревянному домику-купальне.
Гена бросился вдогонку.
* * *
– Остался? – изумленно переспросила Софья Петровна. – До завтра?.. Спасибо, что позвонили… Всего доброго.
Она положила трубку, задумчиво постояла перед онемевшим телефоном и пошла к мужу.
– Что там? – поинтересовался Виктор Семенович.
– Мишина одногруппница звонила. Он в монастыре остался.
– Насовсем? – спросил Женя.
Родители рассмеялись.
– Завтра вернется, – ответила мама. – С ним еще кто-то остался.
– Во дает, путешественник… – пробормотал отец и осторожно улыбнулся, после чего продолжил: – Однако ужин никто не отменял.
– Я сейчас, – спохватилась Софья Петровна и ушла на кухню.
– Устал после церкви? – спросил Виктор Семенович.
– Немножко, – ответил сын.
– Ничего, вот сейчас поедим – и сразу силы прибавится.
– А потом каноны читать?
– А потом каноны… Не боишься исповедоваться?
– Не знаю…
– Не бойся. Я, когда первый раз шел на исповедь, очень боялся. Но у меня грехов было много, воз и маленькая тележка, – вот я и боялся. А ты не бойся.
– Я и не боюсь, – сказал Женя, подумал и добавил: – Просто стыдно. И еще непонятно.
– Всем стыдно исповедоваться, это всегда так. И мне стыдно, и маме стыдно. А непонятно тебе что?
– Непонятно, почему я раньше не исповедовался.
– Тебе же объясняли: до семи лет причащают без исповеди. Помнишь, чей день рождения мы в сентябре отмечали?
– Помню, мой.
– Ну, и что тебе непонятно?
– Я же раньше тоже грешил, до семи лет. Грешил и причащался без исповеди.
– Великий грешник! – иронично воскликнул отец, но была в его восклицании и некая неуверенность. – А вообще, скажи завтра об этом священнику. Если в тех грехах тоже надо исповедоваться, то исповедуйся.
– Я так и хотел.
– Молодец.
Родители читали каноны, передавая молитвослов друг другу: вот мама читает, вот папа, вот опять мама, вот опять папа – а Женя стоял рядом и когда они крестились и кланялись, тоже крестился и кланялся. Наконец, когда папа передавал маме молитвослов, мальчик не выдержал и со слезой в голосе воскликнул:
– Я уже взрослый!
– И что? – строго спросил отец.
– Я умею читать, я тоже хочу!
– Взрослый, а раскричался, как маленький, – строго сказала мать.
– Шестая песнь, – сообщил Виктор Семенович с улыбкой и показал сыну пальцем на шестую песнь. – Не торопись и следи за ударениями, они здесь проставлены.
Дрожа и задыхаясь от волнения, мальчик прочитал шестую песнь покаянного канона и понял, что да, это о нем, о Жене: это он грешник, это его душу могут поймать грозные Ангелы, это ему необходимо прежде смерти покаяться…
На исповедь Женя подошел с тем же чувством, с каким он читал покаянный канон. Он видел свои грехи, их было много, они давили, но он не знал, как начать, и чуть не плакал.
– Что ты? – ласково спросил старенький редкобородый священник, наклоняясь к мальчику и чуть согнув ноги в коленях. – Что ты? Не бойся. Родителей слушаешься?
Женя исповедовался неожиданно долго, так что Виктор Семенович и Софья Петровна несколько раз недоуменно переглядывались. Наконец священник накрыл его голову епитрахилью, прочитал разрешительную молитву и чуть приподнял мальчика, чтобы тот поцеловал крест и Евангелие. Благословив исповедника, батюшка положил ладонь ему на макушку, не удержался и погладил по русым волосам. Женя радостно улыбался сквозь слезы, когда вернулся к родителям.
Солевы причастились, день был солнечный, поздним вечером приехал Миша. Когда Миша приехал, Женя читал вечернее правило по своему собственному молитвослову, который ему купили сегодня. Очень хотелось выбежать к брату, но так делать нельзя, и вообще отвлекаться нельзя, и Женя продолжил молитву. Он слышал, что Миша и мама с папой о чем-то громко говорят, громко и радостно, но нельзя отвлекаться, нельзя, вот мама плачет и смеется, Женя никогда не слышал, чтобы мама одновременно плакала и смеялась, но нельзя, нельзя, нельзя отвлекаться!.. Почитав правило, Женя лег в одежде на постель поверх одеяла и стал ждать брата.
Брат пришел нескоро, но Женя дождался.
– Не спишь? – спросил Миша.
– Не сплю, – ответил Женя. – Хорошо в монастыре?
– Да, хорошо. Я там причастился сегодня.
– Я догадался. Поздравляю.
– Догадливый какой… – пробормотал Миша, удивленно глядя на брата. – Я тебя тоже поздравляю: мне мама сказала. А вот тебе кто сказал?
– Я просто догадался.
– Ладно… – Миша примолк, чувствуя что-то вроде стеснения или робости, и с трудом продолжил: – Мы редко с тобой говорим, брат… А нам нужно с тобой говорить, я только сегодня это понял.
– Давай поговорим, – сказал Женя. – А про что?
– Сложно так сразу… Не знаю… Наверное, про тебя… У тебя ведь со следующей недели каникулы?
– Да, с завтрашнего дня.
– Вот – каникулы! – оживился Миша, словно это ему и хотелось выяснить. – Каникулы – штука хорошая. Осенние – маленькие, а вот летние – целых три месяца. У меня осенних каникул нет: студентам не положено – только зимние и летние. А тебе видишь, как повезло… Рад, что каникулы?
– Не знаю, – ответил Женя, внимательно глядя на брата.
– Как это так: «не знаю»? «Не знаю» – это не ответ! Наверное, в школе очень нравится? Учиться очень нравится? Да?
– Нравится.
– Это хорошо, но каникулы тоже нужны… А про садик ты не вспоминаешь? Про детский сад. Не хочется иногда вернутся туда?
Мальчик чуть вздрогнул и пытливо посмотрел на Мишу.
– Почему ты спросил?
– Не знаю, мы же о тебе говорим, а ты недавно в садик ходил… Вообще-то, нет: я понял, почему спросил. Мы уже говорили о твоем садике, несколько месяцев назад, летом, тоже вечером. Ты тогда еще рассказывал, что под кроватями ползал. И ты меня тогда спросил, помню ли я свой детский сад. Вот почему.
Миша и Женя сидели на Жениной кровати и, нервно дрожа обоюдной дрожью, пристально смотрели друг другу в глаза, словно играли в гляделки.
Женя отвернулся и тихо заплакал, вспомнив свой подкроватный путь, и «крысок» в бассейнишке, и горку с шаровушками…
– Жень, не плачь, – попросил Миша, преодолев горловой спазм. – Хочешь, мы завтра, прямо завтра, сходим в твой садик? Нас пустят, мы всё там посмотрим… Хочешь?
– Нет, – ответил Женя, помолчав, и улыбнулся сквозь слезы. – Это уже не мой садик. Когда он был моим, я причащался без исповеди. Понимаешь?
1998-2008,
Пенза—Ханты-Мансийск—Санкт-Петербург
Евгений Владимирович Чепкасов
Рецензия на книгу Евгения Валерьевича Чепкасова «Триада»
Началось всё с того, что я занялся вопросом своей родословной. Фамилия у меня редкая, и перевирали ее очень часто, почти всегда. Я даже думал, что некий мой предок, по фамилии Черкасов, писал у буквы «р» слишком короткий хвостик, и так в фамилию закралась ошибка. Но при занятии родословной выяснилось, что Чепкасовых много, что в Ульяновской области есть речка Чепкас и два населенных пункта возле этой речки с производными названиями. Так что версия о «короткохвостом» Черкасове отпала. Попутно выяснилось, что несколько десятков Евгениев Чепкасовых живут на просторах нашей Родины, есть среди них и Владимировичи. Но Владимировичи меня не заинтересовали, речь пойдет не о них, а о том Евгении Чепкасове, который живет в Петербурге и на которого я вышел через группу «Чепкасовы forever» на «Одноклассниках». Прямых родственных связей между нами не прослеживается, и отчество у него другое, и по возрасту он значительно младше меня, но он тоже литературовед (правда, он специализируется на литературе народов Крайнего Севера, а я – на Достоевском). И еще он прозаик. Разумеется, в такой ситуации я не мог не ознакомиться с тем, что пишет мой тезка и однофамилец.
До сих пор у Чепкасова вышла только одна малотиражная книга «Бухта Барахта» с ранними рассказами и стихами, в предисловии которой «Триада» была проанонсирована. До того с творчеством автора можно было ознакомиться либо в толстых литературных журналах и коллективных сборниках, либо на сайте Чепкасова в Интернете, либо в группе «В контакте» со скромным названием «Чепкасоведение». Надо сказать, что произведения Евгения Чепкасова мне понравились, особенно «Повесть о хромавшем человеке» (в журнале «Наш современник» она опубликована под названием «Хромающий человек. Петербургская повесть»), и я написал об этом в гостевой книге его сайта. Чепкасов ответил мне словами благодарности за рецензию, удивлением по поводу одинаковости наших имен-фамилий, и объяснением, что «Повесть о хромавшем человеке» составлена из рассказа «Кружение» и повести «Врачебница», опубликованных ранее в журнале «Сура», и что в дальнейшем к этим двум произведениям прибавится роман «Детский сад». В целом три произведения составят книгу «Триада» – ту самую, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках. Замысел мне понравился, и я предложил автору, когда тот закончит свой труд, прислать его мне на рецензию. Чепкасов согласился, причем моя принадлежность к литературоведению оказалось для него неожиданностью, – должен с прискорбием констатировать, что моих работ о Достоевском он не читал. Такова предыстория нижеследующей рецензии.
«Триада» – книга весьма сложная. Под сложностью я понимаю не трудность для читательского восприятия, а необходимость интеллектуальных усилий для постижения глубинных слоев подтекста. Как и большинство мастерски написанных произведений, «Триада» выглядит целостно и для тех читателей, которые подтекста не видят, и для тех, которые видят первый его слой, и для тех, которые видят второй, третий…
Композиция «Триады» необычна. Это рассказ, повесть и роман (малая, средняя и крупная формы), причем каждое из произведений достаточно самостоятельно, чтобы быть опубликованным отдельно. Однако в таком случае очень многое потерялось бы, ведь, как известно, целое больше суммы своих частей. Что же такое «Триада» как целое?
Для Евгения Чепкасова характерно стремление к композиционной симметрии, которая является ключом к одному из слоев подтекста. Каждая из трех вещей, составляющих «Триаду», трехчастна.
В «Кружении» каждая часть подразделяется на три, что дает в сумме 9 – число кругов дантова ада, а сам рассказ достаточно прозрачно соотносится с «Адом» из «Божественной комедии». При вдумчивом прочтении можно даже отгадать, какие именно круги ада зашифровал Чепкасов (1-й, 3-й и 5-й, порядковые номера в сумме дают опять-таки 9). Обращать внимание на цифры я стал после прямой подсказки автора, так что удивляться моей проницательности не следует. Но продолжим наши математические упражнения.
Три части повести «Врачебница» подразделяются соответственно на пять, четыре и три, что в сумме дает 12 (число, весьма положительное; вспомните рассуждение мальчика Жени из «Детского сада» об этом числе). На протяжении трех частей так или иначе упоминаются все 7 церковных таинств – они-то и являются мистическим стержнем повести. Соотнесенность «Врачебницы» с «Чистилищем» Данте также имеется, но поскольку по учению Православной Церкви никакого чистилища не существует, очищающую, врачующую функцию в повести выполняет сама Церковь, что ясно из эпиграфа повести («Понеже пришел во врачебницу, да не неисцелен отыдеши»).
А эпиграф романа «Детский сад» («И выслал его Господь Бог из сада Эдемского») прямо указывает на потерянный рай, так что налицо структурное соответствие «Триады» Чепкасова «Божественной комедии» Данте. Кстати, композиция «Детского сада» симметрично усложнена: три части по девять глав в каждой, три в третьей степени. В этом романе троичность проявляется наиболее заметно: три главных героя (Гена Валерьев, Миша и Женя Солевы), три вставных письма (Гены, Владимира Валерьева и Степы), три вставных стихотворения (Гены, Владимира Валерьева и Миши), три сна Артурки (роль третьего сна выполняет сюжет «Стереоскопа»: «Мне бы могло такое присниться», – признается Артурка), три поездки (в студенческий лагерь, Москву и Дивеево), три символичных детских игры («Тепло – холодно», «Классики», «Догонялки»), причем все эти композиционные элементы равномерно распределены по трем частям романа.
Необходимо сказать, что «Кружение» и «Врачебница» оканчиваются крохотными текстовыми довесочками, как бы выпадающими из их общей структуры, – вероятно, эти довесочки выполняют функцию надписи «Продолжение следует» – и оно, действительно, следует. А после романа «Детский сад» нет ничего, похожего на эпилог, что придает «Триаде» в целом абсолютную композиционную законченность. Хотя вполне возможно, что автор рассчитывал на мою рецензию как на такой текстовой довесочек, который обеспечивал бы структурную симметрию.
Вообще, приверженность Евгения Чепкасова к троичности почти маниакальна, но в «Триаде» эта приверженность вполне оправданна. Точно так же художественно оправдано постоянное упоминание цифры 4 в «Преступлении и наказании», объяснение чего мы находим четвертой главе четвертой части романа – в истории воскрешения четверодневного Лазаря из «четвертого» Евангелия, прочитанной Соней Раскольникову в своей комнатке на четвертом этаже. Впрочем, мы отвлеклись.
Завершая разговор о композиции «Триады», следует обратить внимание на то, что трехчастное деление в каждом произведении весьма остроумно: в «Кружении» это три троллейбусных круга, во «Врачебнице» это три недели, проведенные главным героем в больнице, а в «Детском саде» это три детских игры, особенности которых символически определяют содержание и динамику каждой части.
Теперь следует сказать о художественном методе Евгения Чепкасова. «Триада» – книга, написанная в духе мистического реализма. Мистический компонент происходящего очень ярок в «Кружении», во «Врачебнице» он эпизодичен, а в «Детском саде» почти сводится на нет, как бы уходя на задний план, но при этом чувствуется, что этот задний план вполне реален. Чепкасов использует и некоторые приемы постмодернизма (литературные аллюзии, внутренние авторы, интеллектуальная игра), но это не более, чем приемы, а игра в «Детском саде» выполняет совсем иную функцию, нежели в постмодернизме. В постмодернизме игра призвана показать несерьезность происходящего, отсутствие твердых ориентиров, идеалов, и, по большому счету, реальности как таковой. А в книге Чепкасова нравственные ориентиры и идеалы весьма твердые, они по ходу действия проверяются жизнью, и истинные выстаивают, а ложные идеи разбиваются о жизнь – совсем как у Достоевского. Игры же в романе Чепкасова выполняют функции символически-мистические, т.е. должны восприниматься очень серьезно.
Творческий принцип, который один из героев Чепкасова сформулировал по отношению к Достоевскому, применим и к самому автору: «Однако вернемся к тому, что Федор Михайлович сунул тебя лицом в страсти и грязь. Самая естественная реакция в данном случае какая? Встать и отряхнуться. Движение прочь от хорошо описанной грязи – это движение в сторону неописуемого Бога. А система координат в произведениях Достоевского истинно православная, так что рефлекторное движение читателя предполагается не в сторону какой-нибудь пустой нирваны, а в сторону всепрощающего Христа». Именно благодаря следованию этому принципу в «Триаде» встречается «хорошо описанная грязь». Чепкасову, как ни странно, удается описывать грязь чистыми средствами, т.е. именно хорошо, а если и встречаются в речи его персонажей не вполне приличные слова, то ситуативно и художественно это вполне оправдано (впрочем, мата в его произведениях нет).
Если цель Чепкасова – «рефлекторное движение читателя», прочитавшего его книгу, «в сторону всепрощающего Христа», то это цель миссионерская, а саму книгу следует признать скрытой проповедью. Это и верно, и неверно. Так называемая «идея» произведения, призванная чему-то «научить» читателя, – чаще всего фикция, т.е. все «идеи» возникают в сознании читателей по прочтении, а не следуют из текста напрямую. Вместе с тем, угол зрения, под которым автор показывает окружающий мир, отсев событий окружающего мира, выбор героев – всё это создает некую виртуальную вселенную, или «мир художественного произведения», в который читатель начинает верить. И этот мир, действительно, может повлиять на психику читателя так, как это прогнозировал создатель виртуального мира, т.е. писатель. Многие, полюбившие вселенную Достоевского, стали православными христианами, и я вполне допускаю, что с некоторыми читателями Евгения Чепкасова может произойти то же самое. Но это не значит, что Достоевский или Чепкасов сознательно проповедовали в художественной форме и этой цели подчинили свое творчество. На мой взгляд, они, будучи православными, привнесли в свои произведения свой взгляд на мир, свои духовные интересы, симпатии и антипатии. Писатель, если он правдоподобен и увлекателен, заставляет читателя видеть мир его (писателя) глазами – только и всего. Однако мы опять слегка отвлеклись.

