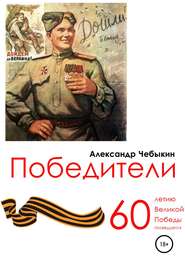 Полная версия
Полная версияПобедители
Филипп, чтобы прокормить семью, мотался по лиманам, ловил рыбу. Времени на это уходило много, но доходов приносило мало. Казаки отправляли делегацию за делегацией в Екатеринодар, в войсковое правительство, с хлопотами о выделении земли. Наконец землю изыскали около Павловского юрта. Было решено переселить половину станицы. В 1903 году делегация во главе со станичным писарем обследовала выделенную землю. Место радовало: чернозем, много малых речек, недалеко – железная дорога. Однако переезд задержался из-за войны с Японией.
В 1906 году отмерили землю, разметили улицы, кварталы. В каждом квартале по четыре подворья на 60 соток земли. Бросали жребий, кому ехать. Разрешалось меняться. В жребии указывался квартал и место в квартале. Подготовка к переезду затянулась надолго. Место не ближнее – до него 300 верст. Весной 1908 года начался переезд. Прощались братья и сестры, оставляя обжитые места, могилы родителей. Ехали в неизвестное. Отец Филиппа – Макар – не перенес расставания со своей станицей. Здесь он родился, женился, отсюда уходил служить, тут вырастил детей. Просил только хоть раз в год навещать могилку, чтобы не затоптала ее скотина.
Харлампий, хоть было ему в ту пору семь лет, хорошо запомнил этот переезд и рассказывал о нем своим детям после Великой Отечественной войны, когда нужно было так же заново обживать землю, поднимать разрушенные фашистами станицы. Но это будет много позже, а пока подростки гурьбой бежали впереди обоза от одного телеграфного столба к другому, слушал как гудят провода, и с восторгом сообщали взрослым, что они подслушивали разговоры, которые передаются по проволоке.
Быстро стали обживаться на новом месте. Соседи, родня все по очереди строили дом за домом. Работы хватало всем: возили глину, воду, месили саман, крыли крыши, вставляли окна. К Покрову вдоль улиц стояло шестьдесят хат. Скот зимовал под навесами. Но и здесь, на новом месте, земли было ограничено: за станицей гуляли стада скота и табуны лошадей пана Кулишова. К началу 1914 года успели построить церковь и школу.
Судьбы
1 августа 1914 года. По станице с вымпелом скачет казак и охрипшим голосом кричит: «Станичники! Война с германцем! Казаки седлают коней, собирают сумы, спешат на сборный пункт.
Павел
В первый же день войны отправился на фронт Павел, находившийся на сборах в лагерях. Павел был грамотен: Фекла старалась дать образование всем детям. Попал служить под Карс в ту же часть, в которой когда-то служил дед, и тоже оружейным мастером. Участвовал в операции по овладению турецкой крепостью Эрзурум в периоде 28 декабря 1915 года по 18 февраля 1916 года. Солдатский Георгиевский крест IV степени получил лично из рук командующего Кавказской армией генерала Н.И. Юденича.
Когда началась революция, Кавказский фронт распался. Грузия объявила свою государственность. Казаки эшелонами в течение месяца добирались до Кубани.
Июнь-сентябрь 1918 года. Второй Кубанский поход Добровольческой армии Деникина. Овладение западными районами Северного Кавказа. Только ночку провел Павел дома, как кто-то доложил в станичное правление о его возвращении. Атаман рано утром подскакал к Филипповой хате и прокричал: «Эй, Филипп, я слышал, сынок вернулся? Пусть придет в правление, разговор есть. Мы новой власти в Москве присяги не давали, по долгу надо послужить старой!»
Павел, позавтракав, отправился в правление и оттуда уже не вернулся. В правлении находились офицеры Добровольческой армии. Павел узнал среди них начальника оружейных мастерских есаула Незабудько. Сначала казаков отправили на станцию Тихорецкая, а после формирования полка бросили под Царицын. В первом же бою Павел попал под артиллерийский обстрел. Снаряд разорвался недалеко. Павла подбросило, а потом швырнуло на землю так, что хрустнули позвонки. В полковой санчасти неделю вытаскивали мелкие осколки из спины, ягодиц, ног, затем казака комиссовали под чистую и с обозом раненых отправили домой. Ходить не мог. Лежал в углу на деревянной кровати. По нужде выводили под руки. Мать бегала по знахаркам, но толку не было. Дошел слух, что в Темрюке есть костоправ-осетин. Съездили, привезли высокого лохматого горца с длинными мускулистыми руками. Осетин оказался крещеным, православным. Успокоил домашних, что вылечит. Если бы сразу пригласили, то за неделю бы поставил на ноги, а теперь сложнее: позвонки сдвинуты, некоторые срослись, надо хрящи ломать и позвонки на место ставить. Плату запросил умеренную: «Он у вас мастеровой, выздоровеет, расплатится».
Через три месяца Павел осторожно ходил по двору, помогал по хозяйству как мог. О женитьбе не думал: куда немощному. Как только установилась власть, подался в Краснодар. Устроился работать на завод «Саломас» слесарем. Скопил деньжат, купил на Дубинке хату. Нашел свою любовь и почти в тридцать шесть лет женился, но детей у них не было: видимо, сказалась контузия. Прибаливал, пожил мало, ушел из жизни в пятьдесят пять лет.
Самуил
Через неделю после начала войны ушел на фронт второй сын Филиппа – Самуил. В боях под Варшавой в 1915 году был ранен в грудь пулей навылет. лежал в госпитале в Могилеве. Демобилизовали по ранению. Осенью 1915 года женился на любви своей – Оксане. Время настало неспокойное, тяжелое. Ранение давало о себе знать. Часто прибаливал. Ранней весной 1918 года через станицу налегке двигались колонны Добровольческой армии генерала Корнилова. Зима в том году была суровая, и среди корниловцев оказалось немало обмороженных. В станице объявили всеобщую мобилизацию. Оксана доказывала вошедшим в хату юнкерам, что Самуил еще не отошел от ранения, слаб, дорогу не перенесет. Юнкера были неумолимы, грозились, если не пойдет, расстрелять за измену. Сказали: «Забираем в обоз, будет ездовым».
Петр
Петр Филиппович Дегтярь был призван в январе 1942 года и через месяц подготовки отправлен на Юго-Западный фронт, 6-й кавалерийский корпус. Погиб в июньских боях 1942 года на Дону.
Харлампий
В апреле 1919 года от холеры умер славный казак Филипп Макарович Дегтярь. Гражданская война продолжалась. Осень 1919 года. В Кубанскую область вошли части Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Деникинцы оставили Екатеринодар.
В декабре 1919 года восемнадцатилетний казак Харлампий Филиппович Дегтярь был призван в Красную Армию и направлен для прохождения службы в Кронштадт. В феврале – марте 1921 года участвовал в подавлении кронштадского мятежа. Замерзал на льду, отморозил ноги, которые потом болели до конца жизни. Летом 1921 года воинскую часть перебросили на Кубань для борьбы с контрреволюцией и саботажем. осенью 1922 года Харлампий был демобилизован по болезни. В родной станице ему приглянулась дивчина Екатерина Сербина. Он несколько раз присылал сватов, но безуспешно. Родители отвечали, что Катя еще не готова к замужеству. По соседству росла статная дивчина Аня, дочь Еремея – друга Филиппа Макаровича. Друзья умерли от холеры в один месяц. Вдовушки помогали друг другу чем могли. Горе сблизило семьи. Аня росла тихой и незаметной. Война шла семь лет, парубков поубавилось. Кругом горе и нужда, не до гуляний. Фекле Аня нравилась: услужливая, послушная, чистоплотная, курносенькая, сероглазая дивчина хоть куда, только женихов в станице не было.
Фекла Павловна не раз говорила сыну: «Ну куда ты лезешь? Сербины богатые, едва ли за тебя Катерину отдадут, посмотри, женихи за ней стаей ходят!» Харлампий отвечал: «Не могу, мама, сердце по ночам ноет по ней…» При встречах так и называл ее: «Сердэнько мое!» Как-то, поссорившись с Екатериной, увидел в соседнем дворе Анну и прокричал: «Аня! Выходи за меня замуж!» Дивчина ответила: «Разве не видишь, с детства ты люб мне. Сватай. Буду верной тебе женой».
Ценил и уважал Харлампий Анну за ее домовитость, уступчивость, но в душе, как игла, сидела несбывшаяся любовь к Екатерине Сербиной. Частенько скучал по ней и в старости, когда встречал, так и говорил: «Здравствуй, мое сердэнько-сербинка!»
В семье Харлампия после рождения сына Дмитрия стало трое детей. Харлампий и Анна воспитывали детей погибших на войне родственников: дочь брата Самуила и племянника по матери. А потом пошли дочери – Нина, Катя, сын Иван. Итого шесть душ, как говорят казаки – едоков. Пришлось строить новый дом: в старом не помещались. В 1929 году дом был готов.
Перелом
Дмитрий рос непоседой: то корова мальчишку на рога поднимет, то он на черешне вниз головой повиснет, то с коня слетит. Хлопот с ним хватало.
В 1929 году началось расказачивание. Бывшие сослуживцы из Добровольческой армии боялись говорить об этом вслух. Прятали на чердаках и в подвалах свою казачью форму. Осенью 1930 года началась коллективизация. Кто записывался в колхоз, обязан был свести на колхозный двор лошадь, скот, птиц отдать подводы, инвентарь, семенной материал, продукты. Вступившие в колхоз во время полевых работ питались на полевой кухне. Кто не вступал в колхоз, считался саботажником советской власти. Злостных противников коллективизации высылали семьями на Север. А те, кто вступал в колхоз, резали скот, прятали семенной хлеб. Многие казаки покинули станицу, бросив семьи на произвол. Харлампий отвел в колхоз лошадь, коров, отвез плуг, бороны, конную соломорезку, мешки с пшеницей Анна не давала, Харлампий грозился: «Не мешай, иначе плеть отхожу!» Но когда стал выводить корову, упала и заголосила: «Не пущу! Чем детей кормить будем?!» Вернулся с распиской, вечером, собрав котомку, отправился на станцию Крыловская, где поступил на строящийся элеватор рабочим.
Зима с 1931 на 1932 год была полуголодной. Доедали припрятанные запасы продуктов. Весной 1932 года поля не пахали, лишь кое-где чернели полоски колхозников. Кормами на зиму не запаслись. Начался падеж скота. Урожай был хилый. Все, что было выращено, отвезли на элеватор. Зимой начался голод. Первой умерла полугодовалая Надя. У Анны от голода пропало молоко, а коровы не было. Собирали остатки силоса из силосных ям и ели. В школе занятия прекратились. Учительница с истощения не могла приходить в школу. Варили и жевали конскую сбрую. От переохлаждения и недоедания Дима переболел коклюшем и золотухой.
Когда пришла весна, было спасение в зелени, но от истощения умерла шестилетняя Катя. Летом Дима наловчился ловить хомяков – мясо варил, а шкурки сдавал. На вырученные деньги покупали крупу. Летом 1933 года в колхоз поступило два трактора. И хотя летом смертность в станице была еще большой, осенний урожай принес в жизнь облегчение. Чтобы быть ближе к семье, Харлампий перебрался на станцию Сосыка, грузчиком на зерносклад. Семью перевез в станицу Павловскую. Здесь Дима пошел во второй класс. Харлампий как-то встретил однополчанина, который стал уговаривать его переехать в Апшеронскую, объясняя, что там сытнее, спокойнее и есть работа. Переехали. Харлампий устроился на буровую предприятия «Хадыжнефть».
В 1936 году Дмитрий перешел в четвертый класс. Научился плавать в горной речке Пшиш. Облазил близлежащие горы. В 1939 году его приняли в комсомол, чему он был безмерно рад. После окончания семи классов поступил в Тихорецкий железнодорожный техникум. Учеба не заладилась. Программы по математике, физике оказались очень трудными. В октябре с другом уехал к тете в станицу Новопетровскую. Погостив недельку, отправились домой. Весной 1941 года с другом Аркадием поступили на работу в изыскательскую партию, а затем с геологоразведочной партией уехали в город Грозный, на нефтепромыслы.
С объявлением войны побежали в военкомат. Народу – тьма. Вернулись домой. 24 июня получили повестки. Ввиду того, что до призывного возраста Диме не хватало нескольких месяцев, ему предложили Грозненское военно-пехотное училище. Записали Диму не Дегтярь, а Дегтярев, но в комсомольском билете до осени 1944 года оставалась запись Дегтярь.
Полгода учебы показались каторгой. Двухгодичную программу уплотнили до шести месяцев. Однако учебные нагрузки были не напрасными: в боевой обстановке не раз спасали жизнь. Через три месяца учебы Дима получил письмо от отца, в котором тот сообщил, что его провожают в армию, и описал интересный факт: когда Диму проводили в Грозный, дома мать зажгла керосиновую лампу, и вдруг верхняя часть стекла ровненько лопнула и отвалилась, но не разбилась. «Тогда мы подумали, что хоть ты и откололся от нас, но не навечно». В сентябре курсанты по тревоге были выведены в лагерь Чишки на берегу реки Сунжа, у подножия гор, где занимались до конца октября. По возвращении из лагеря из числа курсантов был сформирован отряд для уничтожения чеченских банд, которые с началом войны множились, как грибы после дождя, и скрывались в горах и лесах.
В отряд был зачислен и друг Дмитрия Аркадий Андрихин, который был отправлен на фронт в звании сержанта и погиб в боях под Сталинградом.
После нескольких неудачных схваток в горах отряд возвратили в училище, а на уничтожение банд была направлена воинская часть с авиацией и танками.
Учеба в училище продолжалась с утроенной силой. Положение на фронте требовало постоянного пополнения офицерского состава. Командование училища больше и больше нагружало курсантов: учебные тревоги, тактические занятия, многокилометровые броски, стрельбы. У Дмитрия командиром взвода был лейтенант Борис Дзайциев, типичный кавказец, невысокий, худощавый, стройный, эрудированный и очень требовательный офицер. Его присутствие во взводе покоя не сулило. Лейтенанта уважали и боялись. Под стать командиру был и его помощник старший сержант Вышкварка. В строю шагом ходили только тогда, когда надо было проходить с песней. В остальное время двигались бегом. На тактических занятиях сотни метров преодолевали по-пластунски. В программе появились новые предметы: конная подготовка и этика молодого офицера. С фронта поступали все более тревожные сводки Совинформбюро: фашисты продолжали продвигаться в глубь нашей страны. Зачитывалиприказы о необходимости повышения бдительности и мобилизационной готовности. Приближался 1942 год. 28 декабря взвод вышел в поле на занятия. Было сыро, неуютно, шел снег с дождем, а курсанты – в летней форме одежды. Во время занятий прибежал рассыльный и передал распоряжение командира роты лейтенанта Ананишвили: «Взводу по тревоге прибыть в казарму». На этом учеба закончилась. Шестьдесят безусых лейтенантов одели в офицерскую форму и отправили в город Воронеж, штаб Юго-Западного фронта. Из штаба группу из десяти человек, среди которых был и Дмитрий Дегтярев, направили в 3-й кавалерийский корпус, который дислоцировался недалеко железнодорожной станции Касторная. Дмитрий был назначен командиром сабельного взвода в эскадрон старшего лейтенанта Коломийцева.
Первый бой
Через два дня кавалерийский полк по тревоге бросили в бой. Январский мороз обжигал щеки. Полк двигался по заснеженной степи в обход населенных пунктов. Хорошо, что перед выступлением вместо позорных для кавалериста ботинок и обмоток выдали валенки. Ногам было тепло. На рассвете последовала команда: «Стой! Спешиться!» Дмитрий освободил правую ногу, но на левой валенок примерз к стремени. Стал дрыгать ногой, конь вздыбился и помчался вперед. Дмитрий вылетел из седла, его потащило по снегу. От страха билась мысль: сейчас конь наступит задними ногами на туловище и оторвет ногу. Закричали: «Конь утащил лейтенанта!» Несколько офицеров штаба полка на лошадях бросились наперерез. Конь сбавил ход и остановился почти перед окопами противника. Немцы не успели отреагировать, как седока снова усадили на коня, и все поскакали обратно. Противник открыл огонь, но с опозданием. Все обошлось благополучно. В эскадроне посмеивались: «Ну и казак! джигитовал ты лихо! Немцев перепугал, наверное, до сих пор стреляют, а может, бегут до Берлина». Дмитрий отшучивался: «Ладно, насмешники, время покажет, кто из нас казак, а кто – пришей кобыле хвост!»
5 января 1942 года 3-му кавалерийскому корпусу была поставлена задача наступать от станции Клетская в сторону Воронежа, отрезая вклинившиеся немецкие части. Фашисты отбивали атаку за атакой. Наступление проводилось при слабой артиллерийской поддержке. Однако наступательный порыв после разгрома немцев под Москвой был высокий. От солдата до генерала – всем хотелось выбросить фашистов с советской земли. Наступление велось в основном в пешем строю, по глубокому снегу. На белом фоне фигуры солдат в серых шинелях были очень заметны. По окончании наступательных боев к 26 января 1942 года от прежнего состава эскадрона осталось семь человек, трое из которых были серьезно ранены. Дмитрий стоял на дне оврага, прижавшись к коню, и почти плакал. Только подружились с ребятами в эскадроне, многие были с Кубани, а двое – из станицы Крыловской. Санитар перевязал ногу. Пуля задела мякоть ниже колена. Врач успокоил Дмитрия: «До следующего боя заживет!» После недельного лечения при полковом лазарете Дмитрий вернулся в строй. Готовились к новым боям. Полку была поставлена задача выбить немцев из села, в котором, по разведданным, идет скопление сил. Наступать по глубокому снегу, на открытой местности, без авиационной и танковой поддержки – это самоубийство, но приказ есть приказ. Эскадроны полка попали под перекрестный огонь пулеметов, залегли. И только с наступлением темноты отступили, оставляя на поле боя убитых и обмороженных. При первой же атаке пуля навылет пробила Дмитрию правый бок живота и правую ягодицу. Тут помогла учеба в пехотном училище, когда командир взвода заставлял ползать по-пластунски, сливаясь с землей. Разгребая снег, теряя сознание, Дмитрий отползал в тыл. Когда его подобрали санитары, от потери крови в нем чуть теплилась жизнь. На лечение был отправлен в глубокий тыл, в город Ереван.
Сталинград
Через три месяца Дмитрий вернулся в свой теперь уже 20-й кавалерийский полк, который вел боевые действия северо-восточнее Харькова. Советское командование просчиталось, ожидая наступление немцев на Москву с южного направления.
17 июля 1942 года немцы начали наступление по двум направлениям: на Сталинград и на Северный Кавказ. Полку был отдан приказ спешиться, окопаться и не пропустить врага. Двое суток фашисты при поддержке танков и авиации штурмовали позиции полка. Казаки, неся огромные потери, отбивали по пять – шесть атак в день. В воздухе постоянно носилась вражеская авиация, невозможно было поднять головы. Траншеи осыпались, сохранились только индивидуальные ячейки. Полк не отступил, удержал вверенный участок обороны. Казаки показали мужество и верность присяге. На третьи сутки разведка доложила, что фашисты прорвали оборону и слева, и справа. Полк оказался окружении. Трое суток по ночам отходили к Сталинграду, отбивая атаки фашистов. Вырвавшись из окружения, организованно отходили на восток.
В начале августа 3-й кавалерийский корпус был переброшен в излучину реки Дон в районе станции Клетская. В полках корпуса осталось по сто – двести человек. Здесь 20-й полк в течение недели пополнялся людьми и лошадьми. Пополнение шло с Терека, Урала, из Сибири.

После пополнения полк занял оборону на правом берегу Дона. На левом берегу сооружался второй оборонительный рубеж. Фашисты старались сбросить наших солдат в Дон, чтобы прорваться к Сталинграду.
Каждый воин понимал, что отступать некуда: дальше Сталинград. Фашисты с рассвета до заката солнца атаковали позиции полка. Перед фронтом обороны торчали десятки подбитых вражеских танков. Земля была покрыта воронками от вражеских снарядов, мин, бомб. От дыма и гари не было видно солнца.
16 августа на район обороны полка фашисты двинули более 50 танков с автоматчиками. С обеих сторон велся ураганный огонь. Артиллерия подбила несколько танков. Часть немецкой пехоты плотным огнем была отрезана от танков и залегла. Однако около 20 танков с пехотой на броне прорвалось к нашим окопам. Начался неравный поединок. Танки разворачивались над окопами, автоматчики с танков забрасывали окопы гранатами. Танк наползал на окоп Дмитрия. Защищаться было нечем. В руках – пистолет с почти расстрелянной обоймой. Свернулся на дне окопа. В это время сверху свалился на Дмитрия замполит Кочергин, крупный детина. Окопа для себя он никогда не рыл, так как считал, что надо находиться среди солдат и постоянно быть в движении – от взвода к взводу. Видя, что лейтенант тянется за пистолетом, прокричал: «Дегтярев! Это я – Кочергин, потерпи, сейчас атака закончится, наша артиллерия пристрелялась из-за Дона, точно бьет». Дмитрий услышал сильный взрыв и потерял сознание.
Когда лейтенант Дегтярев пришел в себя, было тихо, только слышались стоны раненых. По лицу и рукам текла кровь. Выбрался из-под замполита и увидел его развороченную спину. Брошенная с немецкого танка граната разорвалась над ними, замполит ценой своей жизни спас молодого лейтенанта. Мелкие осколки впились в ноги и руки Дмитрия. Каждое утро он ходил на перевязку в медпункт, где санинструктор выщипывал осколки и прижигал йодом. Это было третье ранение, хотя и легкое, но Дмитрий несколько дней не мог сгибаться и сидеть на лошади. Половину своего сабельного взвода потерял в тех боях лейтенант Дегтярев, но оборонительный рубеж был удержан.
Через день поступил приказ отходить за Дон. Полк пополнился новыми сабельниками, которые фактически выполняли задачу пехоты.
В 30 километрах северо-западнее Сталинграда полк занял оборону на важных стратегических высотах 220 и 127. По восемь – десять атак за день предпринимали немцы. Высоты по нескольку раз в день переходили из рук в руки. При занятии высот на них трава была по пояс, но на третий день боев от травы не осталось и корешков. Кругом все было изрыто и выжжено.
28 августа 1942 года эскадрон занимал оборону на стыке двух полков. Немцы обнаружили этот стык и бросили туда штрафной офицерский батальон. Фашистам удалось ночью скрытно подобраться к окопам. Когда их обнаружили, было поздно. Завязалась рукопашная. Дрались штыками, прикладами, саперными лопатками. Дмитрий из пистолета убил трех фашистов, но кто-то из них с земли успел прошить его автоматной очередью. Две пули пробили верхнюю часть груди навылет.
Когда Дмитрий начал выздоравливать, то при уплате членских взносов по молодости стыдился за свой пробитый и залитый кровью комсомольский билет. Страницы покоробились, и отметки об уплате членских взносов на распухших листочках можно было сделать с трудом. Дмитрий с облегчением вздохнул, когда при вступлении в партию сдал комсомольский билет. Позже пожалел, что не попросил оставить его на память о фронтовой молодости. После войны, когда потребовались справки о ранениях, Дмитрий написал письмо в Главное политуправление армии с просьбой разыскать комсомольский билет, пробитый пулей. Оттуда ответили, что сданные комсомольские билеты не сохранились.
В том бою погиб друг Дмитрия младший лейтенант Зимин из Москвы. Когда кончились патроны и немцы, обнаглев, окружили его, стараясь взять в плен, Зимин успел выдернуть чеку гранаты и взорвать себя с наседавшими фашистами.
Провалявшись два месяца в госпитале, Дмитрий рвался в бой. Объявил начальнику госпиталя, что, если его не выпишут, он убежит на фронт. Спешил отомстить за погибших друзей и боялся, что могут отправить в пехоту. 15 ноября 1942 года был в родном кавалерийском корпусе.
Шла интенсивная подготовка к наступлению, дух которого охватил всех. Хотелось быстрее изгнать фашистов с родной земли. Земля кубанская была рядом. В ночь с 18 на 19 ноября 1942 года кавалерийский корпус сосредоточился в лесу у реки Дон между станицами Вешенская и Клетская. Выпал небольшой снег, крепчал мороз. В пять утра началась артподготовка. На том берегу Дона оборону держали румынские части. Они попробовали вести ответный огонь, но их батареи вскоре были подавлены. После артподготовки над окопами противника появились эскадрильи наших штурмовиков. Корпус начал переправляться через Дон небольшими группами. Ночью саперы на неокрепшем льду разложили маты и всю ночь поливали их водой. К утру получился мост. Переправа растянулась на несколько часов.
Переправившись через Дон, корпус не встретил сопротивления. По дорогам валялись румыны и брошенная техника. Вскоре настигли румынский полк на марше, который без сопротивления сдался. Встречали колонны румынской пехоты, которые шли с белыми флагами и спрашивали: «Где здесь русский плен?»
К вечеру корпус натолкнулся на сопротивление немцев, переброшенных с других участков фронта. В течение четырех схваток кавалерийский корпус при поддержке танковых частей артиллерии, сбивая один немецкий заслон за другим, продолжал продвигаться в тыл врага.
23 ноября в районе станицы Кривомузчиненской корпус встретился с войсками Юго-Западного фронта. Кольцо окружения вокруг 6-й и 4-й немецких армий замкнулось. Фашисты любыми силами старались вырваться. Плацдарм, занимаемый немцами, с каждым днем уменьшался.
Разведка боем
28 декабря 1942 года полк продолжал боевые действия по уничтожению окруженной вражеской группировки. Продвижению вперед мешал сильный огонь противника. Вечером в расположение эскадрона прибыл командир полка подполковник Буйницкий. Штаб полка в течение дня отправил две разведгруппы, но ни одна не вернулась. Было решено провести разведку боем в ночное время верхом на лошадях с целью обнаружения огневых точек противника. Командир эскадрона капитан Коломийцев вызвал лейтенанта Дегтярева и приказал подобрать казаков-добровольцев. Командир полка поставил группе следующую задачу: подскакать к окопам гитлеровцев как можно ближе и галопом преодолеть полкилометра вдоль обороны противника, вызвав тем самым огонь на себя, а в это время артиллеристы засекут огневые точки противника. Поставив задачу, подполковник обратился к группе: «Выполнить приказ готовы?» Пятерка ответила дружно: «Выполним!» Отозвал лейтенанта Дегтярева и по-отечески спросил: «Лейтенант, скажи прямо: не струсишь, приказ выполнишь?» Дегтярев понимал, что группа идет на верную смерть, и, преодолевая чувство страха, ответил: «Выполним, товарищ подполковник!» – «Тогда вперед!» Дегтярев подал команду: «За мной галопом!»



