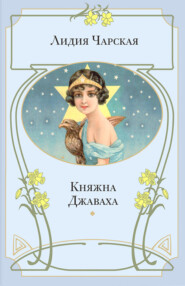скачать книгу бесплатно
Княжна Джаваха
Лидия Алексеевна Чарская
Маленькая Нина рано потеряла любимую маму и осталась на попечении отца – грузинского князя, боевого генерала. Девочка – отличная наездница и отчаянная искательница приключений, но с нежной, чуткой и отзывчивой душой. Юной княжне, выросшей на солнечном Кавказе с его благодатной природой и яркими восточными обычаями, первое время было очень неуютно в далеком северном Петербурге, в мрачных стенах института. Гордый нрав, достоинство и прямота Нины принесли ей множество неприятностей. Но постепенно она сумела завоевать уважение наставников и авторитет среди воспитанниц. И главное – она нашла настоящего, на всю жизнь, друга…
Лидия Чарская
Княжна Джаваха
© ЗАО «ЭНАС-КНИГА», 2016
Часть первая. На Кавказе
Глава I. Первые воспоминания. – Хаджи-Магомет. – Черная роза
Я грузинка. Мое имя Нина – княжна Нина Джаваха-оглы-Джамата. Род князей Джамата – славный род; он известен по всему Кавказу, от Риона и Куры до Каспийского моря и дагестанских гор.
Я родилась в Гори, чудном, улыбающемся Гори, одном из самых живописных и прелестных уголков Кавказа, на берегах изумрудной Куры.
Гори лежит в самом сердце Грузии, в прелестной долине, нарядный и пленительный – со своими развесистыми чинарами, вековыми липами, мохнатыми каштанами и розовыми кустами, наполняющими воздух пряным, одурманивающим запахом красных и белых цветов. А вокруг Гори – развалины башен и крепостей, армянские и грузинские кладбища, дополняющие картину, полную чудесных и таинственных преданий старины…
Вдали синеют очертания гор, белеют жемчужным туманом могучие, недоступные вершины Кавказа – Эльбрус и Казбек, над которыми парят гордые сыны Востока – огромные серые орлы…
Мои предки – герои, сражавшиеся и павшие за честь и свободу своей родины.
Еще недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов, повсюду раздавались стоны раненых. Там шла беспрерывная война с полудикими горцами, совершавшими постоянные набеги на мирных жителей из ущелий своих недоступных гор.
Тихие, зеленые долины Грузии плакали кровавыми слезами…
Во главе горцев стоял храбрый вождь Шамиль, одним движением глаз посылавший сотни и тысячи своих джигитов в набеги на христианские селения. Сколько горя и слез, какие разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестер и матерей было в Грузии!..
Но вот явились русские и вместе с нашими воинами покорили Кавказ. Прекратились набеги, затихли враги и обессиленная войной страна вздохнула свободно…
В числе вождей, смело выступивших на грозный бой с Шамилем, был и мой дед, старый князь Михаил Джаваха, и его сыновья – смелые и храбрые, как горные орлы.
Когда отец рассказывал мне подробности этой ужасной войны, унесшей столько храбрых воинов, мое сердце билось и замирало, словно желая вырваться из груди.
В такие минуты я жалела, что родилась слишком поздно, что не могла скакать с развевающимся в руках белым знаменем среди горстки храбрецов по узким тропам, повисшим над страшными стремнинами Дагестана…
Во мне сказывалась южная, горячая кровь моей матери.
Моя мама была простая горянка из аула Бестуди. В этом ауле поднялось восстание, и мой отец, тогда еще совсем молоденький офицер, был послан с казачьей сотней усмирить его.
Восстание подавили, но мой отец еще не скоро уехал из аула…
Там, в сакле[1 - Са?кля – дом в горском селении.] старого Хаджи-Магомета, он встретил его дочку – красавицу Марием. Черные очи и горные песни прекрасной татарки покорили отца, и он увез Марием в Грузию, где стоял его полк.
Там она приняла христианскую веру – против воли разгневанного отца – и вышла замуж за русского офицера.
Старик долго не мог простить этого своей дочери…
Я помню маму с раннего, очень раннего возраста. Когда я ложилась в кроватку, она присаживалась на ее край и пела песни с печальными словами и грустным мотивом. Она хорошо пела, моя бедная красавица «деда»[2 - Мать, мама (груз.).]! И голос у нее был нежный и бархатный, как будто созданный для таких печальных песен. Да и вся она была такая нежная и тихая, с большими грустными черными глазами и длинными косами до пят. Когда она улыбалась, казалось, улыбалось небо…
Я обожала ее улыбку, как обожала ее песни. Одну из них я отлично помню. В ней говорилось о черной розе, выросшей на краю пропасти в одном из дагестанских ущелий. Порывом ветра пышную дикую розу унесло в зеленую долину. И роза загрустила и зачахла вдали от своей милой родины. Слабея и умирая, она тихо молила горный ветерок отнести ее привет в горы…
Незамысловатая песенка с простыми словами и еще более простым мотивом… Но я обожала эту песню, потому что ее пела моя красавица мать.
Часто, оборвав песню на полуслове, «деда» брала меня на руки и, крепко-крепко прижимая к своей худенькой груди, лепетала сквозь смех и слезы:
– Нина, джаным[3 - Душа, душенька (татар.); самая употребительная ласка на Востоке.], любишь ли ты меня?
О, как я любила ее, как я любила мою ненаглядную «деду»!..
По мере того как я становилась старше и понятливее, меня все больше и больше поражала печаль ее прекрасных глаз и тоскливых напевов.
Как-то раз, лежа в своей постельке с закрытыми от подступающей дремы глазками, я невольно услышала разговор мамы с отцом.
Она смотрела вдаль, на черную змейку убегающей в горы тропинки, и шептала с тоской:
– Нет, сердце мое, не утешай меня, он не приедет!
– Успокойся, моя дорогая, он опоздал сегодня, но он будет у нас, непременно будет, – успокаивал ее отец.
– Нет, нет, Георгий, не утешай меня! Мулла[4 - Мулла? – мусульманский священник.] его не пустит…
Я поняла, что мои родители говорили о дедушке Хаджи-Магомете, все еще не желавшем простить свою дочь-христианку.
Иногда дед приезжал к нам. Он всегда появлялся внезапно со стороны гор, худой и жилистый, на своем крепком, словно из бронзы вылитом коне, проведя несколько суток в седле и нисколько не утомившись длинной дорогой.
Лишь только высокая фигура всадника показывалась вдали, моя мать, оповещенная прислугой, сбегала с кровли, где мы проводили большую часть нашего времени (привычка, принесенная ею из родительского дома), и спешила встретить его за оградой сада, чтобы, по восточному обычаю, подержать ему стремя, пока он спешивался.
Наш денщик, старый грузин Михако, принимал лошадь деда, а старик Магомет, едва кивнув головой моей матери, брал меня на руки и нес в дом.
Меня дедушка Магомет любил необычайно. Я его тоже любила и, несмотря на его суровый облик, ничуть не боялась.
Лишь только, поздоровавшись с моим отцом, он усаживался с ногами, по восточному обычаю, на пестрой тахте, я вскакивала к нему на колени и, смеясь, рылась в карманах его бешмета[5 - Бешме?т – род кафтана, обшитого галуном.], где всегда находились для меня разные лакомства, привезенные из аула. Чего тут только не было – и засахаренный миндаль, и кишмиш[6 - Кишмиш – изюм, сушеный виноград.], и немного приторные медовые лепешки, мастерски приготовленные красавицей Бэллой – младшей сестренкой моей матери.
– Кушай, джаным, кушай, моя горная ласточка, – говорил он, приглаживая жесткой худой рукой мои черные кудри.
И я не заставляла себя долго упрашивать. Я наедалась до отвала этими легкими и вкусными, словно таявшими во рту лакомствами.
Потом, покончив с ними и все еще не слезая с колен деда, я внимательно и жадно прислушивалась к тому, что он говорил моему отцу.
А говорил он много и долго… И все об одном и том же: о том, как упрекает и стыдит его при каждой встрече старик мулла за то, что он отдал свою дочь «урусу»[7 - Урусами горцы называют русских, грузин и вообще всех христиан.], что позволил ей отречься от веры в Аллаха и спокойно пережил ее проступок.
Отец, слушая деда, только крутил свой длинный черный ус да хмурил тонкие брови.
– Слушай, кунак[8 - Друг, приятель (татар.).] Магомет, – вырвалось у него в одну из таких бесед, – тебе нечего беспокоиться за твою дочь: она счастлива, ей хорошо здесь, наша вера стала ей родной и близкой. Да и сделанного не исправить… Не беспокой же ты даром мою княгиню. Видит Бог, она не перестала быть тебе покорной дочерью. Передай это своему мулле, и пусть он поменьше заботится о нас да поусерднее молится своему Аллаху.
Боже мой, как вспыхнуло от этих слов лицо деда! Он вскочил с тахты. Глаза его метали молнии… Он поднял на отца пылающий взор – взор, в котором сказалась вся полудикая натура кавказского горца, и заговорил быстро и грозно, мешая русские, татарские и грузинские слова:
– Кунак Георгий! Ты урус, ты христианин и не поймешь ни нашей веры, ни нашего Аллаха и его пророка… Ты взял жену из нашего аула, не спросив желания ее отца. Аллах наказывает детей за непокорность родителям… Марием знала это и все же пренебрегла верой отцов и стала твоей женой. Мулла прав, не давая ей своего благословения. Аллах вещает его устами, и люди должны внимать воле Аллаха…
Он говорил еще долго, очень долго, не подозревая, что каждое его слово прочно отпечатывается в юной головке сжавшейся в уголке тахты маленькой девочки.
А моя бедная «деда» слушала сурового старика, дрожа всем телом и бросая на моего отца умоляющие взгляды. Он не вынес этого немого укора, крепко обнял ее и, пожав плечами, вышел из дому. Через несколько минут я видела, как он скакал по тропинке в горы. Я смотрела на удаляющуюся фигуру отца, на стройный силуэт коня и всадника, и вдруг точно что-то толкнуло меня к Хаджи-Магомету.
– Дедушка! – неожиданно прозвучал в наступившей тишине мой звонкий детский голос. – Ты злой, дед, я не буду любить тебя, если ты не простишь маму и будешь обижать папу! Возьми назад твой кишмиш и твои лепешки, я не хочу их брать у тебя, если ты не будешь таким же добрым, как папа!
И, недолго думая, я быстро вывернула карманы, которые набила привезенными дедом лакомствами, и вывалила все их содержимое на колени изумленного старика.
Моя мать, сжавшись в углу комнаты, делала мне отчаянные знаки, но я не обращала на них внимания.
– На, на! И свой кишмиш бери, и лепешки бери, и армянские пряники… Ничего, ничего не хочу от тебя, злой, недобрый дед! – твердила я, вся дрожа, как в лихорадке, продолжая выкидывать из карманов остатки лакомств.
– Кто учит ребенка непочтению к старости? – загремел на весь дом голос Хаджи-Магомета.
– Никто меня не учит, дедушка! – смело крикнула я. – Моя мама, хоть не молится на восток, как ты и Бэлла, но она любит вас, и аул твой она любит, и горы, и скучает без тебя и молится Богу, когда ты долго не едешь, и ждет тебя на кровле… Ах, дедушка, дедушка, ты и не знаешь, как она тебя любит!
Что-то необъяснимое промелькнуло при этих словах в лице старика. Орлиный взор его упал на маму. Видимо, много любви и муки прочел он в глубине ее кротких черных глаз, – только его собственные глаза заблестели еще ярче и словно подернулись набежавшей влагой.
– Правда ли, джаным? – скорее прошептал, нежели спросил Хаджи-Магомет.
– О, батоно![9 - Уважаемый, господин; почтительное обращение (груз.).] – со стоном вырвалось из груди моей матери, и, подавшись вперед всем своим гибким и стройным станом, она упала к ногам деда, тихо всхлипывая и лепеча только одно слово, в котором выражалась вся ее беспредельная любовь к нему:
– О, батоно, батоно!
Он схватил ее, поднял и прижал к своей груди.
Я не помню, что было дальше. Я понеслась, как бешеная горная лошадка, по тенистым аллеям нашего сада, будучи не в силах сдержать порыв восторженного счастья, могучей волной охватившего мое детское сердечко…
Я носилась, задыхаясь, плача и смеясь одновременно. Я была счастлива, как никогда, острым, захватывающим, почти невыносимым порывом счастья…
Когда, немного успокоившись, я вернулась в комнату, то увидела мою мать, сидящую у ног деда… Его рука лежала на ее чернокудрой голове, и в глазах обоих сияла радость.
Отец, вернувшийся во время моей бешеной скачки по саду, подхватил меня на руки и покрыл мое лицо градом самых горячих и нежных поцелуев. Он был так счастлив за маму, мой чудный, гордый отец!
Это был лучший день в моей жизни. Это было первое настоящее, осознанное счастье, и я наслаждалась им всем моим юным сердечком…
Вечером у моей постельки они собрались все втроем – отец, мать, дедушка; и я, смеясь сквозь дремоту, соединила их большие руки в моих крошечных кулачках и заснула под их ласковый тихий шепот…
Новая, чудесная, мирная жизнь воцарилась под нашей кровлей. Дед Магомет чаще приезжал из аула, один или с Бэллой, моей юной теткой – участницей моих детских игр и проказ.
Но счастье наше длилось недолго. Прошло всего несколько месяцев после того благословенного дня, как вдруг моя бедная дорогая мама тяжко заболела и скончалась. Говорят, она зачахла от тоски по родному аулу, который не могла навещать, опасаясь оскорблений со стороны фанатиков татар и ее непримиримого врага – старого муллы.
Весь Гори оплакивал маму… Весь полк отца, горячо любивший ее, рыдал, как один человек, провожая худенькое тельце, усыпанное розами и магнолиями, на грузинское кладбище поблизости от Гори.
Мне до последней минуты не верилось, что она умирает…
Перед смертью она не спускалась с кровли дома, откуда любовалась синеющими вдали горами и серебристо-зеленой лентой Куры.
– Там Дагестан… там аул… там мои горы… Там отец и Бэлла… – шептала она между приступами кашля и указывала вдаль, на северо-восток, крошечной, почти детской от худобы рукой.
И вся она, укутанная в белую бурку, казалась нежным, прозрачным ангелом восточного неба.
С мучительной ясностью я помню вечер, когда она умирала…
Тахту, на которой она лежала, подняли на кровлю, чтобы она могла полюбоваться горами и небом. Гори засыпал, овеянный крылом благоуханной восточной ночи. Спали розы на садовых кустах, спали соловьи в чинаровых рощах, спали руины таинственной крепости, спала изумрудная Кура в своих каменных берегах, и только одно несчастье не спало, одна смерть бодрствовала, поджидая свою жертву…
Мама лежала с открытыми глазами, странно блестевшими в наступившей темноте. Точно какой-то свет исходил из этих глаз и освещал все ее лицо, обращенное к небу. Лучи месяца золотыми иглами скользили по густым волнам ее черных волос и венчали блестящей короной ее матово-белый лоб…
Отец и я притихли у ее ног, боясь нарушить покой умирающей, но она сама поманила нас трепещущей рукой и, когда мы склонились к ее лицу, заговорила быстро, но тихо-тихо, чуть внятно:
– Я умираю… да, это так… я умираю… Но мне не горько, не страшно… Я счастлива… Я счастлива тем, что умираю христианкой… О, как хороша она – твоя вера, Георгий, – прибавила она, обращаясь к моему отцу, припавшему к ее изголовью, – и я удостоилась ее… Я христианка… я иду к моему Богу… Единственному и великому… Не плачь, Георгий, береги Нину… Я буду смотреть на вас… буду любоваться вами… А потом… не скоро, да, но все же мы соединимся… Не плачьте… прощайте… нет, до свидания… Как жаль, что нет отца… Бэллы… Передайте им, что я их люблю… и прощаюсь с ними… Прощай и ты, Георгий, моя радость, спасибо тебе за счастье, которым ты одарил меня… Прощай, свет очей моих… Прощай, моя джаным… моя Нина… Моя малютка… Прощайте оба… не забывайте… свою черную розу…
Начинался бред… Потом она уснула, чтобы больше никогда не проснуться. Она умерла тихо, так тихо, что никто не заметил момента ее кончины…
Я задремала, прикорнув щекой к ее худенькой руке, а проснулась под утро от ощущения холода на моем лице. Рука мамы сделалась синей и холодной, как мрамор… А у ног ее бился, рыдая, мой бедный осиротевший отец.
Гори просыпался… Лучи восхода осветили печальную картину. Я не могла плакать, хотя ясно осознавала случившееся. Точно ледяные оковы сковали мое сердце…
А внизу по берегу Куры скакал всадник. Он, видимо, торопился в Гори и безжалостно гнал коня.
Вот он близко… еще ближе… Я узнала в нем деда Магомета…
Еще немного – и всадник пропал под склоном горы. Внизу хлопнула калитка… Кто-то по-юношески быстро взбежал по лестнице, и в тот же миг Хаджи-Магомет ступил на кровлю.
Трудно передать тот вопль отчаяния и бессильного, нечеловеческого горя, который вырвался из груди несчастного отца при виде тела дочери.
Страшен был крик деда Магомета… Он потряс, казалось, не только стены нашего дома, но и весь Гори и диким эхом раскатился в горах по ту сторону Куры. Вслед за первым воплем раздался второй, третий… Потом дед внезапно затих и, упав на пол, лежал без движения, широко раскинув свои сильные руки.
Только теперь я поняла, как бесконечно дорога была моя мать этому полудикому обитателю горного аула…
Вряд ли подозревала она когда-нибудь о силе этой молчаливой отцовской любви, вряд ли понимала она чувства своего сурового отца!
Если бы она могла ощутить их на своем смертном ложе, каким счастьем озарилось бы ее прекрасное лицо!
Но – увы! – ни понимать, ни чувствовать она уже не могла. Перед нами был труп той, которая еще так недавно пела свои чудесные песни, полные восточной грусти, и смеялась тихим, печальным смехом. Только труп…
Она умерла – моя красавица «деда»! Черная роза обрела свою родину. Ее душа вернулась в родные горы…
Глава II. Отец. – Бабушка. – Последний отпрыск славного рода
Мамы не стало. На горийском кладбище прибавилась еще одна могила. Под кипарисовым крестом, у корней огромной чинары, спала моя «деда»…
В доме наступила тишина, зловещая и жуткая. Отец заперся в своей комнате и не выходил оттуда. Дед ускакал в горы… Я бродила по тенистым аллеям нашего сада, вдыхала аромат пурпурных бархатистых розанов и думала о моей матери, улетевшей в небо… Михако пробовал меня развлечь. Он принес откуда-то орленка со сломанным крылом и пытался обратить на него мое внимание:
– Княжна, матушка, глянь-ка, пищит!
Орленок действительно пищал, изнывая в неволе, но своим писком еще больше растравлял мне душу. «Вот и у него нет матери, – думалось мне, – и он, как я!»