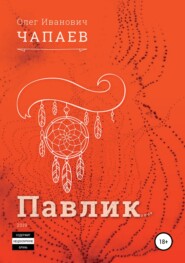 Полная версия
Полная версияПавлик
– А что шаман с Анатолием этим? – не выдержал Игорь Сергеевич.
– А что – они? Да вы смеетесь, что ли? Меня же и не было там, у костра, я-то на поле был том. Весь, причем, без остатка… Вот, стало быть, оно до пика своего и дошло, ощущение это. И тут, – он виновато пожал плечами, – я вообще ничего толком описать не смогу, как вышло все. Просто вдруг я как будто команду себе внутреннюю дал, шлюзы открыл какие-то, что ли… Причем, как именно открыл, тоже не спрашивайте, открыл – и все! И как только это случилось, меня опять из одного кадра в другой неожиданно перебросило… Знаете, как это выглядит? Будто кто-то рубильник перещелкнул, и все – я уже не здесь совсем, и об этом «моем» и воспоминаний никаких не осталось! И тут – опять Москва довоенная моя, – он невесело усмехнулся. – Ну не моя, конечно, не Павлика, а другого меня – Игорь Смирнов который. Вечер, каток, музыка играет, люди какие-то… Лица счастливые у всех, девчонки, мальчишки… А я – тот я, Игорь Смирнов который, – с этого катка выходить как раз собираюсь… И тут еще дольше рассказывать можно, откуда я все знаю, как, почему, но смысла нет. Ведь ты, чтобы ты сам про себя сейчас в этот самый момент ни думал, все про себя без остатка знаешь. Знаешь, что, как, почему… Как зовут, что минуту назад случилось, что год назад было. У тебя ведь всегда история про себя сегодняшнего готовая есть! А уж сколько в ней правды, в истории той, это только будущее покажет. Ты вот вроде только что Павликом Андреевым был, тридцати четырех лет отроду, с историей богатой внутренней, а еще миг – и на поле ты весеннем, перед атакой последней. И история у тебя – не беднее, чем у Павлика Андреева из две тысячи восьмого, а побогаче еще, как практика-то показывает! Вот так и там… Чтобы коротко совсем, мне, Игорю Смирнову, сейчас с катка выходить нужно и домой идти. А идти я не могу, если честно, и причина – ждут меня. Я даже имя его помню – Колька Бык. Он в той Москве моей, довоенной, рядом с нами живет, на Покровке… И мы дворами нашими не то чтобы прямо там воюем до крови, но и не сказать, что мирно живем. Так вот… Я на каток-то один пришел, без пацанов наших, а территория – вроде бы их. И мы с ним на катке и схлестнулись прямо. Не, не до драки, так у нас не принято было. Но он мне коротко так бросил: жду, мол, тебя на выходе! Я-то ведь знаю, что у нас уже не раз зарубы были, в той моей жизни, имеется в виду. И сценарий мне до боли известен. Там, от катка недалеко, двор есть один, куда мы всегда пластаться ходили, коли кто с кем чего не поделил. А Колька этот – здоровенный амбал, не зря его Быком прозвали! И у меня против него – ни одного шанса! А пластались-то тогда по серьезному! Не до смерти, конечно, нет, но могло и до увечий дойти. И никогда еще мне с ним драться не приходилось! Я не дохляк какой, скорее, наоборот! Мог всегда за себя сам постоять, и в табеле о рангах нашем – не на последнем месте. Когда приходилось коллективом отношения выяснять, то проще все. Без раздумий, без разбору – пошел вал на вал, но такое совсем редкостью было. Обычно один на один и ходили, как на дуэли, прямо. Да и в одиночку я выходил много раз… Меня били, я бил, по-всякому складывалось… А тут – я один, а этих несколько… И хоть пластаться-то мы один на один с Быком должны, только не легче мне от этого ну ни капли. И вот стою я перед выходом с катка, а сам знаю: они уже там, во дворе том. И они знают, что я это знаю, и ждут меня. А там – кровь, зубы, ребра, может быть… Всяко же он меня в муку измочалит… И вот тогда я и понял, что выход есть! Ведь нет никого, наших то есть! И могу я сейчас мимо двора этого проскочить, и, по большому счету, даже не упрекнет меня никто, если до суда-разбора дело дойдет. Строго говоря – не за что! У меня тем временем уже и руки слабеют, и в животе – как пронесет сейчас: слабость, тошнота… Пиздец, одним словом, как страшно… правда, от чего именно страшно, и сам не пойму, – Павлик повел плечами. – Не убьет ведь, калекой не оставит. Ну синяки, ну шишки… На худой конец – перелом там какой. А мозги-то не так работают, я вам скажу! Совсем не так! Нагнетают мозги ужас, сценарии разные рисуют… И плохо мне стало – до обморока. И я, – его голос сел, – сам не пойму, как мимо двора этого мышью серой проскочил! Тайком, как крыса, и – по стеночкам, по стеночкам да домой. Домой пришел – ноги не держат, сразу в постель. Больным сказался, мама давай меня обхаживать: чай с вареньем, мед… А я ни на нее смотреть не могу, ни на себя, – голос Павлика задрожал. – Я-то мечтал отрубиться сразу, но куда там… «Хуюшки хую, – сказали пьяные гости, – мы остаемся ночевать!» – как в народе говорят в таких случаях. Лежу, значит, без сна, и только в этот миг осознавать и начинаю, что же натворил-то. Не понимаю, а именно осознаю! Как просветление какое накатило, да поздно… Мне все видеться начало, как оно на самом деле было… Крысиные перебежки эти мои мимо двора того, взгляд зашуганный, коленки трясущиеся… И понять ничего не могу: да что бы случилось-то? Ну подумаешь, драка, пусть и перелом несчастный! Так сколько я пластался-то ведь уже! И один на один, и с несколькими! Били, синяки сводил, больно было – не спорю. Но чтобы вот так, на ровном месте в штаны наложить, пасануть и развернуться от драки, не было такого со мной ни разу! Не было, да случилось, – голос его снова завибрировал. – Кольку Быка, к слову, через неделю посадили. За что – разные слухи ходили, но в целом – бомбанули они военного какого-то. Ну а их, естественно, сразу и нашли. Взяли тепленьких еще, и всем – на полную катушку. И про подвиг этой мой, крысиный, никто и не узнал никогда. Только, – Павлик пригубил текилу, – это ведь не важным совсем оказалось-то! Жить со всем этим только мне теперь предстояло… С трусостью с моей, с крысиными перебежками по стеночкам темным… С мерзостью этой, которая, как покрывало липкое, опутала меня тогда… Знаете, – его губы снова затряслись, – я в тот момент в первый раз, наверное, понял, что такое – честь потерять. Ведь для нас сейчас мертвые это все слова: честь, мужество, совесть. Что обертка, из которой конфету вынули, лишь одна бумажка липкая в руках осталась… А откровение, оно ведь взрывается в тебе в один миг! И нет больше абстракций никаких туманных, и за каждым мертвым словом его живая суть осознается. Вот и у меня, когда я по тем стенкам от махалова с Быком бежал, будто бы части какие-то отрезали. Важные очень части… И жить без них, – он поднял глаза на Игоря Сергеевича, и тот поразился застывшей в них муке, – не то чтобы хуже смерти, а просто нельзя! Это не жизнь… – Павлик глубоко вздохнул. – Это и есть смерть. Медленная только очень. Вонючая, мерзкая, липкая… Вонь от этой смерти исходит, смердит она… Как будто заживо разлагаешься… А ведь сам-то я тогда и не заметил почти никто ничего, только брат мой Олежка что-то такое почуял. Погиб он, в сорок первом сразу и погиб, – молодой человек кивнул, отвечая на незаданный вопрос. – Олег Евгеньевич Смирнов, двадцать четыре года ему тогда было. И отец погиб, – голос звучал теперь глухо, безжизненно, – Евгений Семенович Смирнов, капитан Красной Армии. Летчиком он был, и на Халкин-Голе в мае тридцать девятого и погиб. Смертью храбрых, естественно. Только это все еще не скоро будет. Мы к этому еще шли только, хотя и знали уже, что – не за горами. И вот Олег-то тогда и почувствовал что-то, все расспрашивать меня пытался, а я – ни в какую. Так и не поговорили с ним об этом… – из груди Павлика снова вырвался тяжелый вздох. – И ведь улеглось все, как я сам себе думал. Молодость, она свое возьмет по любому… Оправдания найдет, временем залечит… Так вроде бы и сгладилось все. Время, говорят, все лечит, однако я вам скажу: иллюзия это. Есть такие вещи, которые никакое время не вылечит. Ничто не в состоянии такое вылечить. В угол темный загнать можно, в чулан подсознания спрятать, это да… Но все одно, как угли под пеплом, это тлеть будет, часа своего дожидаясь. А стоит только часу пробить – полыхнет все в один момент, и не спрятаться от этого уже, ни укрыться. Если бы знали мы, что платить придется за каждый миг такой, много бы чего люди не творили. И чем дольше времени до расплаты пройдет, тем лишь хуже…
Павлик задрал голову и бездумно уставился в небо, а Игорю Сергеевичу вновь показалось, что глазах его молодого собеседника пылают маленькие язычки пламени. Тем временем он продолжал:
– Чем дольше носить в себе это, тем хуже выйдет только. Съешь себя поедом, сам того даже не желая. Вроде и забыл уже все, вроде – лишь пепел один, а коснешься, поворошишь чуток – и амба! Все на свои места встает. Вот совесть-то, как я тогда догадываться начал, это голос внутренний и есть. И не убить ее, ни заглушить, ни спрятаться от нее… Она где угодно достанет, найдет и свое возьмет обязательно, как ни хоронись. Важно еще, что ни к хорошему это отношения никакого не имеет, ни к плохому. Совесть – это не добро там какое, и не зло абстрактное. Не заповеди, не правила… Это вроде внутреннего маяка, который тебе всегда говорит, как поступать прямо сейчас нужно. И еще один голос постоянно звучит – голос ума. И вот он-то почти всегда с голосом совести спорит. Оправдания ищет, предлоги… Совесть, она ведь каждый раз почти через горнило ведет, через боль, сложности… Почему так, не знаю я, – Павлик снова горестно вздохнул. – Как сейчас понимаю и думаю: для роста так нашего нужно! Для того, чтобы постоянно идти вперед, преодолевать, развиваться… А уму, ему этого не нужно… Уму жить нужно, да чтобы без боли, желательно, без крови, без грязи… Да без надрыву, – он прикурил следующую сигарету, – желательно. Вот я тогда свою дорожку и выбрал, а она прямо на то поле и привела меня… Долго, долго я вам тут сейчас рассказываю, а там, повторяю же, не существует никакого времени вообще. Вот за одно короткое мгновение у меня все это перед глазами и пролетело. И знаете, что? – он задумчиво посмотрел на прудик посередине двора. – Как только это осознание во мне вызрело, будто щелкнуло что-то во мне… Как будто я там, на катке, снова оказался перед развилкой той… Направо – в подворотню, голову свою терять… А налево – вроде бы и живым останешься, да только это так, название лишь одно останется, что живой. Труп смердящий, в котором кое-что еще теплится, но начинки самой главной, которая жизнь-то и дает, ее и нет уже! И стоило только мне на этой развилке оказаться сызнова – словно пленку назад перекрутили: и мыслей даже нет у меня больше, что налево свернуть можно. Нет никакого выбора, как я вам сейчас скажу, в такой ситуации! Нечего тут сохранять, как выяснилось. То, что таким позорным макаром сохранить можно, с ним и жить-то потом нельзя, а вот теряешь ты как раз то, без чего и не жизнь совсем, а просто говно бледное. И я будто бы шанс второй получил… Ну и направо, естественно, двинулся… Или, – он усмехнулся и потер руками щеки, – подумал, что двинулся. Но факт-то фактом остается: я словно бы переиграл эту историю заново! Словно изменил все одним махом, хотя и говорят, что прошлое изменить нельзя. Не знаю уж, можно или нельзя, но с меня в тот момент как плиту стотонную скинули! Будто груз неимоверный спал с меня в один миг! Я и обрадоваться-то не успел толком, и легкости всей еще в полной мере не прочувствовал, – губы у Павлика снова задрожали, – как оно все и случилось…
После этих слов он молчал очень долго, а Игорь Сергеевич ничего не спрашивал и терпеливо ждал. Но вот Павлик слегка улыбнулся:
– Странное дело… Вот если бы я знал, каково это – заново через все пройти, я бы, наверное, и не начинал даже рассказ-то свой. Вы же первый, кому я эту историю рассказываю…
Брови у его слушателя сложились удивленным домиком, но он лишь покачал головой и не проронил ни слова.
– А теперь конец уже близко. Совсем рядом почти, если так-то судить, только вот подойти к нему не так-то просто, выходит, – Павлик задумчиво пригубил текилу и в очередной раз закурил. – Быстро все произошло, в миг один… Как граната под ногами у меня рванула, если аналогии доступные использовать. Вспышка какая-то яркая… А может, и не было ничего такого, а просто додумал сам потом уже. Ощущения мои если словами описывать, то меня как будто на десятки маленьких кусочков в одну секунду разорвали. Без боли, без шума, но именно что порвали… Еще миг назад я один был, Игорь Смирнов который, – и вдруг уже и не знаю сам, кто я. И первое что вижу, – взгляд у молодого человека постепенно остекленевал, – поле это весеннее, только с какого-то другого ракурса. А еще миг спустя понимаю, что из кирхи это вид и что не я это вижу, а ганс тот на колокольне, пулеметчик который! Но и сказать, что я умом это понимаю – нельзя. Да даже и не ганс вовсе это видит, как бы сейчас дико все это ни прозвучало, а я сам и вижу через прицел пулеметный. – с каждым словом его голос делался тише и тише. – Вот если по-простому совсем говорить, то я тем самым пулеметчиком и оказался. Остался ли я Игорем Смирновым в тот момент, который на поле-то лежал? Не знаю, – он увлеченно рассматривал свою ладонь, подсвечивая ее огоньком сигареты. – Не спрашивайте! Я, можно сказать, одновременно на кучу частей распался, каждая из которых все про себя знает, какую-то свою собственную жизнь живет, и свою собственную же историю имеет. Сознание свое, воспоминания… И первое, что я чувствую, это как я на поле через прицел смотрю… Ничего не вижу вокруг, только пол каменный подо мной, стены нависли. Коробка эта, в которой я оказался, точно холодом могильным пропитана насквозь. И знаете, что, – Павлик неотрывно смотрел в даль. – Я, наверняка, со своим рассказом вам сейчас на режиссера дешевого фильма ужасов похожим кажусь… Через слово повторяю: ужас-ужас, смертный ужас и прочие клише со штампами. Ну так да! И Колька Бык с кодлой своей – ужас, и сны мои те – тоже ужас… И то, что сейчас на ноги ватные подниматься мне, которые и не держат уж больше, – там вообще ужас животный! Но вот, что такое настоящий ужас, я только в тот момент понял, когда на кирхе этой оказался… В шкуре пулеметчика, – его зубы начали постукивать, губы затряслись. – Фриц Хаманн, – он безжизненно смотрел в пустоту перед собой. – Фриц Хаманн меня звали. Тридцати четырех лет, крестьянин обычный… Жена Анна, две дочки – Ханна и Лора.
Губы у Павлика с каждой подробностью тряслись все сильнее. Пальцы рук он сжал так, что они побелели и стали почти одного цвета со скатертью на столе. С силой выдохнув, он выдавил слабое подобие улыбки и упрямо продолжал:
– Надо же, как оно непросто-то… Знаете, тут, наверное, я совсем коротко скажу. Подробно не смогу – не сдюжу, боюсь. Я ведь тогда действительно этим Фрицем стал, в кирхе той на каменном полу лежащим. Со всей историей его, с воспоминаниями… И никакого больше Игоря Смирнова, никакого Карпатого Ивана Кузьмича… Сережи Логинова тоже больше не было с его этим «Больно-то как!» Ничего… Только мешок каменный, поле и мир, до прорези прицела сузившийся.
Павлик опять замолчал, а после довольно долгой паузы очень медленно, совсем не глядя на собеседника, продолжил:
– В самом начале он в армию попал… Он – Фриц Хаманн то есть, который на холодном каменном полу лежит и которым я стал в одночасье. В сорок первом… Я, в смысле, он, на марше в село наше вошел… В советское село то бишь – на Украине это было, – зубы его опять принялись выстукивать жутковатую дробь. – До нас через село это эсэсовцы прошли, прямо перед нами, считай, а мы – за ними следом… Вот тогда он прямо на нее и наткнулся… Маленькая совсем, – лицо рассказчика, как показалось Игорю Сергеевичу, стало белее скатерти, глаза налились кровью, и смотреть на него стало просто страшно. – На самой обочине почти, – тот начал говорить еще медленнее, но одновременно и очень тягуче, словно читал страшный заунывный стих. – Рядом с дорогой… Она, а рядом совсем – мать ее, – Павлик резко выдохнул и дернулся к графинчику с текилой, плеснул остатки в чашку и проглотил их одним глотком. – Нет, так не смогу. Короче, – он в упор посмотрел на притихшего собеседника, – девочку эту маленькую на части эсэсовцы порвали… Ее и мать… Вначале, наверное, мать… А потом лопатками насмерть забили… А ее рядом с матерью прямо рвали… И одна все видела, и вторая…. Там еще кто-то был, – голос Павлика звучал уже совсем глухо, – только для меня там уже совсем ничего больше не было… Девочка эта, она еще живая была… Дышала еще. Все в крови… Тельце ее полуголое… В глазах, – он резко закрыл лицо руками, – нет, не смогу!
Оба долго молчали. Сигарета в пальцах Игоря Сергеевича догорела почти до основания, но боли он, похоже, не почувствовал. Странная, наверное, это была картина, если бы кто-то мог видеть ее со стороны. Две безжизненно застывших друг напротив друга фигуры – молодой парень, закрывший лицо руками и сгорбившийся, словно древний старик, и уверенный в себе мужчина с едва заметной сединой на коротко подстриженных волосах и с волевым окаменевшим лицом.
– Я потом долго копался, когда отошел немного, – Павлик говорил тихо, совсем еле слышно, – кто тогда в себя все это впустил… То ли я как Фриц Хаманн тот, то ли я как Игорь Смирнов, который и Фрицем Хаманном на миг сделался, а может быть, как тот, кто то мной становился, то пулеметчиком этим… Не знаю, – его голос звучал глухо и безжизненно, – да и неважно это, наверное… Я вот только одно скажу: если мне кто заявит, что рая и ада нет, я, может быть, в лицо-то и не плюну, конечно, но разговаривать мне с таким персонажем просто не о чем. Есть, все есть, – Павлик стиснул пальцы еще сильнее. – И рай есть, и ад… И искать это все не нужно совсем, далеко где-то, я имею в виду. Все – здесь. Прямо вот на этой земле все и есть. И потом, конечно, тоже все есть, но там – уже вторично. А первично – здесь именно. Вот когда этот комок маленький, полуживой и окровавленный, на руках моих умирал, – он сглотнул. – Шепчет что-то и медленно так уходит, потихоньку… Вот тогда ад окончательный и случился…
Он снова надолго замолчал. Утренний ветерок слегка шевелил непослушные волосы, стайка воробьев о чем-то весело гомонила возле прудика, сновали возле водопада неугомонные разноцветные обитатели прудика.
– Я же сказал вам, что я на кучу осколков маленьких разлетелся как будто. И каждый из осколков этих себя помнит, чувствует, осознает… Вот тогда я два этих осколка – маму и дочку – во всей полноте и ощутил, – плечи Павлика заходили ходуном. – Наверное, предохранитель какой-то есть у состояний этих… Вроде рубильника экстренного, чтобы с ума не сойти. Его-то и включили тогда, – он слабо улыбнулся, – добрые силы какие-то. Но и того мига, когда почувствовал я все это… Как рвут их на части на глазах друг у друга… Солдатня оголтелая… – он снова закрыл лицо руками. – Нет, хватит!
Павлик резко выпрямился, невидящими глазами поискал что-то на столе, нашел сигарету и прикурил ее трясущимися пальцами.
– Не хочу я про это говорить. Точнее, не могу просто! Скажу только, что я – тот я, который Фриц Хаманн, солдат немецкий, – все это на один короткий миг увидел и прочувствовал… А может быть, это почувствовал я, и, наверное, так правильнее сказать-то будет. Не было там деления никакого: это я, дескать, а это – нет. Только рот его широко открытый вижу, – Павлика снова затрясло. – Он лицо к небу поднял и… Закричал? Нет, так не кричат, так воют, скорее уж… Вот я там сижу на земле теплой, и на моих коленях комочек этот богу душу и отдал с шепотом своим последним. А в глазах… – его пальцы вцепились в скатерть. – Я вам вот недавно про несправедливость говорил: дескать, как это – на смерть сейчас вставать с травки этой зеленой… Чушь все, чувства эти… То нечто в глазах тех детских – вот что несправедливостью назвать и язык не поворачивается. Там как будто боль всего мира собрали… Все войны, концлагеря, люки открытые, из которых смерть мегатоннами сыпется вниз… Вот весь этот ужас, вся эта боль – в тех глазах и застыли навечно. Только ведь и в меня все это вошло, – он слабо кивнул. – В того меня, что на дороге той сидит и воет беззвучно, вверх глядя, – Павлик начал произносить слова равнодушно и размеренно. – Вошло это в меня и не вышло никогда больше. Он ведь в тот момент, наверное, сразу с ума сошел… Или, если правильно говорить, я тогда с ума и сошел. Тот я, который обычный немецкий крестьянин, с женой и двумя дочками-близняшками. И все это в одну секунду вдруг для меня назад и развернулось. Или, если хотите, для него, для Фрица Хаманна. Он же тут-то все сразу увидел и понял: и конец, и начало… Он ведь стал сразу и мамой девочки той, и самой девочкой… Пропустил через себя все за миг один, а потом увидел и понял, как эта машина назад разворачиваться будет. Близняшек своих увидел, которых на глазах жены его на части рвут мужики здоровенные. Увидел, как жену его насилуют, а потом с хохотом в фарш лопатками забивают… Он все сразу увидел, все понял. Вот тогда для него вся война и закончилась, – Павлик прямо посмотрел на молчащего собеседника. – И то, что еще пять лет впереди, больше никакой роли для него и не играло. Он уже все наперед знал… Или я знал, если хотите… Времени ведь нет, я вам говорил уже, а для того, кто видит, тут ничего и объяснять не нужно. Вот он все эти пять лет так и жил – просто ожидая, когда весь этот маховик обратно-то и развернется… И когда война из этой украинской деревушки в его родной хутор придет. И придет, – он говорил бесстрастно, словно потеряв к рассказу всяческий интерес, – со вполне ему известным концом. Он всю войну прошел без единой царапины, хотя в таких мясорубках был… Из котла под Сталинградом их всего несколько человек и выжило, а его – как хранили… А может быть, и, правда, хранили. Он же – я то есть – Фриц Хаманн, все эти пять лет в самом настоящем аду и провел. Ему через ночь этот конец снился: жена его, дочки-близняшки, которые свою страшную смерть принимают. И я тогда понимал почему-то, – Павлик чуть улыбнулся, – что несправедливого тут нет ничего. Звучит страшно и дико, а для него… Для меня то есть, для рядового Фрица Хаманна, все это как справедливость высшая была… Вроде платы по счетам… Только от платы этой ни уклониться, ни отсрочить ее. А как война покатилась назад-то, для него обратный отсчет и начался. Он перед самым Берлином уже дезертировал, когда его часы внутренние последние такты отбивать стали… И кирха эта, и поле с нами для него последним рубежом-то и оказались… И мы, – он нервно передернул плечами, – для него и есть те, кто сейчас за Анной его идут, за близняшками Ханной и Лорой. И для него вопроса уже нет: так это будет или не так, справедливо это или нет… Для того, у кого на коленях маленький окровавленный комочек из деревни украинской помирал, для такого человека теперь уже иные порядки видны… Иная справедливость… Вот он и лег на колокольне той, и дорожки наши сошлись… И если я свой ужас ужасом когда-то считал, то по-настоящему я ужас ощутил, в том мешке каменном оказавшись. Там ведь уже за гранью безумия все было… Только прорезь прицела мир еще собирала хоть как-то, но перед глазами все равно – три комка мяса окровавленных… Жена и дочки…
Неслышно возник Рамзан. Он молча поставил на стол графинчик с текилой перед Павликом и стопку граппы перед Игорем Сергеевичем, а они, казалось, даже не заметили его появления. Павлик одним движением перелил всю текилу в пустую чашку из-под чая и махом осушил ее до дна.
– И что дальше? – решился нарушить молчание Игорь Сергеевич.
– Дальше? – Павлик невидяще смотрел бог знает куда. – А дальше совсем уж все странно обернулось… Я все говорю, что как будто на кусочки маленькие рассыпался… С одной стороны, так и ощущалось все. С другой – я ведь каждый кусочек этот как отдельный ощущал. Вначале – тот, потом – следующий. То Игорь Смирнов, то Фриц Хаманн, то мама с дочкой, – его губы снова задергались. Но я всегда был кем-то… Воспоминания разные, мысли… А потом исчезло все сразу и одномоментно. Не стало больше мира привычного, который вокруг меня как точки отсчета какой-то крутится. И если миг назад еще я то Игорем Смирновым был, то Фрицем Хаманном, то девочкой этой, теперь я вообще всем стал. Шизофрения, как врачи, наверное, скажут… Как будто я сразу всем стал: и фрицем этим, и мешком каменным, в котором его тело ужасом смертным сочится… И Игорем Смирновым, и Сережкой Логиновым, и полем тем весенним с травкой зеленеющей. Солнце, облачка, что по небу ползут, тварь та черная и усатая, которая на руку мою залезла, – все я! А можно сказать, – он на миг задумался, наморщив лоб, – что я вообще перестал кем-то быть. И чем-то тоже перестал. Звучит дико и безумно, сам знаю, – Павлик криво усмехнулся и покачал головой. – Только по-другому и не передать ощущения те мои. Все это – я, и в то же время все это – и не я, вроде бы как получается! Вот такая вот двойственность, и нормально ее на языке нашем людском передать ни в жизнь не получится… Одно вдруг четко ощущал я и понимал: во мне это все! И я – во всем этом. Словно я уже не один только наш мир вижу, а несколько, десятки, сотни… И ни прошлого нет, ни будущего. Как будто все это вместе – сразу и одновременно – существует… Знаете, как куча фильмов, что уже на полке лежат, отснятые от начала и до самого конца… И один фильм на другой накладывается, один с другим пересекается… Факт один: для меня больше никаких секретов вообще в тот момент не осталось. Ни вопросов, как будет оно, дескать, да что там будет… Все вижу, – лицо у рассказчика медленно расслабилось, а на губах заиграла слабая улыбка. – И самое главное, наверное, то, что я ленту эту пулеметную увидел, – он слабо кивнул. – Ровно двадцать один, как в «очко»… Будто перед глазами кино на замедленной скорости прокручивают: лента пулеметная ползет медленно так, будто бы звук отключили… А ровно на двадцать первом патроне ее и клинит… И я это вижу! Вижу, что Фриц Хаманн ровно двадцать один патрон выпустить успеет, как в атаку мы встанем, а потом заклинит машинку его… А одновременно, – Павлик посмотрел вверх, – вижу, как оно все быть может… Не будет, – он убежденно тряхнул головой, а именно – может быть! Знаете, словно несколько сценариев одновременно передо мной прошли. И первый: еще до команды «В атаку!» с земли Сережа Логинов со скулячьим каким-то визгом подниматься начинает… и принимает на себя почти всю очередь с колокольни… Иван Кузьмич… Он первый встает и кричать начинает, когда уже по полю бежит… Он эти несколько секунд, что от подъема его до крика «В атаку!» прошли, нам подарил… А я-то прямо сейчас всеми и ощущаю себя: И Сережей, и Иванов Кузьмичем… Денис Егоров – он чуть дальше, за Иваном Кузьмичем – уже губу до крови прокусывает себе, чтобы слабину не дать и ужас в себе убить как бы болью физической… И еще ребята наши… Одного косит очередь, второго… И все это – разные варианты… Сережа первый встанет – один конец… Иван Кузьмич нам фору в секунды даст – второй вариант… Денис Егоров – третий, и так – без конца. И у каждого сценария – свое продолжение. У меня перед глазами внезапно – старушка какая-то, а в следующий миг уже понимаю, что бабушка это Сережки Логинова… У нее перед глазами – бумаги листок, только не видит она ничего… Похоронка это на Сережу пришла… На улице – весна, праздник… Ликуют все… А у нее только листок бумаги перед глазами застланными… Родителей его накрыло налетом, в сорок втором еще, и он у нее – один, и она у него – одна… Анастасия Петровна – жена Ивана Кузьмича… – Павлик махнул рукой. – До вечера можно следующего все эти сценарии и жизни рассказывать, а передо мной – за одну секунду они скопом прошли. Мама моя, Елена Сергеевна, – его губы снова затряслись. – Еще не произошло ничего, а для нее уже кончилось все… Как сейчас перед глазами стоит: она – у плиты, и вдруг… что-то, как нож под сердце ее, входит. Еще секунду назад – радость, улыбка, и вдруг – как нечто холодное и острое. И – насмерть… Она медленно так на пол опускаться начинает, по полу что-то катится… К ней – соседка, а у нее сердце остановилось как будто. Я еще ничего не понял и не знаю, – он снова стиснул пальцы. – А она уже все поняла. Чтобы не мучить больше ни себя ни вас, – Павлик невидяще смотрел на скатерть перед собой, – да конструкций всех этих красивых не лепить, совсем по-простому вам скажу: я в тот момент всеми этими людьми был… И болью их, и надеждами разбитыми… Страхом, верой, ужасом… Похоронки эти в руках – я, Фриц на колокольне за пулеметом, навек замолчавшим – я, девочка та, из деревни украинской, – я… Солдатня, что на части ее рвала, – тоже я. Вся боль мира, – он говорил очень медленно, – вся надежда, все это я в тот момент и был. Как ни коряво звучит, а именно так это тогда и ощущалось. И от боли той, что входит в тебя и которой ты становишься в один миг, – не спрятаться от нее, не укрыться нигде. А потом, – он еле заметно покачал головой, – опять звон этот как будто в ушах поплыл. Зазвенело все, закружилось перед глазами… И снова – как и раньше уже. Странное ощущение такое… С одной стороны, словно замерло все и остановилось, а с другой – как будто опять меня что-то на части изнутри раздирать начинает. И чувство опять это, что только я всю ситуацию и держу! И боль эта вся, и кошмар тех, кто похоронки получит, и мамы моей боль смертная – все это моих рук дело… И делаю все это я, сам не знаю уж, как… И одновременно – уверенность такая внутренняя, что и остановить-то это все я один и могу. В одночасье, причем… Прямо сейчас, если выбор сделаю правильный… Честно говоря, – Павлик усмехнулся, – тут и странного нет ничего, если моим тем ощущениям верить. Ведь и нет же никого, кроме меня, как я тогда ощущал все. А раз нет никого, кроме меня, значит, и развернуть вспять все это мне одному только по силам. И чем больше эта уверенность во мне крепнет, тем все легче и легче мне. И ужас тот всеобщий, и боль – отступают они. А потом – опять плиту с меня стотонную словно сбросили. И тут, – он немного понизил голос, – я все со стороны видеть начал, как будто кино показывают! А съемка – опять замедленная, да беззвучно все. Медленно, очень медленно, Игорь Смирнов вставать начинает. Вначале медленно, потом – быстрее чуть. На руки опирается, садится… И, понимаете, тут, словно бы я – это он какой-то там частью своей, но и будто бы со стороны на это смотрю! Словно наблюдатель, которого ни поле это не касается, ни деревушка та украинская, ни похоронки, что адресатов своих найдут непременно. Медленно сажусь, а на душе, не поверите, – легкость, словно гравитацию вдруг отменили. Как будто сняли с меня ношу, что я тащил, сам того не понимая. И желание – одно. Землю я хочу босыми ногами ощутить, травку эту зеленую и весеннюю… Вот я и сижу уже… Медленно начинаю сапоги с ног стаскивать, обмотки… Справа Иван Кузьмич орет что-то беззвучно. Только он не «В атаку!» кричит, а мне. Но мне-то уже без надобности все. Передо мной в тот момент весь этот обман грандиозный, пусть и правдоподобный до боли, – как на ладони! Земля под босыми ногами теплая-теплая! И небо такое пронзительное, что сама мысль о смерти видится умопомешательством полным… А я встаю… Медленно встаю, не скрываясь ни от кого. И Фриц молчит, а Иван Кузьмич кричать перестал и тоже подниматься начинает. Только все это – лишнее уже… Никто из них ничего и сделать не может! Иллюзия это все, что «они» какие-то есть! Есть в действительности только я. И только мне и решать, каким образом теперь все развернется, как все в этом фильме сейчас сложится. И я начинаю идти по полю тому, медленно так… Потом быстрее! Только что гимнастерку рвануть до пупа успел. И не от куража, – Павлик улыбнулся. – Просто не успею я расстегнуться нормально-то! А мне напоследок все это ощутить полной грудью хочется… Поле, солнце весеннее, воздух, ветерок ласковый… Простор этот жизни в себя впустить и не выпускать больше. И бегу, – на его губах играла слабая улыбка, – бегу! Не виляю, уклониться не пытаюсь. Прямо на кирху эту, на прорезь прицела, на глаза, кровью налитые, в которых комочек маленький окровавленный в которую тысячу раз умирает. А я бегу! Долго бегу… Словно несколько шагов этих в вечность и растянулись. И вроде бы я бегу по полю этому, а вроде вижу в тот же момент фигурку эту маленькую, с руками в стороны широко раскинутыми… И на лице – солнце и улыбка, – он задумчиво кивнул головой. – А потом удар тупой, только без боли всякой, снова – как вспышка какая-то… А потом… Знаете, иногда же говорят: свет. Я вот думал, что это выражение такое расхожее: свет, мол, яркий очень… Нет, это не выражение вовсе пустое. Может быть, в действительности все как-то и иначе обстоит, но для меня тогда точно свет и был. Это как солнце вдруг над тучами открывается, когда самолет через облака проходит… Одно из самых сильных впечатлений детства моего: с бабушкой в первый раз на юг полетели к родственникам ее. А я маленький еще – шесть лет всего. И вот внизу, у нас в Москве, – пасмурно, дождь идет, а только поднялся самолет над тучами – взрыв словно! Света потоки… точно так же и тогда, если на язык человеческий переводить… Как будто я над тучами поднялся – все светом залито! Ярко очень, но не слепит тот свет. И ощущение – я даже передавать вам не буду, – он снова улыбнулся, – свободы какой-то невероятной! Я потом уже не раз фразу эту слышал, что бог – это любовь. Иисус вроде бы так и говорил ученикам своим, когда они вопросы ему задавали на эту тему. Я еще все голову ломал: как это – бог есть любовь? И первый вопрос у меня был: как это все любить-то можно? Боль, грязь, предательство, трусость? Мерзость всякую беспредельную, черноту откровенную, в которой даже лучика света уже не осталось? Как можно нелюдя какого полюбить, который мучал, жизни лишал близких своих? Не понимали, думаю, ученики Иисуса… Не в любви тут дело, о которой мы говорить привыкли. Не о людской любви Иисус говорил… Любовь людей, она ведь, всегда какая-то однобокая! Она всегда – за что-то! Люблю за красоту, допустим, за то, что сын ты мой или мама моя, к примеру… Люблю за характер, за доброту… Это все – суррогаты! Это не любовь к кому-то! – Павлик пощелкал пальцами. – Это к себе, если хотите, любовь! Эгоистичная она! А вот свет тот, в котором весь этот кошмар существовал, – с насилием, с детьми убитыми и на части порванными, с похоронками, что приходят, когда война уже кончилась… Ведь это все и было – свет тот! Он, свет, во всем был, и все в нем было! И свет этот свободой лучше всего назвать, как мне кажется! Он же – свет-то этот – всему позволял быть именно таким, каким оно было все! И каждый мог все что угодно делать! Насиловать, убивать, грабить… На дзот ложиться, из гранаты чеку под танком зубами вытаскивать, когда рук уже нет… Спасать всех, любить, самому на эшафот подниматься или головы на нем другим рубить! Свет все позволял, и главное – не было там пострадавших никаких! Свет всем этим сам и был, и от его позволения всему быть так, как угодно, все остальное уже и образовывалось! Он и был полем этим, и пулеметчиком… И Карпатым Иваном Кузьмичем, и мамой моей, и чашкой, что по полу тогда разлетелась… И болью маминой, у которой, кроме меня, никого на целом свете не осталось, и похоронкой, что еще и не написана даже… И бабушка Сережи Логинова, к которой последний родной человек вернется… Все это тоже свет. Что он такое, как он становится всем этим, всеми нами, не спрашивайте… Просто там, на поле том весеннем, это все настолько очевидно, что и смысла нет ни вопросы себе задавать какие-то, ни умничать потом сильно… Вот этот свет – а я бы его свободой, скорее, назвал, если из ощущений моих тогдашних исходить, – он, действительно, и бог есть, и любовь… И все остальное, что только быть и может… И ведь там, – Павлик вздохнул, – справедливость высшая такой очевидной становится! Там же все так устроено, что ты, конечно, можешь ну кем угодно быть и что угодно делать! И красть, конечно, и грабить, и насиловать… Свет тебе вообще ничего запретить не может. Но только рано или поздно вся эта конструкция каким-то образом развернется на сто восемьдесят… Крал – так у тебя украдут! Насиловал? Тебя рвать на части будут на глазах матери твоей! Убивал? Твоих детей на твоих же глазах жизни-то и лишат! И настолько все это очевидно, что ни в каких дополнительных разъяснениях даже не нуждается! А пострадавших, – он грустно улыбнулся, – во всей этой конструкции-то и нет! Как заканчивается все, так все обратно к своему истоку и возвращается! Как гейм овер случается, так свет все обратно в себя и вбирает! Только не увидеть этого, пока спектакль идет. А потом, – он махнул рукой, – потом уже и объяснять никому ничего не нужно – все как на ладони!

