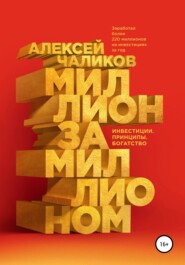
Полная версия:
Миллион за миллионом. Инвестиции. Принципы. Богатство
Именно поэтому мы волей-неволей все упрощаем до несложных и понятных нам схем-фреймов, в рамках которых можем относительно комфортно существовать, объясняя все происходящее через них и не замечая того, что в данные схемы никак не укладывается.
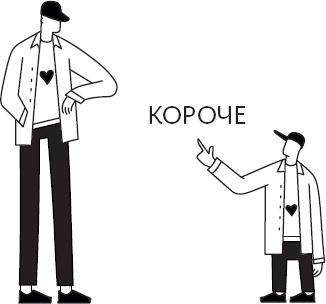
– Фрейм – необыкновенно прочная и устойчивая когнитивная конструкция, и если она сформировалась и закрепилась, то изменить ее бывает крайне тяжело. Однако сказанное не означает, что это невозможно.
– После слома или изменения фрейма мы как будто попадаем в новый и неизведанный мир, начиная замечать уникальные возможности, о которых ранее даже не могли помыслить. Это необыкновенное чувство, и я желаю, чтобы в вашей жизни это происходило как можно чаще.
– Каждый из нас изобретает себя сам. Причем постоянно. Все мы неповторимы и существуем в единственном экземпляре. Все мы – носители своего собственного уникального мира. И каждый из нас в любой момент своей жизни может изобрести себя таким образом, что это изменит в лучшую сторону не только нашу жизнь, но и жизнь или привычки множества окружающих. Это единственная достойная цель, к которой следует стремиться. И это главное, что измеряет успешность жизни.
Глава 3
Цена равнодушия, или Куда же нам без политики
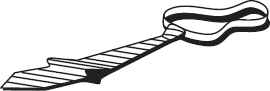
I
В прошлой главе мы поговорили о множестве важных вещей. В частности, разобрались в том, как возникает убежденность в своей правоте и почему другие люди не разделяют наших взглядов и не принимают даже самых ярких и бесспорных аргументов. Мы обсудили, как легко можем поддаться манипуляции, сами того не замечая, и как важно избегать логических и эмоциональных ловушек, приводящих к формированию в нашем сознании фреймов, ограничивающих свободу воли и гибкость сознания. Не забыли мы и поговорить о том, что для достижения успеха в инвестировании и жизни важно уметь отбрасывать фильтры, через которые мы привыкли смотреть на мир, и не бояться изменять рамки, ограничивающие наше восприятие действительности.
Все это, конечно, хорошо, но, согласитесь, неплохо было бы иметь некий тренажер, помогающий прокачивать свои когнитивные функции и обучающий эффективно сопротивляться манипулированию нашим сознанием.
Под таким тренажером я понимаю некую сферу или направление деятельности, в которой взаимодействует множество людей, взглядов и мнений, но где для нас не столь высока цена ошибки и мы всегда, без существенного ущерба для себя, сможем пересмотреть свои прошлые взгляды и подвергнуть сомнению свои же недавние утверждения.
Очевидно, что биржа категорически непригодна для таких «тренировок», ведь там мы вынуждены рисковать своими деньгами. Если же попытаться отработать резкую смену фреймов и отказ от недавно отстаиваемых взглядов в рабочем коллективе, это может нанести ущерб нашей карьере. В своей семье, пытаясь ставить под сомнение все услышанное и самостоятельно перепроверять всю получаемую информацию, мы рискуем нарушить собственное благополучие и покой или даже поставить под угрозу сам факт существования важных нам близких связей.
Что же делать? Где мы можем научиться мыслить самостоятельно, верно трактовать информацию и поступки других людей и при этом не подвергать себя необоснованному риску?
Самое интересное, что подходящая нам сфера деятельности, тренирующая мозг постоянно воспринимать различные мнения, смотреть на привычные вещи под разными углами и уметь отличать извращенные манипуляции от правдивой информации, на самом деле существует. Только вот почему-то в нашей стране совсем не принято заниматься и даже интересоваться ею. И очень зря.
Давайте поговорим с вами о политике. О том, зачем эту самую политику нужно обсуждать, почему важно интересоваться ею и для чего нам учиться вырабатывать собственное мнение по актуальной политической повестке. В конце концов, зачем ею вообще заниматься порядочным людям и как это занятие может помочь нам закалить характер и стать более благополучными в жизни и в инвестировании, выработав привычку самостоятельно разбираться в существе вопроса, эффективно фильтровать поступающую информацию и брать на себя риски того, что любое наше решение может оказаться ошибочным.
Огромное количество людей в нашей замечательной стране искренне считает, что интересоваться политикой – это бессмысленное и не очень-то нужное занятие. Когда ты пытаешься поставить под сомнение такие взгляды, велика вероятность получить в ответ целый пулеметный рожок аргументов вроде «каждый сам кузнец своего счастья, а кузнецы в политику не ходят», «мы маленькие люди, в основном кузнецы, и от нас все равно ничего не зависит», «мы все равно ничего не добьемся, так как, чтобы пробиться туда, нужны связи, деньги и должности, а мы – всего лишь кузнецы». Ну и так далее и тому подобное.
Моя же самая любимая причина, по которой политику следует обходить стороной, заключается в том, что «это грязное дело, там можно перепачкаться с ног до головы, система сломает любого, и нормальным людям остается только держаться от всего этого подальше».
В общем, всё это – многочисленные варианты фрейма «Нормальный кузнец», исходящего из того, что человеку следует заниматься собой и своими близкими, а не тратить время на сомнительные общественные активности и уж тем более на политику, так как это полностью бессмысленное, а порой еще и опасное времяпрепровождение.
Однако не менее распространен в нашем обществе и другой стратегический фрейм, убеждающий человека отказаться почти от любой политической активности. Его суть заключается в том, что любые перемены опасны. Стабильность существования общества и государства и понятные правила игры ценны сами по себе. Люди, стремящиеся что-то изменить, наносят ущерб этой сложившейся общественной стабильности и могут ввергнуть всех нас в первозданный хаос. «Нет уж, – рассуждают сторонники такого взгляда на вещи, – пусть все идет как идет. Иначе может быть такое, что мы утратим и экономику, и самоидентичность, и даже страну». Обычным апофеозом данного фрейма является фраза «кто, если не…», обозначающая, что лучшей альтернативы сегодняшнему положению вещей попросту не существует.
«Алексей, ну вот правда же… Я обычный человек, живу, никого не трогаю. На меня эти политические игрища попросту не могут никак повлиять. Зачем мне в чем-то там разбираться? Тьфу на них всех, как говорил один известный предприниматель». Знаете, сколько раз я слышал подобное в ответ на самые безобидные вопросы? Например: «Пойдешь ли ты на выборы?» или «Почему бы не обратиться к своему депутату, что у нас под окнами вырубают парк?».
Что тут можно сказать… Как мне кажется, люди, придерживающиеся подобной точки зрения, заблуждаются уже в самом начале своего утверждения. Они как раз не обычные люди. Обычные люди, столкнувшись с абсолютно любой проблемой, решают ее с помощью существующих социальных механизмов, принятых в данном обществе. Если они по каким-то причинам лишились работы, то будут использовать широкий выбор легальных активностей для решения этой проблемы: поиск новой работы, занятие предпринимательством, постановка на учет в качестве безработного, получение других навыков или образования, чтобы стать востребованным на рынке труда, и т. д.
Сложно представить себе, что обычный человек вместо этого залезет на печь и станет ждать, когда все рассосется, к нему сами придут, постучат в дверь, скажут, что вышла ошибочка, и предложат новую должность с повышением, служебным автомобилем и услужливой секретаршей.
Скорее всего, вы согласитесь со мной, что всерьез рассчитывающего на такой вариант развития событий человека можно назвать, мягко говоря, странным. Это если очень и очень мягко говоря…
Однако при этом многие почему-то допускают для себя возможность сидеть на печи и ждать, когда власть как-то сама разрешит им жить лучше, поднимет зарплаты, вновь высадит вырубленный парк и вернет лавочки у подъезда с аккуратно рассаженными на них бабушками в ситцевых платочках.
Политика постоянно и вне зависимости от нашего желания находится вокруг нас, пронзая нашу каждодневную жизнь.
Безопасность дорожного движения, размер заработной платы, пенсий и пособий, благоустройство жилых территорий, домов и дворов напрямую зависят от того, как работает политическая система той или иной страны. А работает эта самая политическая система ровно так, как позволяем ей это делать мы – ее граждане. Те самые люди, от которых якобы ничего не зависит.
Когда вы просто выходите на улицу в своем городе, вас устраивает все, что вы там видите? Загруженность дорог, работа общественного транспорта, сферы торговли и услуг, озеленение территории и качество тротуаров? Все это ежесекундно влияет на нашу жизнь и одновременно с этим зависит от формирования и эффективности городского бюджета, вопросы принятия и исполнения которого лежат в политической плоскости.
Огромную роль в том, с чем мы сталкиваемся ежедневно, играют депутаты городского и муниципального уровня, на выборы которых обычно никто не ходит.
Явка на муниципальные выборы в Москве в 2017 году составила 14,82%[4]. Чуть более чем десятой части москвичей оказалось не плевать на то, что происходит в их районах, у их домов и в других привычных местах, с которыми они взаимодействуют каждый день.
Однако пример с лавочками и скверами может показаться скучным, поэтому давайте рассмотрим какую-нибудь более глобальную проблему. Я думаю, никто не станет спорить со мной, что пенсии в нашей стране просто чудовищно низкие. Чтобы далеко не ходить и не сравнивать нас с экономиками, где «все совсем по-другому», достаточно посмотреть на нашего ближайшего соседа – Казахстан, который совсем недавно был с нами одной страной и сегодня совершенно не выглядит как страна мечты.
Но даже это сравнение мы проигрываем. Согласно статистике за 2020 год размер пенсии (если считать их в одной валюте) у казахов больше[5], а живут граждане данной республики в среднем дольше[6].
При этом и в России, и в Казахстане пенсионные системы схожие. И там и там пенсии выплачиваются за счет специальных налогов, собираемых с работающих в данный момент граждан. И там и там есть накопительная часть пенсии (в России отчисления на накопительную часть пенсии сейчас заморожены).
Размер пенсионного налога в России – 22% от наших доходов (причем до вычета из них НДФЛ). Здесь существуют различные нюансы и исключения, но нагрузка по выплате текущих пенсий на подавляющую часть населения нашей страны составляет именно 22% от честно заработанного. Да, если быть точным, то несем эту нагрузку не лично мы, а обычно наш работодатель, причем таким хитрым образом, что мы даже не замечаем этого. Но это все нюансы, которыми можно пренебречь.
В Казахстане же размер обязательных пенсионных взносов от дохода граждан составляет 10%[7]. Да, там тоже есть много нюансов и исключений, но средний порядок цифр именно таков.
Как же так получается, что в Казахстане налогов взимают меньше, но пенсии платят больше? К тому же их платят еще и дольше, ведь средняя продолжительность жизни у казахов выше.
Объективного ответа на этот вопрос в области экономики или социологии мы не найдем. Ответ будет лежать именно в политической плоскости, и от него будет зависеть наша судьба, ведь пенсионного возраста достигнем мы все. Надеюсь, других планов на этот счет у вас нет?
К слову, за год до выборов муниципальных депутатов в Москве, о которых я рассказывал выше, в Казахстане произошли свои выборы. Там, правда, избирались не только местные депутаты, но и члены Мажилиса, нижней палаты парламента страны, и явка на эти выборы составила 77,1%[8]. Интересно, что в том же году россияне избирали состав своей нижней палаты, принявшей в итоге законопроекты о пенсионной реформе, резко увеличившие нам с вами сроки выхода на пенсию. Российские выборы прошли при явке в 47,88%[9].
Может быть, именно благодаря разнице вовлеченности граждан в политические процессы пенсионная система Казахстана и выглядит более привлекательно?
Я склонен думать, что это именно так.
IIКак чувствует себя государство, граждане которого вдруг заразились повсеместной апатией и сознательно отказываются принимать участие в политической жизни страны?
Прекрасно! Ведь у такого государства исчезают тормоза в виде общественного контроля. А вот мы, в силу отсутствия данных тормозов, начинаем чувствовать себя весьма и весьма неприятно. И дело тут не только в набивших оскомину примерах о снижении уровня жизни и низких пенсиях. В конце концов, именно у вас может быть все прекрасно с доходами, а на государственную пенсию вы вообще не надеетесь. Получается, что это проблемы других, вот пусть другие и позаботятся об их решении.
Однако практика показывает, что государство при абсолютно пассивном обществе порождает гораздо более серьезные проблемы, чем бедность и разруха. Оно неизбежно принимается за разрушение этого самого общества.
Зачем вообще нам нужно государство?
На мой взгляд, главная историческая функция, можно сказать, миссия любого государства – обеспечение безопасности.
Для чего наши предки выбирали себе вождя и кормили дружину? Чтобы те защищали их поселения от набегов снаружи и мордобоя внутри. Все прочие цели, такие как всеобщее образование, доступное здравоохранение, вырубка скверов и ямочный ремонт дорог, появились уже гораздо позже.
У государства есть монополия на насилие, которая необходима ему, чтобы поддерживать эффективную безопасность на вверенной территории. При апатичности собственных граждан и отсутствии значимого контроля со стороны общества государство начинает постепенно игнорировать свои функции.
Сначала это сказывается на ухудшении экономической жизни, а затем проблемы перекидываются на образование и здравоохранение, строительство дорог и экологию. Как результат, при отсутствии общественного запроса на изменение ситуации, государство начинает видоизменять и свою главную функцию – обеспечение общественной безопасности. С этого времени уже ни один член общества не находится в состоянии безопасности. А это неизбежно касается каждого, вне зависимости от степени достатка и от того, сам человек копит на свою пенсию или надеется на государственную.
В итоге мы легко можем проснуться в стране, где любая активность, хоть предпринимательская, хоть социально-политическая, описывается не нормами Конституции, а статьями Уголовного кодекса.
Одновременно с этим такое государство теряет всякий интерес к реальной преступности. Вас могут избить, ограбить, и никому до этого не будет никакого дела.
Такое государство готово быть чем угодно: регулятором интернета, спасителем нации, всеобщим воспитателем и няней, но только не гарантом прав и свобод своего населения, которым оно должно быть.
Подобные политические режимы не задумываясь применяют насилие к тем, кто объявлен врагом народа или не соответствующим светлому образу гражданина. При этом в таком государстве неизбежно появляются параллельные общественные структуры, нацеленные на борьбу с теми, кто данному политическому режиму в его текущей реинкарнации не особо симпатичен. Причем попадание в число несимпатичных весьма произвольно. Это могут быть и женщины, которые отходят от традиций, начинают активно получать образование и делать карьеру вместо того, чтобы сидеть дома, слушать во всем мужа и рожать детей, и представители ЛГБТ, и люди оппозиционных взглядов.
При этом ущемление прав и даже нападение на таких людей уже не считается каким-то преступлением. Подумаешь, избили гея… Что? Это был не гей? Но выглядел-то он именно так…
В апофеозе своей безнаказанности государство начинает преследовать жертв, а не преступников. Жертва вечно оказывается какой-то неправильной. А нападавшие хоть и нарушают формальные правила, но с точки зрения справедливости правы. Может, они и перегнули палку. Но общество же должно бороться со своими врагами.
Таким образом, нелегитимное насилие одних граждан по отношению к другим перестает быть для государства какой-то проблемой. Важно только, чтобы правильные били неправильных.
В итоге такое абстрактное государство может стать абсолютным лидером в мире по числу силовиков на душу населения среди цивилизованных государств и при этом занимать одно из первых мест по числу убийств и других тяжких насильственных преступлений в пересчете на ту же душу населения.
Может случиться так, что, пока житель такого государства лежит на печи и ждет, когда государство придет к нему, чтобы сделать его жизнь лучше, а его самого богаче, к нему постучатся представители этого государства с совершенно противоположными целями.
В государствах, лишенных контроля со стороны общества, экономическое положение становится хуже с каждым годом, зато количество запретительных и карательных законов растет небывалыми темпами.
Самое интересное, что все эти действия должны вести к усилению порядка, который государство преподносит как высшую ценность, однако эффект для безопасности граждан получается прямо противоположный. В обществе возрастает то самое реальное насилие, ради борьбы с которым оно в свое время и призывало князя с дружиной. И победить это насилие привычными методами становится невозможным. Даже если поставить на каждом углу по полицейскому с пулеметом.
Я думаю, вы уже поняли, что подобная политика борьбы с врагами при попустительстве в вопросах реально существующей преступности совершенно не безвредна для элементарной безопасности членов общества.
Появление распределенного насилия – это первый и главный признак зарождения провалившегося государства[10]. Просто потому, что государство, теряющее монополию на насилие, преследующее жертв, а не агрессоров, объявляющее целые группы населения вне закона, перестает существовать и постепенно складывается в абстрактное Сомали. С совершенно конкретными вытекающими отсюда проблемами для каждого из его граждан.
Давайте рассмотрим кейс, который жителям стран, где общество не участвует в политике, покажется странным, необычным, выходящим за рамки приличного.
Известный многим французский журнал Charlie Hebdo не вызывает симпатий у правительства Франции и подавляющего большинства общества. Для карикатуристов этого журнала никогда не существовало запретных тем. Напротив, резкие суждения о религиозных, национальных и традиционных ценностях – главная фишка этого издания.
Творчество Charlie Hebdo буквально катком проходится по всем социальным группам страны. Но больше всего доставалось, конечно же, власти. И совсем еще недавно эти самые французские власти весьма активно боролись с этим журналом.
Так, предшественник Charlie Hebdo, журнал Hara-Kiri, был закрыт в силу запретительных мер, предпринятых властями из-за шутки по поводу смерти Шарля де Голля[11]. Возобновить свою работу редакции удалось уже намного позже, взяв новое название Charlie Hebdo.
К сатире за гранью фола можно относиться по-разному, и большинство населения в любой стране обычно не поддерживают такие проявления юмора. Об этом свидетельствует хотя бы то, что журнал Charlie Hebdo всегда оставался достаточно маргинальным изданием. Его тираж даже в лучшие годы не превышал нескольких десятков тысяч экземпляров[12]. И это в 67-миллионной Франции!
Проще говоря, Charlie Hebdo не только не являлся важным для французского общества журналом, но и не был даже сколь-либо одобряемым и имел весьма скандальную репутацию. Если бы Charlie Hebdo вдруг пропал из газетных киосков, это вряд ли было бы замечено, и уж точно почти никто не стал бы горевать по такому поводу.
Однако есть в этой истории одно важное обстоятельство. В 2015 году редакция Charlie Hebdo была атакована террористами, которые таким образом мстили журналу за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Во время нападения были убиты десять журналистов, включая главного редактора издания, а также двое полицейских.
На мой взгляд, государство-курильщик (то есть отделенное от общества в силу того, что члены этого самого общества совершенно не участвуют в политической жизни) практически наверняка обвинило бы сам журнал в разжигании межнациональной розни и ограничилось бы неким ритуальным набором действий в виде инициации уголовного преследования исполнителей теракта и принятия законов, ограничивающих свободу публикаций на религиозную тему в средствах массовой информации.
В философии такого государства это выглядело бы крайне логичным: наказывается жертва, а заодно решается проблема избавления от неудобного и критически настроенного издания. Разумеется, все это было бы подано как наведение порядка. Мол, раньше у нас были лихие времена, когда всякий печатал, что хотел, а вот теперь будет порядок, так как высказывания на острые темы запретят.
В здоровом государстве, где большое количество граждан вовлечено в политическую жизнь, случится ровно обратное. Примерно то, что в итоге и случилось с Charlie Hebdo.
Через несколько дней после атаки на улицы французских городов на марш солидарности с журналом вышло 4 млн человек. При этом марш в Париже возглавлял не кто иной, как президент Франсуа Олланд. В первую же годовщину теракта тот же Олланд открыл мемориальную доску на здании редакции. Ну и конечно же, расследование было проведено качественно и быстро, а на скамье подсудимых оказались все организаторы преступления.
Сам журнал не был закрыт. Ему не было предъявлено никаких претензий и даже не высказывалось общественного порицания. Напротив, первый после теракта выпуск разошелся тиражом в 5 млн экземпляров, что помогло изданию решить все свои организационные и финансовые проблемы.
Мне представляется, что это адекватная реакция на подобные события. Такая реакция становится возможной только потому, что французские власти прекрасно понимают: общество, вовлеченное в политические процессы, попросту не даст им никакой возможности использовать эту трагедию для ограничения любых прав и решения собственных проблем.
Подобное работает даже в случае, когда речь идет о ком-то не очень симпатичном этому самому государству. Это происходит потому, что такое государство обязано вставать на защиту прав и свобод тех, кто страдает от насилия, ведь только в таком случае оно вообще оправдывает свое существование как социальный институт.
Если бы государство повело себя иначе (например, сделало вид, что ничего не происходит, а случай с расстрелом редакции является частным и специфическим «хлопком общественного мнения», спровоцированным самим пострадавшим), мы смело могли бы утверждать, что оно полностью разделяет взгляды террористов. Такое государство неизбежно будет управляться не конституцией или федеральными законами, а теми, у кого сильнее кулаки и есть автомат.
В подобном случае оно из способа устранения общественных угроз само превращается в главную угрозу для общества. Такое государство необходимо перестраивать и возвращать к нормальному виду. И начинается это с политической активности граждан. С того, что каждый начинает интересоваться политикой.
IIIНередко все плохое, что происходит с нами, случается именно оттого, что мы занимаем пассивную позицию.
Проблемы со здоровьем – потому что мы не хотим идти в больницу, так как «поболит и само отвалится». Проблемы с востребованностью на рынке труда – потому что мы не хотим повышать квалификацию и осваивать новые методы работы, а желаем работать так, «как завещали нам далекие предки». Проблемы с детьми – потому что ребенка «должна воспитывать школа, а я лишь буду контролировать оценки в дневнике».
При подобном подходе все происходящее вокруг совершенно не может нас касаться и от нас зависеть.
Интересоваться можно футболом, хоккеем, ставками на спорт, конфликтами блогеров и всякой прочей ерундой, которая абсолютно никак не определяет наш жизненный путь и адекватность нашего мировосприятия.
В Древней Греции занятие политикой поощрялось. Ходить на собрания, произносить речи, писать трактаты об общественном устройстве считалось абсолютно нормальным.
В итоге греческая цивилизация достигла такого влияния на мировую историю и культуру, что Древнюю Грецию сейчас изучает любой школьник в любой стране мира. Более того, сами политические термины и базовые понятия берут свое начало из древнегреческого языка.
От россиян не ждут явки на собрания и участия в философских и политических диспутах (хотя это была бы отличная тренировка для нашего разума). Нам хотя бы научиться ходить на выборы, поддерживать близких нам кандидатов и уметь объяснить самому себе, почему проголосовали именно так, а не иначе.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «Плохих политиков выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы»[13]. Поэтому именно мы несем ответственность за все те непопулярные и вредные законы, которые были приняты в нашей стране, пока мы, сидя на диване, игнорировали выборы и другие политические процессы.
Занятие политикой даже в самом простом виде (а именно формирование политических предпочтений, анализ положения дел в стране и поиск вариантов для его улучшения) – это еще и полезный метод для тренировки наших аналитических способностей, которые неизменно пригодятся нам в инвестировании.



