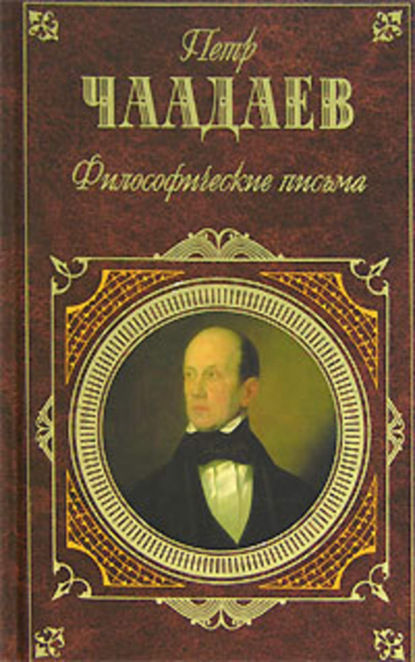 Полная версия
Полная версияФилософические письма (сборник)
211
Как объяснить себе, что в книге о христианстве, которая вообще признана хорошей книгой и где говорится о всех религиях и всех философских системах мира, ни слова не сказано о православной церкви, хотя бы для того, чтобы опровергнуть ее учение?
212
Христианство существует. Оно существует не только как религия, но и как наука, как религиозная философия; оно было признано не только невежественными народными массами, но самыми просвещенными, самыми глубокими умами. Вот чего не могут отрицать его злейшие враги. Поэтому они должны доказать одно из трех: или что И<исус>Х<ристос> никогда не существовал и поэтому религия, которая носит его имя, была основана каким-то ловким фокусником; или же, что если Иисус Христос действительно существовал, то он сам был только ловким фокусником; или же, наконец, что он был восторженным фанатиком, убежденным как в том, с чем он выступал, так и в своем божественном происхождении. А если допустить какое бы то ни было из этих трех предположений, пришлось бы еще разъяснить, каким образом христианство, рожденное из лжи, могло дойти до такого положения, в каком мы его ныне видим, и произвести то действие, какое оно оказало.
213
Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники.
214
Доказательством того, что такими, какие мы есть, создала нас церковь, служит, между прочим, то обстоятельство, что еще в наши дни самый важный вопрос в нашей стране – это вопрос сектантов, раскольников.[158]
215
С одной стороны, беспорядочное движение европейского общества к своей неведомой судьбе, в то время как сама почва на Западе все колеблется, готовая рухнуть под стопами новаторского гения; с другой – величавая неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие ее народов, ясным и спокойным взором наблюдающих страшную бурю, бушующую у ее порога: вот величественное зрелище, представляемое в наши дни двумя половинами человеческого общества, зрелище поучительное и которым нельзя достаточно восхищаться… десять страниц в том же духе.
216
Этот человек был бы терпим, если бы он согласился чего-нибудь не знать; но нет, ему нужно знать все, все. Одной очень простой вещи он, однако, не знает: а именно что, если, на беду, человек одарен внешностью гиппопотама, он должен быть скромным или же гениальным. У того, другого, ум такого же рода, но он, по крайней мере, мудро сидит дома, в блаженном и одиноком созерцании своих достоинств и достоинств своего ребенка; он не вешается вам на шею, чтобы сообщить, что он знает все лучше вас.
217
Вся философия Гегеля, как известно, заключена в двух понятиях: бытия и духа. Конечно, не это заслуживает в нем упрека. Что, в конце концов, можно найти в мире мысли и свободной воли, кроме действия и того, что оно производит? Ничего. К несчастью, промежуточное расстояние между этими двумя основными понятиями заполнено диалектикой, правда строгой, даже подчас, пожалуй, слишком строгой, но превращающейся часто в настоящий номинализм, в узкую логомахию (игру словами)[159] *, возможную только на таком языке, где на каждого существительного вы можете по желанию сделать неопределенное наклонение глагола. Странная грамматика, которая выражает одним и тем же словом причину и следствие и уничтожает причинность в результате ошибки в языке. Гегель, очевидно, приписал диалектике слишком большую роль; он, очевидно, не понял своего века, века, столь поглощенного идеей практической, нетерпеливо стремящегося добиться цели, дойти до реальности, пользуясь выражением, заимствованным у самого Гегеля. Как вы хотите, я вас спрашиваю, чтобы мы изводились этими бесконечными словопрениями, этой возродившейся схоластикой средневековья, мы, которые мчимся по железной дороге с быстротой солнечного луча ко всеобщей развязке. Невозможно.
218
Известно, что приобретение какой-нибудь вещи происходит двояким способом: посредством производства ее или посредством обмена, другими словами, для того, чтобы приобрести вещь, нужно или произвести ее, или купить. Но если вы не обладаете умением произвести вещь или не имеете средств купить ее, не имеете также равноценного предмета, который могли бы предложить в обмен, – что же, добудьте только кредит, и вы все же сможете приобрести ее; настоящий собственник вещи охотно уступит ее вам на веру в обмен на равноценный предмет с уплатой впредь. И надо сказать, что ничто так не возбуждает жажды наслаждений, как возможность приобретать предмет этим последним путем, ничто не вызывает столь легкой растраты своего будущего, ничто так не повышает расходов и не предоставляет столь широких средств для материального существования за счет завтрашнего дня. Но в порядке интеллектуальном, где приобретение идей и познаний совершается только посредством умственного труда и науки, где, стало быть, немыслим простой обмен, где нельзя получить одну идею взамен другой, случается, что человек оказывает кредит самому себе, что он потребляет ценности раньше их приобретения, что он пускает в ход некоторые идеи, не понимая их. В наше время это самая обычная вещь. Это опять та же жажда наслаждений, ищущая удовлетворения в другой области. Как видите, теория кредита, применяемая в области умственной, удивительно усовершенствована.
219
Распространение просвещения вызвало во всех классах общества новые потребности, и они требуют удовлетворения: таково современное положение вещей в его подлинной сущности. В этом все дело. Ваше дело разъяснить нам, законно это требование или нет. Рабочий хочет иметь досуг, чтобы так же, как и вы, прочесть новую книгу, как и вы – посмотреть новую пьесу, как и вы – иногда побеседовать с друзьями; он, конечно, не прав, но тогда почему же вы так старались распространять просвещение, организовывать начальное обучение, сделать науку всякому доступной? Следовало бы оставить массы в грубом невежестве. Средства, пускаемые в ход обездоленными классами для завоевания земных благ, без сомнения, отвратительные, но думаете ли вы, что те, которые феодальные сеньоры использовали для своего обогащения, были лучше? Должно показать им другие, более законные, более действительные средства, такие, которые бы меньше нарушали ваши привычки комфорта и безделья, а не оскорблять их. Оскорбление не есть политико-экономический трактат. Бедняк, стремящийся к малой доле достатка, которого вам девать некуда, бывает иногда жесток, это верно, но никогда не будет так жесток, как жестоки были ваши отцы, те именно, кто сделал из вас то, что вы есть, кто наделил вас тем, чем вы владеете.
220
Много толкуют о том, что общество лишено обеспеченного спокойствия. Но с каких это пор оно наслаждается этим вожделенным чувством безопасности, по которому вы так тоскуете? Наслаждалось ли им общество в средние века, когда каждый барон обирал округу, над которой высилась его башня, и когда жакерия разоряла деревни, наслаждалось ли общество Италии, когда в каждом городе был свой тиран со своим набором орудий пытки? Или во время войн против гугенотов, когда Колиньи был умерщвлен, а король Франции расстреливал своих подданных? Или во время тридцатилетней войны, когда вся Германия дымилась от пожаров, всюду сопровождавших шайки Валленштейна и Тилли? Или когда Палатинат был разорен по приказу Лувуа и драгонады разгоняли промышленное население Франции? Или когда гирлянды человеческих трупов украшали белокаменные стены нашего Кремля? Или во времена наполеоновских военных наборов, когда цвет нации погибал на полях сражений? Наконец, наслаждается ли оно этим чувством безопасности в наши дни в тех странах, где кредита не существует, где 10% – нормальная процентная ставка, где громадные капиталы лежат втуне из страха себя обнаружить, где господа убивают своих крепостных, когда последние их не убивают, где осадное положение – нормальное состояние страны? Повторяю: не будем смешивать двух фактов, совершенно разнородных и связанных между собой только в порядке хронологическом. Общество под ударом, но оно защищается, и в этой защите оно просвещается. Оно, несомненно, найдет средство выйти из беды. Это уже не то, что было в старину, когда бессмысленный и нелепый предрассудок боролся против всеобщего разума, теперь серьезные интересы борются, защищая себя против серьезных же интересов.
221
Философическое Я во всем этом ни при чем. Религиозное чувство, наивные чаяния, юная вера первых веков христианства уже невозможны и более не могут овладеть массами. Они могут служить утешением лишь для некоторых разрозненных существований, для отдельных душ, вечно пребывающих в младенчестве. Божественная мудрость никогда не помышляла затормозить движение мира. Это она внушила человечеству большинство идей, которые его теперь потрясают. Она не могла и не хотела упразднить свободу человеческого духа. Она вложила в сердце человека задатки всех тех благ, которыми человеку дозволено пользоваться, и затем предоставила действовать человечеству. Посмеете ли вы сказать, что этот росток погиб среди современных бурь или что он стал бесплодным, это было бы богохульством более преступным, чем все зло, принесенное миру революциями, ибо это значило бы лишить мир надежды, той силы, которую Евангелие осмелилось признать добродетелью.
222
Мы идем освобождать райев[160], чтобы добиться для них равенства прав. Можно ли при этом не прыснуть со смеха?
223
Морская держава – без побережья, без колоний, без торгового флота. Можно ли при этом не прыснуть со смеха?
226
Вы претендуете на звание представителей идей; постарайтесь иметь идеи, это будет лучше.
227
Закон, как вы знаете, карает сообщничество точно так же, как и преступление.
Комментарии
Входящие в данный раздел материалы представляют собой записи по нравственным, философским, историческим, литературным и политическим вопросам, которые Чаадаев делал, начиная с периода создания философических писем, на протяжении всей жизни. Они имеют вполне самостоятельное значение, приобретающее эссеистическое и афористическое звучание, и, по мнению М.И. Жихарева, их «можно поставить рядом с произведениями в том же роде Вовенарга, Ларошфуко, Паскаля…».
Вместе с тем многие из этих записей, не теряя самостоятельного жанрового значения, находятся как бы в подчиненном положении по отношению к развитию «одной мысли» в цикле философических писем и к ее вариациям в последующих сочинениях. Столь разные проблемы вдохновения и свободы воли, разума и воображения, искусства и языка, веры и знания, счастья и альтруизма, подлинного и мнимого патриотизма, конфессиональных различий, особенностей западной и русской истории, немецкой и французской философии и другие рассматриваются каждая в своей собственной сфере и одновременно призваны доказать божественное происхождение различных явлений в духовном и физическом мирах, обосновать веру в грядущее осуществление христианских принципов.
В первую часть входят отрывки, относящиеся приблизительно к 1828—1830 гг. и напечатанные в «Сочинениях и письмах П.Я. Чаадаева» с копии, сделанной А.П. Елагиной и принадлежавшей М.А. Максимовичу. Несколько из них было опубликовано в 1832 г. в одиннадцатом номере журнала «Телескоп».
Вторая и третья части составляют афоризмы и размышления Чаадаева соответственно 40-х и 50-х гг., переведенные еще в довоенные годы Шаховским с французских копий М.И. Жихарева и опубликованные З.А. Каменским (Вопросы философии, 1986, № 1) в хронологической систематизации и нумерации переводчика.
Письма
1829
А. С. Пушкину
Мое пламеннейшее желание, друг мой, – видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе, зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мной всякий раз, как я думаю о вас, а думаю я о вас столь часто, что совсем измучился. Не мешайте же мне идти, прошу вас. Если у вас не хватает терпения, чтоб научиться тому, что происходит на белом свете, то погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг. Последнее время стали везде читать по-русски; вы знаете, что г. Булгарин переведен[161] и поставлен рядом с г. де Жуй[162]; что касается вас, то нет ни одной книжки журнала, где бы не шла речь о вас; я нахожу имя моего друга Гульянова[163], с уважением упомянутое в толстом томе, и знаменитый Клапрот[164] присуждает ему египетский венец; по-видимому, он потряс пирамиды в их основаниях. Видите, что могли бы сделать вы для своей славы. Обратитесь с воплем к небу, – оно ответит вам.
Я говорю вам все это, как вы видите, по поводу книги, которую вам посылаю[165]. Так как в ней всего понемножку, то, быть может, она пробудит в вас несколько хороших мыслей. Будьте здоровы, мой друг. Говорю вам, как некогда Магомет говорил своим арабам, – о, если б вы знали!
1831
А. С. Пушкину
Что же, мой друг, что сталось с моей рукописью?[166] От вас нет вестей с самого дня вашего отъезда. Сначала я колебался писать вам по этому поводу, желая, по своему обыкновению, дать времени сделать свое дело; но, подумавши, я нашел, что на этот раз дело обстоит иначе. Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать: мне не терпится иметь все это под рукою. Постарайтесь поэтому, прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни – это довершить эту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие.
Это несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого воспоследовало бы нечто полезное и для нас, и для других. Эти мысли пришли мне снова в голову с тех пор, как я бываю иногда, угадайте где? – в Английском клубе[167]. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там; я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колоннад, в тени этих прекрасных деревьев; сила излияния наших умов не замедлила бы сама собой проявиться. Мне нередко приходилось испытывать нечто подобное.
Будьте здоровы, мой друг. Пишите мне по-русски; вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания. Жду от вас милого и длинного письма; говорите мне о всем, что вам вздумается: все, что идет от вас, будет мне интересно. Нам надо только разойтись; я уверен, что мы найдем тысячу вещей сказать друг другу. Ваш и искренно ваш всей душою. Чаадаев.
17 июня
А. С. Пушкину
Дорогой друг, я писал вам, прося вернуть мою рукопись; я жду ответа. Признаюсь вам, что мне не терпится получить ее обратно; пришлите мне ее, пожалуйста, без промедления. У меня есть основания думать, что я могу ее использовать немедленно и выпустить ее в свет вместе с остальными моими писаниями.
Неужели вы не получили моего письма? Ввиду постигшего нас великого бедствия[168] это не представляется невозможным. Говорят, что Царское Село еще не затронуто. Мне не нужно говорить вам, как я был счастлив узнать это. Простите мне, друг мой, что я занимаю вас собою в такую минуту, когда ангел смерти столь ужасно носится над местностью, где вы живете[169]. Я бы так не поступил, если бы вы жили в самом Петербурге; но уверенность в безопасности, которой вы еще пользуетесь там, где вы находитесь, придала мне смелости написать вам.
Как мне было бы приятно, мой друг, если бы в ответ на это письмо вы сообщили мне подробности о себе и не оставляли меня без вестей все время, пока у вас будет продолжаться эпидемия. Могу ли я рассчитывать на это? Будьте здоровы. Шлю непрестанные мольбы о вашем благосостоянии и обнимаю вас со всей нежностью. Пишите мне, прошу вас. Ваш верный Чаадаев.
7 июля 1831
А. С. Пушкину
Ну что же, мой друг, куда вы девали мою рукопись? Холера ее забрала, что ли[170]? Но слышно, что холера к вам не заходила. Может быть, она сбежала куда-нибудь? Но, в последнем случае, сообщите мне, пожалуйста, хоть что-нибудь об этом. С большой радостью увидал я вновь ваш почерк. Он напомнил мне время, по правде сказать немногого стоившее[171], но когда была еще надежда; великие разочарования еще не наступали тогда. Вы, конечно, понимаете, что я говорю о себе; но и для вас, думается мне, было некоторое преимущество в том, что еще не все реальности были исчерпаны вами. Отрадными и блестящими были эти ваши реальности, мой друг; но все же есть ли между ними такие, которые сравнились бы с ложными ожиданиями, обманчивыми предчувствиями, лживыми грезами счастливого возраста неведения?
Вам хочется потолковать, говорите вы: потолкуем. Но берегитесь, я не в веселом настроении; а вы, вы нервны. Да притом о чем мы с вами будем толковать? У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверно будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам. Если бы вы хоть подсказали мне какие-нибудь мысли из вашего мира, если бы вы вызвали меня! Но вы хотите, чтоб я начал говорить первый, ну что ж; но еще раз, берегите свои нервы!
Итак, вот что я вам скажу. Заметили ли вы, что происходит нечто необычное в недрах морального мира, нечто подобное тому, что происходит, говорят, в недрах мира физического? Скажите же мне, прошу вас, как это отзывается на вас? Что меня касается, то мне сдается, что это готовый материал для поэзии, – этот великий переворот в вещах; вы не можете остаться безучастным к нему, тем более что эгоизм поэзии найдет в нем, как мне кажется, богатую пищу. Разве есть какая-либо возможность не быть затронутым в задушевнейших своих чувствах среди этого всеобщего столкновения всех начал человеческой природы! Мне пришлось видеть недавно письмо вашего друга, великого поэта[172]: это – такая беспечность и веселие, что страх берет. Можете ли вы объяснить мне, как подобный человек, знакомый некогда с печалью всех вещей, не испытывает ныне ни малейшего чувства горя перед гибелью целого мира? Ибо взгляните, мой друг: разве не воистину некий мир погибает и разве для того, кто не обладает предчувствием нового мира, имеющего возникнуть на месте старого, здесь может быть что-либо, кроме надвигающейся ужасной гибели? Неужели и у вас не найдется чувства, мысли, обращенной к этому? Я убежден, что это чувство и эта мысль, неведомо для вас, тлеют где-нибудь в глубинах вашей души; только они не проявляются вовне, они погребены, по всей вероятности; они под кучей старых мыслей, привычек, условностей, приличий, которыми, что бы вы ни говорили, неизбежно пропитан каждый поэт, хотя бы он и принимал против этого всякие меры, ибо, друг мой, начиная с индуса Вальмики, певца «Рамаяны»[173], и грека Орфея до шотландца Байрона всякий поэт принужден был доселе повторять одно и то же, в каком бы месте света он ни пел.
О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем, дабы и вы дали нам услышать когда-нибудь одну из тех песней, какие требует век. Как тогда все, что теперь бесследно для вашего ума проходит перед вами, тотчас поразило бы вас! Как все приняло бы новый облик в ваших глазах!
А в ожидании этого все же потолкуем. Еще недавно, с год тому назад, мир жил в полном спокойствии за свое настоящее и будущее и в молчании проверял свое прошлое, поучаясь на нем. Ум возрождался в мире, человеческая память обновлялась, мнения сглаживались, страсть была подавлена, гнев не находил себе пищи, тщеславие находило себе удовлетворение в прекрасных трудах; все людские потребности ограничивались мало-помалу кругом умственной деятельности, и все интересы людей сводились мало-помалу к единственному интересу прогресса вселенского разума. Во мне это было верой, было легковерием бесконечным. В этом счастливом покое мира, в этом будущем я находил мой покой, мое будущее. И вдруг нагрянула глупость человека[174], одного из тех людей, которые бывают призваны, без их согласия, к управлению людскими делами. И мир, безопасность, будущее, – все сразу обратилось в ничто. Подумайте только: не какое-либо из тех великих событий, которые ниспровергают царства и несут гибель народам, а нелепая глупость одного человека сделала все это! В вашем вихре вы не могли почувствовать этого, как я; это вполне понятно. Но статочное ли дело, чтобы это небывалое и ужасное событие, несущее на себе столь явную печать провидения, казалось вам самой обыкновенной прозой или самое большее дидактической поэзией, вроде какого-нибудь лиссабонского землетрясения, с которым вам нечего было бы делать? Это невозможно! Что до меня, у меня навертываются слезы на глазах, когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу, удвоило мое собственное бедствие. И тем не менее да, из этого воспоследует одно только добро; я в этом вполне уверен, и мне служит утешением видеть, что я не один не теряю надежды на то, что разум образумится. Но как совершится этот возврат, когда? Будет ли в этом посредником какой-либо могучий дух, облеченный провидением на чрезвычайное посланничество для совершения этого дела, или это будет следствием ряда событий, вызванных провидением для наставления рода человеческого? Не знаю.
Но смутное сознание говорит мне, что скоро придет человек, имеющий принести нам истину времени. Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует Сен-Симон в Париже[175], или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем[176]. Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого? Многое из предшествовавшего той великой минуте, когда добрая весть была возвещена во дни оны посланником божиим, имело своим предназначением приготовить вселенную; многое также несомненно совершится и в наши дни с подобной же целью, прежде чем новая добрая весть будет нам принесена с небес. Будем ждать.
Говорят, ходят толки о всеобщей войне? Я утверждаю, что ничего подобного не будет. Нет, мой друг, пути крови не суть пути провидения. Как люди ни глупы, они не станут раздирать друг друга, как звери: последний поток крови пролит, и теперь, в тот час, когда я пишу вам, источник ее, слава богу, иссяк.
Спора нет, бури и бедствия еще грозят нам; но уже не из слез народов возникнут те блага, которые им суждено получить; отныне будут лишь случайные войны, несколько бессмысленных и смешных войн, чтобы отбить окончательно у людей охоту к разрушениям и убийствам. Заметили ли вы, что только что произошло во Франции? Разве люди не вбили себе в голову, что она намерена поджечь мир с четырех концов? И что же, ничего подобного; а что произошло? Любителей славы, захватов подняли на смех; люди мира и разума восторжествовали; старые фразы, которые еще недавно так отменно звучали для французских ушей, уже не находят себе отклика.
Отклик! Кстати, по его поводу. Конечно, весьма счастливо, что г-да Ламарк и его сотоварищи не находят отклика во Франции; но я-то найду ли его, мой друг, в вашей душе? Посмотрим. Однако при одной возможности сомнения в этом у меня падает из рук перо. От вас будет зависеть, чтобы я поднял его; немного сочувствия в вашем следующем письме. Г-н Нащокин говорил мне, что вы изумительно ленивы. Поройтесь немного в вашей голове и в особенности в вашем сердце, которое так горячо бьется, когда хочет этого: вы найдете там больше предметов для переписки, чем нам может понадобиться на весь остаток наших дней. Прощайте, дорогой и старый друг. А что ж моя рукопись? Я чуть было не забыл ее. Вы не забудьте о ней, прошу вас. Чаадаев.



