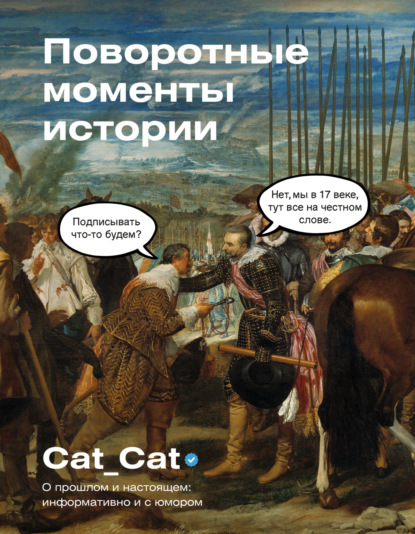
Полная версия:
Поворотные моменты истории. О прошлом и настоящем: информативно и с юмором
Вдобавок римляне успели привыкнуть к хорошему. Рим был перегружен тогдашней «социалкой». Да-да, это те самые «хлеб и зрелища». В городе Риме массово выдавались продуктовые пайки для бедных, и, кроме того, императоры в погоне за популярностью любили устраивать культмассовые мероприятия – гладиаторские бои, гонки колесниц. Масштабные строительные проекты тоже сильно точили бюджет – что роскошный храм, что система укреплений – удовольствие дорогое. Но если отказ от строительства храма – это сравнительно легко, то не построить лишнее кольцо стен вокруг значимого города – риск, а оставить без еды и развлечений римских маргиналов – уже не риск, а гарантированные неприятности с человеческими жертвами и разрушениями.
Все вместе это означало, что потомки будут беднее предков, что бы ни делали люди.
Но люди тоже приложили руку к своим несчастьям.
Гуляй на все
Итак, 17 марта 180 года в Риме скончался император Марк Аврелий. Он был одним из наиболее популярных и любимых правителей державы. Но вот его сын Коммод оказался, ровно наоборот, одним из наиболее ненавистных и презираемых. До сих пор император усыновлял наиболее способных людей из своего окружения. Марк Аврелий сделал очень понятную по-человечески вещь, не самую разумную, однако, для императора: он передал трон биологическому сыну, Коммоду.
Коммод был не то чтобы каким-то по-настоящему ужасным императором. Фильм «Гладиатор» не следует воспринимать как исторический источник. Коммод был еще очень молод, когда стал императором, и, конечно, быстро оказался испорчен. Главной проблемой этого государя было то, что свой пост он рассматривал в первую очередь как возможность со вкусом развлечься. Коммод сам ходил на арену, убивая животных и выступая в роли гладиатора, требовал поклонения себе, любимому, зато текущее управление переложил на временщиков. Как только фаворит слишком наглел, или вызывал недовольство, или просто попадал под горячую руку, следовало некрасивое, но поучительное шоу с убиением недавнего любимца.
Так все шло до 192 года, когда против императора устроили заговор его наложница и несколько амбициозных чиновников. Вместе они подговорили личного тренера Коммода по борьбе, и тот императора удавил.
Тут же выяснилось, на каком на самом деле непрочном фундаменте стояла политическая стабильность в Риме.
Сначала власть захватил сын вольноотпущенника, префект Рима Пертинакс. Его убили взбунтовавшиеся солдаты Преторианской гвардии после 87 дней правления. Преторианская гвардия – элитное столичное войско – охраняла императоров, но гвардейцы решили жить по принципу «что охраняешь, то имеешь». После убийства они устроили аукцион на должность нового императора. В буквальном смысле – кандидаты называли суммы, которые готовы были заплатить преторианцам. Аукцион выиграл Дидий Юлиан. К тому моменту он был человеком пожилым, заслуженным, богатым и мог рассчитывать на спокойную обеспеченную старость. Однако теперь ему захотелось высшего поста империи. Дидий Юлиан купил себе власть.
Но не поддержку. После аукциона на сцену вышла армия.
По территории империи было распределено тридцать легионов. Помимо собственно легионеров, значительную силу составляли вспомогательные войска, вербовавшиеся из бойцов без римского гражданства. Солдаты составляли свой особый мир с собственными авторитетами и жизнью, серьезно отличавшейся от той, которую вели обычные люди. В провинциях и гражданскими, и военными делами ведали наместники. Теперь оказалось, что преторианцы могут навязать Риму своего императора, и никто не будет в состоянии оспорить это решение в городе – ни Сенат, ни толпа. Но раз это могут сделать преторианцы, это тем более может сделать человек, имеющий область и армию под контролем. Легитимность правителя – это параметр, который не измерить в цифрах, но для устойчивости государства он имеет колоссальное значение. Если право Марка Аврелия отдавать приказы не оспаривал никто, Коммода терпели, несмотря на все его чудачества, пока его не укокошили заговорщики, то человек, который титул просто купил за деньги, должен бы был предвидеть, что сделку могут оспорить. Преторианцы были сильны в Риме. Но с точки зрения любого наместника это была пыль под ногами: гвардейцы попросту не умели вести правильный бой, и настоящая армия в лице легионов справилась бы с ними без затруднений.
Императорами провозгласили себя сразу трое. Восстания подняли в Британии и Сирии. Однако в наилучшем положении находился Септимий Север, наместник Паннонии, к тому моменту многоопытный командир и политик. Паннония – область, находившаяся к северо-востоку от итальянского «сапога», ближе к Балканам. Там располагалась мощная армия, этот регион находился ближе всех очагов восстаний к Риму, так что Север сразу имел преимущество. Септимий Север действовал быстро. Сопротивления толком не было: у Дидия Юлиана не имелось лояльных войск, способных и желающих драться против опытных легионеров. Преторианцы не были военной силой. «В строй» пытались поставить даже цирковых слонов, но без малейшего успеха, конечно. В итоге Дидия Юлиана прозаически зарезали после двухмесячного правления.
Септимий Север овладел Римом. Во избежание повторения прежних фокусов он разогнал преторианскую гвардию (новую набрал из своих сослуживцев), казнил самых активных оппозиционеров. Затем последовала недлинная, но жестокая война против других претендентов. Заодно переловили тех преторианцев, кто после роспуска гвардии ушел в криминал.
Оспорить власть нового императора не мог никто. Чтобы укрепить личный авторитет, он затеял военные походы на Парфию и Каледонию – в противоположных углах известной карты. Римляне взяли парфянскую столицу, навязали старому врагу мир на тяжелых условиях, поход на Альбионе тоже шел неплохо. Север бодро застраивал империю и, в отличие от предшественников, умер в 211 году своей смертью. Казалось, вернулись лучшие времена.
Но это казалось. Проблема лежала значительно глубже, чем могли подумать. Главной жертвой смуты после смерти Коммода стали, уж конечно, не Пертинакс с Дидием Юлианом. Главной жертвой стала сама по себе твердая власть в Римской империи.
Септимий Север резко ограничил в возможностях и вытеснил на обочину римской власти Сенат. Совет времен позднего Рима часто изображают бессильной говорильней, однако в действительности это был закрытый клуб наиболее богатых и влиятельных людей империи. Землевладельцы, богачи, чиновники, сенаторы воспринимались как серьезная сила. Однако теперь значение Сената падало. «Сенат? А сколько у него легионов?» Правила игры изменились: теперь императорского поста можно было домогаться при помощи голого насилия.
Ослабление Сената сказалось на деле таким образом, которого никто, кажется, не ожидал. Сенат ограничивал императорскую власть, но он же сдерживал потенциальных претендентов на пурпур. Вместо Сената новые императоры все больше опирались в управлении на сословие всадников, куда более широкое, а в части гарантий собственной власти – на армию. Но естественно, что все эти люди тоже имели амбиции. Если раньше Сенат серьезно ограничивал круг тех, кто мог претендовать на императорский пост, то теперь на узурпацию был способен почти любой популярный армейский командир: не нужно было думать о своей легитимности в глазах сенаторов.
Падало и значение самого города Рима. Императора провозглашали в лагерях легионов, и нравиться он должен был легионерам. Так что, одной рукой притапливая Сенат, другой рукой император повышал жалование и давал поблажки солдатам. При этом он начал перенарезку провинций и перераспределение легионов с тем, чтобы никто из наместников не мог получить в свои руки слишком много власти и сил.
А это, в свою очередь, приводило к тому, что все больше проблем требовало непосредственного участия императора. Императору приходилось – чем дальше, тем чаще – участвовать в разрешении гражданских и военных коллизий, которые Траян или Марк Аврелий вряд ли сочли бы достойными личного участия. Наместники просто не располагали необходимыми для этого ресурсами.
Все это происходило, напомним, на фоне деградации экономики по естественным причинам. В Риме бывали гражданские войны и раньше, бывали неудачные военные кампании, бывало все что угодно, но сейчас цена войны, бедствия, эпидемии оказывалась намного выше, чем в былые времена: в беднеющей стране восстановить все как было оказывалось сложнее.
То есть возможности Сената снижались, возможности персонально каждого наместника снижались, возможности императора тоже фактически падали – он просто не мог обеспечить эффективный контроль без широкого делегирования полномочий, а делегировать полномочия он боялся – а ну как другой наместник проделает тот же фокус, что Септимий Север?
Все эти тенденции раскручивались постепенно – но неуклонно. И со смертью Септимия Севера неприятности империи только нарастали, пока не обернулись полной катастрофой.
Отвесно в пропасть
Сыновья Септимия Севера, Каракалла и Гета, унаследовали империю вместе. Оба были развращенными капризными типами, которых гладиатура, колесничные гонки, вино, женщины и мальчики интересовали куда сильнее государственных дел. При этом братцы обожали друг друга настолько, что демонстративно не разговаривали. Апогей братской любви настал, когда Каракалла пригласил Гету на встречу в покоях их общей матери Юлии Домны. Там люди Каракаллы зарезали Гету на руках у мамы и ушли, оставив женщину, легко раненную в свалке, в комнате, выглядевшей, как будто там разделали бегемота. После этого Юлию Домну заставили публично радоваться по поводу наступившего единоличного правления Каракаллы и думать не сметь о том, чтобы оплакивать Гету. Таким же методом «убедили» ликовать сенаторов – поди не возликуй, когда сторонникам Геты рубят головы! Каракалла устроил зачистку потенциально нелояльных и несколько лет относительно успешно проправил державой. Он был не то чтобы глупым, но взбалмошным и импульсивным, а когда взбалмошным и импульсивным оказывается человек, имеющий возможность убить кого угодно вокруг и правящий всем известным миром, – это не сулит хорошего ни его империи, ни соседям.
Так что правление Каракаллы запомнилось современникам именно безумствами. Чрезвычайные поборы, прибавка налогов, беспорядочное строительство, такие же беспорядочные войны и особенно пугавшие беспорядочные казни…
А между тем финансы империи уже были расстроены. Септимий Север «просто» вводил новые налоги, Каракалла продолжал наваливать на подданных новые повинности.
А что, кстати, произошло?
Рим столкнулся с новой проблемой: начали кончаться золото и серебро.
Государственные расходы были колоссальными. Армия, роскошь императорского двора, социальные расходы, строительные проекты. Вдобавок дальняя торговля добавила проблем.
Дело в том, что римская экономика к тому моменту была очень серьезно завязана на международную торговлю. Операции вели вплоть до Индии[3]. Так вот, в Индию и вообще на восток из Рима ехали драгоценные металлы. Навстречу отправлялось множество товаров, особенно важными были индийские приправы. Это накладывало дополнительное бремя на римскую экономику. Но ограничить эту торговлю императоры не могли – заметную часть поступлений в казну составляли пошлины с этой же самой торговли.

Уже к эпохе Марка Аврелия серебряные и золотые рудники империи потихоньку истощались. Запас прочности у Рима и у его казны был колоссальным. Но поскольку вместо реформ императоры после Марка Аврелия по большей части валяли дурака, резали друг друга и подданных и решали сиюминутные задачи, в III веке двигатель уже вовсю барахлил. Понятно, что все кончилось не разом; это не было так, что все металлы по стране взяли и иссякли. Однако запасы истощались, своя добыча не компенсировала убыль, и Римская империя погружалась в воронку.
Что делают государи, обнаружив, что казна пуста? В разное время в разных местах ответ на этот вопрос был свой, но один из самых универсальных – «портят монету». Содержание благородных металлов в римских деньгах постоянно падало. Цены, соответственно, росли. Причем, разумеется, люди начинали придерживать у себя нормальные «настоящие» деньги, что, соответственно, выметало их из оборота. Императорам же деньги требовались постоянно, а горизонт планирования не у всех простирался хотя бы лет на пять, так что монетные дворы радостно чеканили все новые, все более дешевые денарии.
Наконец, попытки добыть денег чрезвычайными мерами, вроде конфискаций у неугодных или экстраординарных поборов, давали очень мало эффекта и в перспективе только ослабляли экономику. Разоренное хозяйство уже, разумеется, никогда не давало новых средств.
А государственные расходы не сокращались.
Каракалла решил поправить дела шагом полностью в своем стиле. В 212 году он даровал римское гражданство всем, кто жил на территории империи и не был рабом. Эдикт Каракаллы был вызван простым желанием увеличить налоговую базу: гражданство, кроме политических прав, означало еще и соответствующие налоги.
Шаг был беспрецедентный, и он многое говорит о том, в каком состоянии к тому моменту была держава. С приснопамятного 180 года прошло еще 32. От состояния «Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют» за три десятилетия Римская держава перешла к «Суровые времена требуют резких мер».
Потребовалось совсем немного времени, чтобы добавить «…но и они не помогают».
Каракалла был убит во время похода на Парфию в результате простенького заговора Макрина – одного из его приближенных. Макрин вообще бы, может, и не собрался на покушение, но ему стало известно о доносе по поводу себя, и он решил сыграть на опережение. Непредсказуемость Каракаллы и легкость, с которой он отправлял любимых подданных под землю, была общеизвестной, так что не сказать, чтоб Макрин зря боялся. Теперь он сумел пролезть в императоры, но его главным активом был тот простой факт, что его имя не Каракалла. После смерти могущественного правителя все перевели дух.
На этом преимущества заканчивались. Новый император унаследовал казну, в которой ничего не осталось, Сенат, который его презирал за недостаточно знатное происхождение, и войну с Парфией, которую он не начинал. Новый император продержался год и был свергнут. Вместо него императором стал Элагабал (он же Гелиогабал) – подросток, посвященный в жрецы бога солнца и плодородия Элагабала. Юнец не был субъектом политики, за ним стояли его мать и бабушка, Юлия Соэмия и Юлия Меса. Юлия Меса был тетей Каракаллы по материнской линии. Мать же, Юлия Соэмия, объявила, что Гелиогабал – сын Каракаллы. Каракалле она приходилась, стало быть, двоюродной сестрой, но такой легкий инцест в те времена не считался компроматом, а какую ни есть легитимность это мальчику давало. В общем, войска провозгласили юношу императором, а Макрина, как обычно, убили.
От художеств Гелиогабала быстро потемнело в глазах даже у тех, кто привык к Каракалле, и тех немногих, кто помнил Коммода. Любовницы, любовники, публичные отправления экзотического и дикого для римлян культа. Ну и, конечно, полностью расстроенные государственные дела.
Гелиогабал «проправил» четыре года и кончил как все – его убили преторианцы в 222 году вместе с матерью. Его бабка, могущественная интриганка Юлия Меса, вскоре умерла своей смертью, что для времени и места можно считать блестящим достижением. В некотором роде ей наследовала Юлия Мамея, ее дочь и мать нового императора Севера Александра.
Север Александр сумел удержаться аж на 13 лет, и его правление стало некоторой передышкой для Рима, где с утра уже нельзя было понять, что будет вечером – то ли резня, то ли оргия, то ли совместят. Он неожиданно оказался неплохим правителем. По крайней мере, не прославился дикой расточительностью и просто дикостью. Проблема состояла в том, что ему досталась империя-катастрофа. Денег катастрофически не хватало. Повсюду гремели мятежи. Армия была готова убивать, но категорически не готова умирать и предпочитала лучше играть роль внутриполитической силы, чем защищать страну. На востоке Парфия переродилась в персидскую державу Сасанидов и развернула контрнаступление на Рим. Римская империя понесла серию поражений. Германцы, чувствуя слабость империи, начали переходить границы на севере. Попытки навести дисциплину в войсках кончились утратой репутации и, в конечном итоге, очередным заговором и гибелью императора и его матери Юлии Мамеи весной 235 года.
Итак, прошло 53 года с момента смерти последнего из «хороших императоров». В начале этого периода Рим обладал колоссальной экономикой, несокрушимой армией, прочным как скала политическим режимом и не имел причин переживать о завтрашнем дне. Теперь было трудно найти императора, который умер бы своей смертью, битвы и войны проигрывались одна за другой, а экономика была изодрана в клочья. Это было нельзя назвать даже упадком, это была катастрофа. В ближайшие десятилетия начнется настоящее крушение всего государства, и то, что возникнет на руинах, будет мало напоминать прежнюю империю.
Крушение той Римской империи, какую мы знаем, произошло не по какой-то одной причине, это случилось, так сказать, по всем причинам сразу. Климатические изменения подтачивали важнейшую основу любого тогдашнего развитого общества – земледельческое хозяйство. Истощение драгоценных металлов (и вообще металлов!) и дисбаланс внешней торговли подламывали денежную систему страны. Прекращение завоеваний не позволяло исправить проблемы обычным для Рима образом – не давало вбросить в экономику новые богатства и рабов. На экономический кризис наложился внутриполитический. На то и другое сверху – военные неудачи.
Сам Рим утратил прежнее значение. Прежние императоры имели опорой Сенат. А он находился в городе Рим. Теперь ситуация была иной. Сенат был лишен и формального, и неформального влияния. Император зависел от войска, наличие лояльных солдат было критическим вопросом выживания. А это значило, что правителю приходилось находиться в войсках, а не в Риме, и стараться держать под непосредственным постоянным контролем как можно больше бойцов. Новые императоры могли не то что не любить Сенат, они вообще часто не были знакомы с большинством сенаторов. Беда в том, что Сенат утрачивал нити управления, но их никто не перехватывал: это не был переход власти, это был вакуум власти.
Все эти беды наваливались друг на друга и друг друга усиливали. Рим знал глупых и слабых императоров, он сталкивался с внешними вторжениями и экономическими кризисами. Но здесь одно цеплялось за другое. Рим столкнулся с системой ударов по всем направлениям сразу.
Дезинтеграция
На Севере Александре оборвалась династия Северов, которая где неплохо, где худо, но кое-как поддерживала стабильность четыре десятилетия. Теперь все тенденции, о которых написано выше, развернулись в полную силу. Рим вкатился в дурное колесо: с 235 по 285 год, за ближайшие 50 лет, императорами Рима было провозглашено несколько десятков человек. Точное число назвать невозможно, поскольку сам факт существования некоторых из них спорен, но речь в любом случае идет о целой толпе (для сравнения, «хорошие императоры» – это пять человек за 84 года). Должность императора или человека, который заявил себя в таком качестве, была расстрельной. В перспективе от нескольких недель до пары лет претендент был покойником. Почти все были убиты внешними врагами, заговорщиками, мятежниками или покончили с собой в безвыходном положении из-за деятельности всех перечисленных. Двоим повезло умереть от чумы. Еще один скончался при туманных обстоятельствах, но, вероятно, все-таки от какой-то болезни. Смерть в своей постели от старости не пришла ни к одному.
При таких обстоятельствах никто не мог осуществлять эффективное управление империей на долгий срок. Сенат был отодвинут от рычагов реальной власти. Армия в принципе не была тем организмом, который мог бы направлять развитие государства, – да и, кроме того, не существовало единой сущности «армия», а были конкретные легионы, связанные со своими провинциями. Наконец, императорская власть была жестко ограничена кинжалом наемного убийцы или бунтовщика. Само слово «империя» уже не подразумевало единства. Политически страну разрывали на части «солдатские императоры»: легионы той или иной местности провозглашали государем то одного, то другого, в итоге его убивали или солдаты, или конкуренты. Попутно они вели боевые действия с правителем и друг с другом, разоряя страну. Экономика продолжала деградировать – на нее ко всему прочему наваливалось еще и бремя боевых действий. В стране шла депопуляция, города слабели, но при этом в сельской местности росло количество заброшенных участков.
Рим по-прежнему обладал колоссальным запасом прочности. Экономика империи крутилась, хотя чем дальше, тем больше по инерции. Но теперь у страны отсутствовала сама возможность куда-то организованно двигаться, строить планы хотя бы лет на пять, вести спланированную политику в какой бы то ни было сфере.
Любой император в первую очередь заботился о том, чтобы уничтожить любого, кто представляет угрозу. А угрозу представлял любой яркий человек во главе провинции или войска. Иной раз сложно было понять, не был ли очередной заговор и спровоцирован страхом репрессий. С другой стороны, любая попытка навести порядок и покончить с анархией как раз и приводила к яростному сопротивлению всех, кому порядок мешал, и гибели очередного правителя. Рекордным стал 238 год. Он начался в правление Максимина Фракийца – жесткого человека, который пытался навести порядок свирепыми мерами, конфискуя столь необходимые стране деньги и казня направо и налево тех, кого считал опасными. Террор нагнал страху, но кончилось все предсказуемо – Максимина убили вместе с сыном, трупы были обезглавлены и привезены в Рим, а вскоре убили двух соправителей, которых избрал из своей среды Сенат; попутно убили проконсула провинции Африка и его сына, которые заявили о претензиях на империю. Этот чудесный год вошел в историю как «Год шести императоров», причем по ходу выяснения отношений весело сожгли изрядную часть Рима.
Поразительно, но у империи оставались возможности как-то еще отбиваться от внешних врагов. В этот период реактуализировалась угроза с востока. В слабеющей парфянской державе случилась смута, которая кончилась приходом к власти представителя персидского большинства – Ардашира из рода Сасанидов. Парфия покорилась Персии. Обновление не ограничилось сменой вывесок. Новая династия принялась энергично отвоевывать утраченные ранее земли. Персы развернули наступление на римскую Азию. Одновременно римлянам пришлось парировать удары варваров на европейских границах. В результате императоры начали гибнуть еще и в войнах на окраинах страны. Император Деций вообще погиб в небольшом сражении с перешедшим Дунай с целью набега отрядом варваров-готов. Впервые император был убит в бою с внешними врагами. Впрочем, в 260 году это «достижение» перекрыл император Валериан – этот вообще попал в плен персам. Персидский шахиншах использовал римского императора как подставку, садясь на коня. Там, в плену, Валериан и умер.
Пограничье Римской державы стремительно становилось небезопасным местом. В европейские провинции проникали варварские отряды, а на морях свирепствовали пираты.
Рим и раньше контактировал с германскими племенами варваров. Торговля была оживленной, а германцы и другие люди из-за лимеса с охотой служили во вспомогательных войсках. Теперь они начали переходить Рейн и Дунай и вторгаться в пограничные провинции, проникая все дальше. Готы по морю принялись нападать на Грецию и Малую Азию. На границе больше не было спокойных зон. Города аврально строили укрепления, которые еще полвека назад были просто не нужны.
Но если города могли дать защиту жителям, то сельская местность становилась добычей. III век установил мрачный рекорд по числу кладов. Люди зарывали имущество в землю, столкнувшись с угрозой, – в надежде вернуться за своими деньгами и ценностями. Так вот, до нас дошли те клады, за которыми никто вернуться не смог. В нашу эпоху находили не только серебро. Так, под Регенсбургом в нынешней Баварии археологи раскопали остатки виллы – и человеческие останки. Там жило 13 человек. Всех их убили ударами тупых предметов (видимо, дубин). На одном из женских черепов обнаружили следы скальпирования. Виллы горели и часто уже никогда не восстанавливались – империя наполнялась брошенными землями.
Общеимперская экономика, как легко догадаться, быстро разваливалась. Отдельные провинции замыкались на себе. Добраться из Англии или Испании до центра страны сквозь завесу пиратов, разбойников и войск очередного узурпатора становилось куда более сложной задачей, чем раньше.
На этом этапе начался уже настоящий распад империи на части.
Во-первых, в новых условиях разные провинции пострадали в разной степени. Египет и вообще территории, расположенные на Африканском континенте, катастрофа затронула в меньшей степени. Климатические изменения сказались на них менее остро, гражданские войны и сражения с варварами шли где-то далеко. А вот в Галлии, Италии, словом, западных провинциях, хозяйство возвращалось в до-римские времена, к натуральному хозяйству, где община обеспечивает себя всем и не в состоянии, да и не пытается торговать за пределами своих областей.



