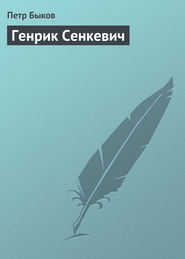 Полная версия
Полная версияГенрик Сенкевич
По мнению А. Н. Пыпина, в изложении этой темы автор «не сделал никакой уступки из старинных польских представлений о свойствах тех событий и не сумел найти в себе беспристрастия к давнему прошедшему». Такое пристрастное отношение романиста к теме, в достаточной степени щекотливой, и было причиной успеха романа среди польской публики, которую подкупили не столько художественные красоты его, сколько публицистические положения автора. Заслуженный историк, наш профессор В. Б. Антонович очень подробно, метко и ярко делает оценку тенденции романа «Огнем и мечем», подчеркивает увлечения Сенкевича в сторону узких патриотических целей, его сухое раздражение и какое-то восхищение каннибальскими подвигами его героя – Вишневецкого, как носителя высшей культуры, как необыкновенного рыцаря. «Князь Вишневецкий, – говорит В. Б. Антонович: – изображен идеалом государственной мудрости, гражданских добродетелей и поборником правды и справедливости; автор до того увлекается своим героем, что доходит в отзывах о нем до кощунства; так, всякий неуважительный отзыв о Вишневецком г. Сенкевич называет богохульством (bluznieretwo), он одаряет князя какою-то сверхъестественною силою, дарованною ему свыше, вследствие которой целые тысячи казаков, населения целых округов бегут, объятые паническим страхом, при одном имени „Яремы“ (Иеремии Вишневецкого). Во время приступа казаков в Збаражу на валах крепости появляется среди знамен и факелов князь Вишневецкий, казаки дрожат и выпускают оружие при его виде!! И тот же герой совершает ряд таких подвигов, которые ничем не отличаются от деяний „дикой сволочи“, как именует запорожцев автор романа.»
Успех второго романа из трилогии Сенкевича, называющегося «Потоп», был такой же блестящий, как первого, хотя уже не сопровождался прежним энтузиазмом. А между тем он написан с большей силой и превосходит роман «Огнем и мечем» своей исторической достоверностью. События отражены в «Потопе» несравненно вернее, «история нашла в этом романе всестороннее воспроизведение и воскресла в яркой фантастической обстановке». Наконец, романист глубже понял дух времени, дал ему более верную оценку и надлежащим образом осветил побудительные причины и мотивы событий и отдал по возможности всем и каждому должное. В выдающимся достоинствам «Потопа» следует отнести и то, что хотя он написан в прежнем патриотически воинственном духе, но в нем уже отсутствует междуплеменной вопрос. Так же, как в первом романе, и здесь в изобилии льется, кровь, и здесь герои резни сверкают военными доблестями, и здесь вводятся интереснейшие эпизоды, и здесь все увлекательно и написано размашистой кистью. Автор с особенным увлечением рисует старое магнатство, его величественность, его огромное значение. С почтением относится он и в представителям духовенства старой Польши, являющегося у романиста олицетворением мудрости и святости. Среди великолепных картин и сцен особенно выделяется по яркости красок, по силе движения, картина осады Ченстохова, геройская защита которого спасла Польшу. Эпоха Яна Казимира, воспроизведенная в романе по интереснейшим и разнообразнейшим мемуарам современников, встает перед читателем во всей своей красоте со множеством разнообразнейших этнографических подробностей из быта старой Польши тех своеобразных начал, на которых она возвышалась среди других государств Европы. Все почти лица «Потопа» – исторические и изображены по обыкновению мастерски, и портреты сатирика Опалиньсцого, братьев Радзивиллов, холодного циника и изменника по натуре, пана Радзеевского, очаровывают читателя. Это вполне живые люди, выступающие рельефно на ясном фоне правдивой, широко задуманной и тщательно выписанной картины. Высокая гуманность, теплое чувство просвечивают в романе, благодаря чему даже и отрицательные типы не внушают отвращения. Для среднего читателя «Потоп» представляет еще более интереса и потому, что любовная интрига занимает здесь больше места и значительнее выдвинута вперед.
«Пан Володыевский» – последний роман эффектной трилогии – в строгом смысле не может быть причислен к историческим романам, так как в нем события исторические уступают место частным, а некоторые факты прямо-таки вымышлены. Это не более как повесть жизни и деяний Володыевского, фигурирующего в «Потопе» и столь излюбленного автором, – живая летопись его семейной жизни, не имеющая прямого отношения к военным событиям. По свидетельству г. Шепелевича, для этого романа Сенкевич воспользовался преимущественно исследованиями Иосифа Ролле, историка юго-западного края, большего знатока Подолии и Волыни, и рукописными материалами (фамильными бумагами) одного семейства, а также и поэмой Вацлава Потоцкого «Wojna Chocimska». Все три романа, несмотря на их яркия достоинства, страдают некоторыми недостатками; в числу из увлечение воинственным духом описываемой эпохи можно поставить на первом плане. Затем многие фантастические эпизоды, особенно в романе «Огнем и мечем», носят на себе чересчур сильное влияние произведений Дюма-отца и, наконец, чувствуется какое-то однообразие романтической завязки. А. Н. Пыпин очень отрицательно относится в знаменитой трилогии Сенкевича. Он находить, что у автора её многие вопросы остаются без ответа, что вся история у него полна эффектов театрального свойства. «Романы Сенкевича, – говорит критик: – по своему содержанию не возвышаются над уровнем ходячих популярных представлений о старой Польше: она продолжает рисоваться его воображению в фантастических чертах, с великими, впрочем, случайными бедствиями, от которых в крайнем случае спасает ее Ченстохевская Богоматерь; эта старая Польша блистает шляхетскими добродетелями – дурные шляхтичи оказываются особенно в партии шведского короля; тяжелые испытания, великия заблуждения, какие бывали и здесь, приводятся только внешними, несчастно сложившимися обстоятельствами; в самом строе польского государства автору не видится никаких особенных недостатков… Что касается племенного состава государства, мы видели, как изображены в первом романе Сенкевича отношения Польши и Малороссии: восстание Хмельницкого есть не более, как бунт холопов, полу-диких, восстающих против разумной дисциплины, вводимой цивилизующею шляхтой, и единственное средство действовать против подобного бунта, это – „потопить его в океане крови“; так именно рассуждал тот магнат, в котором автор удивляется и военному гению, и великой политической мудрости»… Конечно, строгий критик имеет здесь в виду направление Сенкевича, историко-философский характер его исторической трилогии, не касаясь бесспорных достоинств её, глубокого интереса, и внешнего, и внутреннего, художественных красот, мастерству описаний этих трех романов, в которых богатство содержания, цельность находятся в полной гармонии с удивительной техникой, с оригинальностью, ловкостью приемов, – благодаря чему от читателя ускользают недочеты романиста, как исторического живописца и публициста. От романов, посвященных Польше XVII века в разные моменты её существования, высокоталантливый польский романист сделал чрезвычайно смелый шаг, шаг – даже рискованный, задавшись мыслью представить картину древнего Рима в царствование Нерона. От эпохи из истории отчизны он вдруг перешел в эпохе ему во многих отношениях чуждой, не имеющей ничего общего с первою, отдаленной от нас длинной вереницей седых веков. У Сенкевича невозможное стало возможным, благодаря его громадному таланту, широкому полету фантазии и глубоким познаниям в области классической древности, а равно и всестороннему знакомству с искусством и археологией. К исполнению задачи своей романист приступил, с ног до головы вооруженный знаниями, поглотив множество источников, относящихся в данной эпохе, начиная от Тацита, Светония и кончая позднейшими христианскими историками, а также и крупнейшими исследователями нероновской эпохи, не выключая и мучной книги немецкого историка Фридлендера «Картины из истории римских крабов от Августа до последнего из Антонинов», которая послужила ему большим пособием. Когда появился роман «Quo vadis», европейская критика не могла не признать, что с такой, крайне рискованной задачей мог справиться, одолеть все преграды и трудности лишь романист-виртуоз, подобный Сенкевичу, обладающий талантом всеобъемлющим, полным независимости и гибкости. В романе изображена события, относящиеся ко времени пожара Рима, случившегося около 64 года нашей эры, когда Нерон имел за собою, кроме прочих смертей, отравление брата Британика, убийство Агриппины, своей матери, умерщвление Бурра, воспитателя своего и начальника преторианцев, убийство Корнелия Суллы и Рубелия Плавта, изгнание Сенеки, другого своего воспитателя, убийство жены Октавии и бракосочетание с Поппеей Сабиной, когда он устранил большую часть своих свидетелей, или докучных, или опасных, от товарищей и соперников, и дал широкую свободу своему разнузданному темпераменту, низменным инстинктам и привычкам. Главные положения романа и сильнейшие по драматизму места его Сенкевич связал с пожаром Рима и казнями христиан, его сопровождавшими. Все предыдущие деяния Нерона и наклонности, в нем преобладающий, в полной мере подготовляют читателя к самому возмутительному и дикому факту царствования обезумевшего цезаря, и в длинной цепи его преступных деяний пожар «вечного города» является как одно из необходимых звеньев. Смело вводит нас художник-романист на сцену действия, где разыгрывается драма самых запутанных отношений в столице Римского государства, в первый век христианства и с неподражаемым талантом рисует картину двух, исключающих друг друга, миров – языческого и христианского. Романист и в «Quo vadis» показывает себя таким полноправным хозяином, каким он был в романах, живописующих Польшу XVII века. Почти до мелочей верный историческим свидетельствам, он с художественной и жизненной правдой изображает и римскую толпу, грубую, легкомысленную, алчную до зрелищ и крайне разношерстую по своему составу и исторические личности: Петрония Арбитра, бывшего проконсула Вифании, и грека Хилона, представителей двух классов нероновской эпохи, знати и и черни, – и главаря этой эпохи Нерона с его сложным характером, с его удивительной психологией, существенную черту которой романисту удалось, кажется, уловить до известной степени. Художественным вышел у него Петроний, но еще цельнее представлен тип Хидона, который художник-романист дает, как один из множества примеров чудодейственной силы христианского учения. Этому учению в произведении Сенкевича отведена важная и первенствующая роль. Нерон, стоящий во главе язычества, у Сенкевича своими характерными чертами находится в теснейшей связи с тем портретом, который даст Тацит. Но, но справедливому замечанию г. Шепелевича – Сенкевич «пользуется более сложными средствами, чем римский историк. Искусство, особенно пластическое, помогло Сенкевичу воссоздать образ Нерона ярче, чем у Тацита… Следуя всюду в характеристике Нерона его указаниям, Сенкевич имел полное право расширить рамки историка. Он не только изобразил Нерона, но и дал ключ к пониманию этой, на первый взгляд, загадочной натуры. Этот ключ – в исключительно артистической натуре тирана, в ею неудовлетворяемых стремлениях к художественным эффектам». Характеристику Нерона Сенкевич отчасти влагает в уста самого цезаря. «Знай, что живут два Нерона, – говорит тиран Петронию, одному из приближенных своих, – один такой, каким его знают люди, другой – артист, которого знаешь один ты и который, если убивает, как смерть, или безумствует, как Вакх, то только потому, что его давит плоскость и ничтожество обычной жизни, и который хотел бы искоренить их, хотя бы пришлось прибегнуть к огню или железу… О, как пошл будет этот мир, когда меня не станет! Никто еще не постигал, даже ты, дорогой мой, какой я артист. Но поэтому-то я и страдаю, и искренно говорю тебе, что по временам душа моя бывает так же грустна, как те кипарисы, что чернеют перед нами. Тяжело человеку единовременно влачить бремя величайшего могущества и величайшего таланта». У Сенкевича Нерон представлен не простым, безумствующим тираном, но существом с сатанинским славолюбием, с ненасытной страстью к величественному, последовательным в своем безумии, словом, это вполне целый тип, производящий дельное впечатление. Превосходно обрисованы у него и тины женщин, из которых многие играют довольно видную, а иногда и первенствующую роль в романе, и в особенности удачен вышел образ Поппеи Сабины младшей, любовницы, а затем и жены цезаря. Не менее типичными представлены у него Актея и идеальная Лигия; даже Грецина, остающаяся на втором плане грандиозной картины, воссозданной Сенкевичем, и намеченная несколькими штрихами, выходит у романиста жизненною; это истая римлянка, одаренная нравственной чистотой и характером, присущими женщине лучших времен римской республики. Вообще, Сенкевич изобразил женщин Рима правильнее, чем они изображены в римских источниках, которыми романист пользовался осторожно и со свойственною ему чуткостью. Но мнению профессора Ф. Г. Мищенко, большего знатока античного мира, Сенкевич «не поддался искушению сатириков и моралистов, и взглянул на римскую женщину более спокойно и объективно. Он выдвинул на первый план знаменательный факт мировой истории, деятельное участие римской женщины в христианском движении того времени и её заслуги в пропаганде нового учения, которое часто требовало от новообращенных и тяжелых жертв, и необыкновенной стойкости; он с большим старанием и любовью выписывает в Лигии и Грецине Помпей и черты высшей духовной красоты, перед которой преклоняется даже Петроний и смиряется страсть Виниция; он не глумится над тем, что девушка в доме Авла Плавция отвечает на любезное приветствие гостя греческой цитатой из Одиссеи, над чем непременно посмеялся бы Ювенал». Тот же критик находит, что в романе «Quo vadis» недостаточно анализированы мотивы и условия пережитого христианами бедствия, допущены некоторые анахронизмы и несколько умалено значение проповеднической деятельности апостола Павла по сравнению с первенствующим влиянием Петра. Как бы в связи с этим романом, упрочившим славу Сенкевича, находится замечательная новелла его «Пойдем за Ним», в которой представлено языческое миросозерцание на рубеже христианского и, между прочим, чрезвычайно ярко и метко обрисован образ действий римского прокуратора Иудеи, Понтия Пилата, когда он дает согласие на казнь Богочеловека. Гоман «Quo vadis» вызвал в европейской литературе целый ряд этюдов о нем, а в публике он произвел фурор, какой выпадает на долю лишь очень немногих произведений изящной литературы. В русской критике этому произведению была посвящена, между прочим, прекрасная лекция профессора Мищенко, читанная в 1897 г. в Казани. Указав вскользь на некоторые недочеты романа, который он ставит высоко, Ф. Г. Мищенко говорит: «Но сумеем умерить наши требования к художнику; не забудем, что и в точной науке остается далеко не разрешенною задача, к которой он подходит с любовью в своих художественных произведениях; будем ему признательны за то, что силою дарования и изучения он верно воссоздал многие явления давно минувшей смутной эпохи и рельефными, часто увлекающими чертами нарисовал нам рядом с одичанием нравов возвышенные движения человеческой души, способные вдохнуть новую жизнь в общество, по-видимому, разложившееся бесповоротно. Роман прочитан, книга закрыта, – а читатель, благодаря таланту и старанию романиста, долго еще находится под обаянием истины, за которую ратовал дерзновенный Павел: „Несть эллин, ни иудей; несть раб, ни свобод; несть мужеский пол, ни женский: ней бо едино есть о Христе Иисусе“».
Генрих Сенкевич родился в 1846 году, в местечке Воле Ожейской, и высшее образование получил в Главной Варшавской Школе, впоследствии переименованной в Варшавский университет. Ему было двадцать лет, когда он отправился путешествовать. Он проехал многие места Америки и дольше всего пробыл в Калифорнии. Из путешествия он вынес множество самых разнообразных впечатлений из жизни и природы Нового Света, и эти впечатления отразились очень ярко на многих то произведениях, не только мелких, но отчасти и на крупных, где в изображении картин природы он руководствовался довольно часто своими американскими воспоминаниями. Это бросается в глаза особенно в его романе «Огнем мечем». Позднее Сенкевич предпринял поездку в Африку, которая дала ему прекрасный материал для целого ряда писем, появившихся в одном из польских изданий, писем, имеющих не только огромный научно-литературный интерес, но и художественное значение. Объехал он и почти всю Европу, всюду учась, знакомясь с памятниками искусств и древности, наблюдая и обогащаясь материалами, сослужившими ему потом такую большую службу. Едва ли не отовсюду он корреспондировал в разные польские газеты. Еще во время путешествия по Америке посылал он в варшавские и заграничные польские издания очерки, рассказы, новеллы, в которых жизненная правда, юмористические блестки и красочность обнаруживали настоящего художника. Поселившись в Варшаве, Сенкевич принимал деятельное участие, в качестве соредактора, в некоторых газетах, преимущественно политического характера, и был редактором газеты «Слово». С этого времени он начинает приобретать некоторую известность, которая стала расти с появлением его новелл, собранных в книге «Эскизы углем», вышедшей с именем и сразу понравившейся польской публике. В этой книге Сенкевич уже обнаружил все особенности своего таланта, а также симпатии и антипатии и политические взгляды. Принадлежа к старой шляхетской партии – партии консервативной, Сенкевич в некоторых произведениях, преимущественно относящихся к первому периоду его литературной карьеры, является также защитником и демократических начал, хотя довольно слабым, но в общем политика не составляет насущной потребности писателя. Он весь, целиком, уходит в художественные интересы. Популярность Сенкевича достигла высшей точки после появления романа его «Без догмата», за которым довольно скоро, одно за другим, следовали его произведения: «Меченосцы», упомянутая трилогия, романы и повести: «Та третья», «Lux iutenebris», «Ради насущного хлеба», «Ганна», «Семья Половецких», «Татарский плен», «Через степи», «Американские рассказы» и друг. Из новелл его, в которых по технике он не уступает Гюи де-Мопасану, наиболее известны «Янко музыкант», «За хлебом», «Морской сторож». «Бартек-победитель», «У источника», «Даром», «Из записок учителя» и друг. Свои литературные взгляды, в особенности на течения натурализма, Сенкевич, непримиримый враг его, высказал в интересных «Письмах о Золя». Путевые очерки его ценны не только как художественные произведения, с безукоризненными описаниями природы, но и в отношении богатства этнографического материала. Проживая то в Польше русской, преимущественно в Варшаве, то в Австрии, главным образом, в Кракове, Сенкевич принимал неоднократно участие в местных общественных делах. Так, например, он был в комитете по сооружению памятника Мицкевичу и проявил много энергии и ума в этом деле. Императорская академия наук избрала Сенкевича в свои члены-корреспонденты. Все сочинения его переведены на языки французский, немецкий, английский, итальянский, финский, шведский, норвежский, русский и другие. Произведениями его вдохновлялось и вдохновляется не мало художников, и польских, и иностранных, и лучшие иллюстрации к отдельным романам его сделаны американскими и английскими живописцами. Многочисленные критические этюды о Сенкевиче рассматривают его, как бытописателя, психолога и исторического романиста, но бесподобный автор «Камо грядеши» – такая крупная литературная сила, что о нем можно написать, без опасения повторяться, не одну интересную книгу. Всеобъемлющий, умный, глубокомыслящий художник, Сенкевич представляет самый благодарный, и до известной степени неисчерпаемый, материал для критика.



