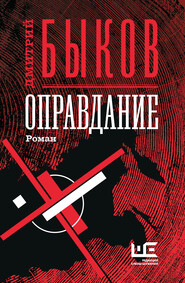
Полная версия:
Оправдание
Шел восемьдесят девятый год – время больших разоблачений. Рогов был историк и внук репрессированного, поэтому читал много и с жадностью. Странно, что о репрессиях Кретов говорил мало, о всеобщем страхе вообще не упоминал и сам, казалось, его не испытывал. В таинственной и праздничной советской истории, похожей в его изложении на густую морозную ночь с гирляндами огней, страху не было места – вернее, то был именно детский святочный страх, ничего общего не имевший с серым ужасом очередей.
– И все-таки я не понимаю, – сказал однажды Рогов. – Может быть, для поддержания страха… или для разгрома оппозиции… действительно нужны были аресты, но не в таком же количестве? Не в том масштабе?
– А кто тут судья? – спросил Кретов, вкусно надкусывая неизменный свой бутерброд. Он сидел на пне, широко и прочно расставив крепкие ноги в сапогах и примостив рядом волшебную корзину, которую брал с собой, даже когда грибов явно еще не было. – Ты думаешь, они брали для страха? Или чтобы народу поменьше было? Я тут прочел, что Россию только тогда и можно накормить, когда половина ест, а половина сидит и бесплатно пашет. Ну не чушь ли собачья? Да Россия могла бы весь мир кормить, если б хотела… Очень ей это надо – кормить.
– Но тогда зачем? Какой смысл? – Рогов немного захмелел по молодости и стал разговорчив. – Понимаете, дядя Леша… Ну пусть бы брали самых талантливых, да? Но и этот критерий не работает. Сколько бездарей погибло. Сколько мрази, которая сама стучала, а потом попала под те же колеса. Хорошо, допустим, что гибнет потенциальная оппозиция. Но смотрите, сколько взяли вернейших! Ладно, представим, что берут именно вернейших, что он хочет вернуть Империю. (Слово «он» в их разговорах давно означало только одного человека, и расшифровка не требовалась.) Но тогда чем объяснить уничтожение почти всей интеллигенции, которая была тайно против? Я не вижу принципа. Не могу понять, по какому параметру он отсеивал…
– Так и не было параметра. – Кретов спокойно вытер рот и по вечной своей привычке провел большим пальцем по усам. – Не было, Славушка. Ты ведь неглупый малый, мог бы и сам дотумкать. Ты думаешь, он тех брал, а этих не трогал? Бред, голубчик. Он брал ВСЕХ.
– В смысле?
– В том и смысле. Всех, без исключения.
– Но ведь вы же уцелели? Да две трети уцелели…
– Он просто не успел. Если бы он прожил еще год, друг милый, система была бы закончена. Он же фильтровал, пойми ты это. Одних выпускал – эти, значит, ни на что не сгодились. Других совал в лагеря. А третьи… про третьих разговор особый, тут мне самому не все ясно. Не время про это говорить.
Кретов был великий рассказчик и знал, на чем прервать разговор. Он всегда рассказывал страшное в несколько приемов, и его приходилось долго упрашивать, чтобы он вернулся к теме, – но и это входило в условия игры. Как раз теперь небо над ними потемнело, повеял ветерок, и, вместо того чтобы углубляться в любимый ельник, приговаривая про денег тьму, Кретов направился обратно. Он жаловался на боль в ногах, хотя шел по-прежнему ровно, без хромоты и одышки.
– Нет, но все-таки, дядь Леш? – спрашивал Рогов, поспевая следом. – В чем смысл-то?
– Вот почему сейчас в армию всех подряд стали брать? Раньше же тоже студентов не брали, а теперь тебя марш-марш – и в сапоги. Почему? – не оборачиваясь, спросил Кретов.
Рогов любил его и за то, что он говорил об этом «марш-марш – и в сапоги» легко и естественно, словно ничего особенного в армии не было, подумаешь, две зимы и две весны. Дома его кормили лучшими блюдами и разговаривали осторожно, соглашаясь во всем, как с покойником, и это Рогова пугало и злило дополнительно.
– Служить некому, – с усмешкой ответил Рогов.
– Да чего сейчас служить-то, кому мы нужны? Или у нас враг новый объявился? Не смеши… Или ты думаешь, что они армией будут прежний порядок наводить? Да какой же порядок наведет такая армия, а главное – у кого там наверху хватит сейчас пороху на такое дело? Нет, Славушка, это примерно то же самое, но в других масштабах. Поняли, черти, что он дело говорил.
– Да что за дело-то, дядь Леш? – не выдержал Рогов. – Всех пересажать – и все дело?
– Проверить, Слава, проверить, – терпеливо, как второгоднику, повторил старик. – Не пересажать, а всех посмотреть на свет. Знаешь, как нефть делят на фракции? Она тоже небось думает: и зачем ее добывают и потом мучают, так хорошо было в подземке-то… – И он пустился было в рассказ о нефтедобыче, которую знал как никто, потому что все шестидесятые годы провел в Западной Сибири.
– И что, дядь Леш, – не отставал Рогов. – Вы думаете, если б не помер – так пропустили бы через эту мясорубку всех?
– Да ведь вагоны уже стояли, – ответил Кретов, с неудовольствием отвлекаясь от нефти.
– Где?
– А ты не знал? На всех вокзалах. Развозить народ. С пятьдесят второго года.
– Да зачем, чего ради?! – почти выкрикнул Рогов, впервые отчаиваясь понять. – Работать, что ли, стало некому? Уран был нужен для бомбы? – Он навскидку припоминал все самые свежие мифы, но объяснения не находил.
– Да чтобы выбрать кого надо, смешной ты человек! Ну как ты в обычной жизни выберешь кого надо? Нешто тут человек на виду? Вот погоди, ты вернешься – поговорим. Специально доживу, тебя дождусь. Тебе не понять сейчас, извини уж – не понять.
– А вернусь? – криво усмехнувшись, спросил Рогов, в душе уверенный, что его забьют ногами в сортире свои же сопризывники на другой день. Он много всякого слышал об армии и, хотя не жаловался на силу и выдержку, не выносил коллектива, распорядка и скуки. Ужаснее всего была непредсказуемость запретов, бессмысленность тысячи мелких ритуалов, цель которых, казалось, была только в воспитании повиновения.
– Вернешься, – уверенно сказал Кретов. – Я и бутылку припасу, разопьем в день возвращения. Тогда поговорим.
И Кретов не соврал. Он всегда откуда-то все знал. Через год их отпустили – вышел указ о возвращении студентам брони. Рогов отчасти даже жалел о таком скором избавлении: он чувствовал себя не демобилизованным, а комиссованным, помилованным – словно его покатали во рту, надкусили и выплюнули. Все самое трудное он успел перенести, а плоды этого годового терпения ему уже не достались.
Он всю жизнь, с самого раннего детства, ощущал себя чем-то вроде моста между домашней и внешней жизнью. Дома он, поздний и единственный ребенок, был окружен деспотической и в то же время робкой любовью; дома все было слабо, хрупко, ломалось, шаталось, держалось на честном слове. За стенами квартиры шла другая, куда более суровая жизнь, и она была для Рогова менее мучительна, чем домашняя, – как и зима была для него легче осени, потому что осень выглядела промежутком, межеумочным временем колебаний и тягостного ожидания, а зима бесповоротна: худшее наконец наступило, и его можно уже не бояться. Армия была легче, чем ожидание армии, и жизнь в ней была простая, безусловная, в отличие от тонкой, зависящей от тысячи оттенков жизни домашней. Там все боялись друг друга ранить, а здесь никто никого не берег – все было честней, голей и ближе к действительности. Можно было не врать. Рогов старался не вспоминать о доме – это разжалобило и ослабило бы его; он мучительно тосковал по отцу и особенно по матери, и жалость эта была тем надрывнее, чем беспомощнее казались они отсюда. Рогов был другой породы, он мог выдержать.
Дом, на армейский взгляд, выглядел царством слабости, и при мысли о нем вспоминался отчего-то осенний синий, слезливый вечер, окно в дождевых потеках, мать, зовущая ужинать… Все были добры, слабы, робки, и вся эта жизнь была одной мучительной условностью. Правдой были тьма и стужа, и лучше было не оттягивать неизбежного момента, когда они станут единственной реальностью. Они и стали, хотя до имперской тьмы и стужи этой армии было куда как далеко.
В армии, как ни странно, у него было много времени, чтобы думать. Это было единственное, чем он мог занять себя, потому что массу никому не нужной работы и бессмысленных строевых упражнений выполнял не он. Он только пытался вывести для себя законы мира, в котором оказался. Для него, историка, это был любопытный, хотя и несколько затянувшийся эксперимент. Бессмысленно было все, бессмыслицу приняли как условие игры, которое не обсуждалось. Наказания и поощрения также не мотивировались ничем, поскольку деды не снисходили до мотивации. Любимцем роты необязательно становился остряк и силач, изгоем далеко не всегда оказывался слабейший, и сам Рогов, к великому своему удивлению, не только не был убит в первый же день за неуместную задумчивость, но благополучно дослужил свой год почти без серьезных стычек. Перед ним был принципиально иррациональный мир, в котором беда прилетала ниоткуда. Здесь бессмысленно было делать добро, выглядевшее признаком слабости, и так же бесполезно – творить зло, которое в силу тысячи случайных причин не успевало осуществиться. Здесь, как и в природе, не было добра или зла, но была возможна только последовательность, поскольку все другие критерии оказались утрачены. Последовательный неучастник в тотально непоследовательной игре, Рогов уцелел. Ему достаточно было хоть раз открыть рот, чтобы заступиться за травимого или одернуть наглого, – и его оборона была бы разрушена, но он ни на секунду не перестал быть наблюдателем и даже толком запомниться никому не успел. Зато ему запомнились многие.
Пополнять коллекцию таинственных возвращений здесь не удавалось, но думать о механизмах отбора во время репрессий он не переставал ни на минуту и выработал целую теорию: случайность, непредсказуемость повода стала ему казаться главным признаком Божественной воли. Волю, управляемую обычными человеческими правилами, нельзя было уважать. Сержанта чтили исключительно до тех пор, пока он мог потребовать чего угодно, в том числе сверх устава, хотя и сам по себе устав, если следовать ему детально, был олицетворением абсурда. На свое счастье, Рогов не должен был никем командовать. Он попал в связистскую учебку и благополучно провел последние пять месяцев службы на узле связи. Это не освобождало от периодической ссылки в роту, от строевых смотров и забегов, но в целом служба была сравнительно легкой. Раз в три месяца мать приезжала к нему, и всякий раз ему надрывали сердце ее вопросы о службе. Он не мог ей объяснить, что мир этой службы описывается в иных категориях, нежели добро, зло, жалость и прочая. Единственное, чем он мог утешить мать, – это сказать ей, почти не соврав, что кормят прилично. И действительно, могло быть хуже.
В армии выработалась у него привычка подолгу задумываться, молчать, иногда вполголоса разговаривать с самим собой; эта привычка была осознанной и ничем ему не грозила. Другая, неосознанная, была страшней: он окончательно привык отсчитывать от нуля, уверившись в том, что ни на кого надеяться не следует, что есть только сила – и сила эта сильна до тех пор, пока мотив ее неясен и действия непредсказуемы. Именно в армии ему стала отвратительна слабость во всех ее видах – и не вступался за травимого он не из одной трусости. Трусости, собственно, и не было. Он так же понимал бесполезность заступничества, как его безумная бабка Марина. Жертва могла выжить только одним путем – последовательно оставаясь жертвой, сживаясь с этой ролью и находя в ней наслаждение; такую жертву никогда не добивали до конца, ибо она была нужна снова и снова. Самое изощренное мучительство, проистекавшее отнюдь не только от скуки, а скорее оттого, что в пространстве казармы человека ничто не отвлекало от его истинной природы, основывалось на том, чтобы никогда не домучивать до известного предела, который палач и жертва чувствовали обоюдно. Вмешаться в этот расклад – значило нарушить чистоту жанра. Если жертва начинала бунтовать – жалко, как всё, что она могла делать, – это не вызывало уважения, а лишь усугубляло презрение, как любая измена. Здесь же, в армии, Рогов понял, что измена условному злу в пользу условного добра – точно такое же предательство, как всякое иное. Империя потому и была империей, со всем своим величием, с победой над природой, с изготовлением прекрасных, громоздких и добротных вещей множественного предназначения, что упраздняла добро и зло, деля всех на последовательных палачей и столь же последовательных жертв, и в этом была ее несравненная, ностальгически милая цельность.
О последнем разговоре с Кретовым Рогов не думал и на дачу в первое послеармейское лето тоже не поехал – как ни соблазнительна была перспектива распить со стариком его бутылку, хотелось оттянуться на юге. Да и бутылки, наверное, никакой не было.
Но бутылка была, и распили они ее с Кретовым совсем не так, как оба предполагали летом восемьдесят девятого. В девяносто первом у Рогова умер отец, и на дачу никто из семьи не ездил. Там все напоминало о нем, все было сделано его неумелыми худыми руками, вопреки судьбе, желанию и здравому смыслу. Старая «Волга», все еще бегавшая, тоже была отцовская, и сел в нее Рогов только в октябре – надо было по-ехать на дачу, как всегда перед зимой, и развинтить водопровод, чтобы при наступлении холодов замерзшая вода не разорвала трубы.
Дача имела вид запущенный и жалкий, и отвоевывать ее у природы было так же бессмысленно, как просить за Скалдина или вступаться за рядового Массалитинова с его огромным носом и страдальческим взором. Трава заполонила участок, но в свою очередь сдалась заморозкам и пожухла. Заходить в дом было слишком тяжело: все вещи в нем были слабы и умоляли о защите – но для них нельзя было ничего сделать. Рогов развинтил трубу, перекрыл воду, проверил замок. Все выло, все просило зайти и хотя бы погладить, потрогать, хоть как-то напомнить вещам, что они не забыты, не окончательно брошены, – но себя было жальче. Рогов вспомнил любимую фразу когдатошней своей пассии, девочки с биофака: «Высшие формы жизни имеют предпочтение». Она сама полагала себя высшей формой жизни и потому кинула Рогова очень быстро, а предпочтение получил третьекурсник МГИМО, растоптавший ее так, что она за всю жизнь не собрала костей. Рогов помнил об этом и не любил разговоров о высших формах жизни, но сейчас высшей формой был он, и растравлять себя видом несчастных вещей и пыльных поверхностей не было никаких сил.
Имущество тут было не кретовскому чета – ломаные, сосланные на доживание вещи шестидесятых и семидесятых годов, вообще удивительно хлипкие, хоть и с претензией на изящество, – как, впрочем, и люди тех времен. Рогову было жаль эти предметы и тогда, когда их сюда свозили, и он словно видел их молящие улыбки – мы сгодимся, мы послужим… Теперь, когда в дом за все лето никто не приехал, от них вовсе не было толку, и они должны были окончательно отчаяться. У Рогова не было сил утешать дом прикосновениями и заполнять собственным хилым теплом. Дому предстояла зима, но вещь – она и есть вещь, и летом хозяева приедут снова. Так уговаривал он себя и свои вещи. Он съел горсть рябины, уже сладкой после первого холода, и подумал, что по-настоящему сейчас хорошо бы выпить, именно и только выпить.
Тут он заметил дым, поднимавшийся из трубы соседнего дома. Кретов еще не уехал. В пустом дачном поселке он остался один, топил печь, ходил в лес, выпивал, вероятно. Рогов постучал, и старик не удивился.
– Чего не приезжали в это лето?
Рогов рассказал про отца.
– Жалко, хороший мужик был, – просто и естественно, как всегда, сказал Кретов. – Что ж, ты теперь за хозяина. Не женился?
– Собираюсь, – признался Рогов.
– Что не привез?
– Да что ей сейчас тут делать…
– Это дело, это дело… Ну, по маленькой?
Кретов брал водку в ближайшем городке, до которого раз в месяц добирался на электричке, покупал сразу много и настаивал – на чесноке, сельдерее, перце. Получавшаяся настойка сочетала в себе выпивку и закуску. Рогов с наслаждением хряпнул стопку и заел венгерским салом.
– Как служилось? Мать вроде говорила – не жаловался?
– Не жаловался, сносно. Я думал – хуже будет…
– То-то. Глаза боятся, руки делают. Не стесняйся, закусывай, я запасся.
Кретов подбрасывал дровец в печку, рассказывал, как один сумасшедший на участке завел двенадцать коз, а Рогов пил, не задумываясь особо, как будет возвращаться. Он водил прилично, дорога была пустая, а выпить ему сейчас требовалось, тем более что погода установилась на редкость промозглая. Добро бы настоящие холода – но они всё не наступали, а вместо них стояло серое, сирое не пойми что.
Коротко поговорили о путче, Кретов весь его пересидел на даче, слушая радио, и расспрашивал о подробностях, но Рогов путчем не озаботился. Во-первых, он не выходил из дома, чтобы не пугать мать, а во-вторых, был все-таки историком, уже четверокурсником, и понимал, что из подобной затеи ничего выйти не могло. Шум вокруг августовской победы только раздражал его, а последствия могли оказаться хуже всякого путча – победители получили карт-бланш, о котором не смели и мечтать.
– Вот и я говорю, – удовлетворенно поддакнул Кретов. – Если бы кто сейчас и мог взять власть… да их, верно, не осталось никого.
– Подпольный обком? – спросил Рогов. – Стальная когорта? Золотая рота?
– А ты не смейся. – Старик, кряхтя, налил себе и ему. – Помнишь, был у нас с тобой разговор насчет того, как нефть делят на фракции?
– Помню. Перед самой армией.
– Так вот. Я объяснял тебе тогда, да ты не врубался. Посадки-то эти для чего нужны были? Ты, небось, наслушался: армия бесплатных рабов… Нет, голубчик, они бы и на обычных своих местах пахали как бесплатные рабы. Все это, Слава, был один большой фильтр, так я понимаю. И задача его была одна – отфильтровать тех, кто в случае чего и войну отразит, и страну поднимет, и мир завоюет. Прикидываешь?
– Это как же отфильтровать?
– Да очень просто, милый. Проще не придумаешь.
– Кто выживет, что ли?
– Не-ет, кто выживет – те второй сорт… – Кретов разгладил усы большим пальцем правой руки. – Те жилистые, конечно, крепкие ребята, но они слабину дали – себя оговорили. Им веры мало. Подписал на себя показания, еще пару-тройку человек сдал – и ту-ту, поехал жопой клюкву давить. Эти годятся на исполнителей – максимум. А первый сорт, элита – те, кто ничего на себя не подписал. Ни единого словечка не признал. Не оговорил никого под пытками. Как ему еще было проверить население? Гитлер в Германии вовсю пытает своих, крепчайшие коммунисты ломаются, война неизбежна – как тут разберешь, кто сможет такой махине противостоять? Он и отбирал – жестоко, конечно, но если вдуматься, так способ его был не худший. Нет, не худший.
– Не может этого быть, – сказал Рогов не очень уверенно. – Ведь единицы же выдержали, остальные сломались…
– То-то и оно, что единицы. – Старик поднялся пошуровать в печке. – Единицы, а зачем ему остальные были нужны? Он так и решил для себя: остальных – не жалко. Если они все такие гнилые, с ними не то что светлого будущего – прочного настоящего не построишь. Вот и стал делить на сталь и шлак. Большинство – в лагеря: лучшего недостойны. Он бы всех потихоньку туда переместил. Жили бы как в Камбодже при Пол Поте. Ты обрати внимание, что он ведь и окружение начал фильтровать: в последние годы под Берию подкапывался, на Молотова орал… Мы-то знали, как он на девятнадцатом съезде ярился. Передали только официальную его речь, маленькую, – доклад Маленков делал, а он потом на закрытом совещании еще три часа говорил! В семьдесят-то лет, прикинь… Он потому и тасовал их как хотел. Ягоду снял, расстрелял. Ежова снял, расстрелял. Берию не успел.
Чтобы избавиться от наваждения, Рогову понадобилось встряхнуть головой и заново осмотреть давно знакомую обстановку кретовского жилья – стол, печь, диван. Все было прежнее, никакой мистики. Но то, что говорил старик, выглядело не просто убедительным – все это совпадало с роговскими армейскими догадками, таимыми даже от себя.
– Ладно вам, дядь Леш, – сказал он без особенной уверенности. – Эта вся мясорубка не при нем началась, не на нем и кончилась. Что ж, Брежнев диссидентов тоже фильтровал?
– Да Брежнев разве так фильтровал? – Старик махнул рукой и подбросил еще дровец.
– Ну черт с ним, с Брежневым. Но началось-то все при Ленине!
– О! – Кретов поднял палец. – Но заметь: при Ленине-то принцип прослеживается очень четко. Берут дворянство, так? Берут интеллигузию. Пусть без повода, пусть в заложники, – но не берут же они в заложники какого-нибудь еврейчика из черты оседлости, пьянчугу из рабочей слободы? Они хватают очень даже конкретную публику. И Сталин видит, как вся эта публика, еще вчера державшая в руках страну, учившая жить, писавшая во всякие журналы, на глазах обделывается! Да это что ж такое, господа хорошие? Хоть посопротивляйтесь для порядку! Нет – идут под нож и еще мучаются чувством вины. Тут он и понял: с нормальным народом, с прежними спецами никакой сверхдержавы не построить. Сверхстрану должны строить сверхчеловеки. А иначе – ну сам ты посуди, зачем через двадцать лет после революции перелопачивать всю Россию? Это он понял: подготовительный этап закончился, начали возводить башню… Отцеживать спецконтингент.
Рогов все еще не принимал этой гипотезы всерьез, но здравое зерно в ней было – пусть даже исполнители сами до конца не понимали, что творят, но подспудный импульс вполне мог быть таков. Когда на их глазах кололся маршал, ползал по цементному полу недавний вершитель судеб, сдавал жену и детей любимый партийный фельетонист, даже самый тупой следователь не мог не испытывать, помимо обычной плебейской мстительности, еще и удовлетворения более высокого порядка – от исполнения какой-то высшей справедливости. Если такая гниль учила их всех жить или стояла во главе армии – так ей и надо! Кретовская догадка одна позволяла объяснить тотальность посадок и расстрелов, масштаб и непредсказуемость очередных кампаний, которые – как он знал теперь из документов – к пятьдесят четвертому году и впрямь коснулись бы всех уцелевших.
– И куда же они девались? Те, кто не подписывал?
– Вот это уже вопрос! – Старик назидательно поднял палец. – Это главный вопрос! И вышло так, что я знаю ответ. Я, видишь ли, в сорок седьмом разведывал нефть под Омском. Нефти там, конечно, никакой не оказалось, так что я уж готовился к разносу, а то и к чему похуже. Тогда ведь всем клеили вредительство – я не знал еще, что ярлык этот только для виду. И один местный житель, у которого в избе я стоял, мне рассказал, что где-то под Омском есть поселение тех, вроде как расстрелянных, а на самом деле туда тайно свезенных. У него кум там на строительстве работал. Построили поселок, немаленький, с хорошую воинскую часть, – верстах в десяти к северу от деревни. Там уже тайга еле проходимая. И с тридцать седьмого года стали туда свозить отфильтрованных, со смертными приговорами. Они для всех переставали существовать, и тут уж их должны были готовить по-настоящему.
– К чему?
– Кого к чему. По склонности. Одних – в какой-нибудь отряд смертников, так я полагаю. Других – в штабы, в военную элиту. Третьих – руководить производством в тылу, пуп рвать, но патроны давать… И знаешь – они-то ведь и выиграли войну! Они и есть те неизвестные солдаты. Ты думаешь, население в массе своей было готово так отражать нашествие? Население мне рассказывало, когда я под Питером был, что при немцах было очень даже замечательно. Порядок, и жидов меньше. А как наши перебегали к немцам? Правы были эмигранты: ни у одной армии мира не было столько дезертиров. Дивизиями в плен сдавались. А этих Сталин берег как главный резерв, они в декабре и повернули ход войны. Помнишь сибирскую дивизию?
– Помню, – машинально сказал Рогов.
– Эти сибиряки и спасли положение. Как их ввели в бой – мигом все наладилось. Думаю, то омское поселение было не единственное.
Рогов хотел было спросить, откуда Кретов знает насчет сибиряков и что, собственно, сам он делал во время войны, но чувствовал, что эту тему трогать не стоит. Это было единственное, о чем старик не заговаривал никогда. Будет время – сам расскажет.
– А памятник в Александровском саду – ты думаешь, это неизвестному солдату? Дудки: они и были неизвестными солдатами. Секретный резерв смертников, которым возвращаться было некуда. Ну а кто выживет – тому домой. Прикидываешь, почему была нужна эта формулировка – «десять лет без права переписки»? Кто-то все равно должен был вернуться. Не может так, чтобы всех. Сталин прикидывал, что за десять лет – с тридцать седьмого-то – и с войной, и с восстановлением управятся. Разведка ведь, как говорится, доложила точно – он знал, когда начнется. Потому и армию всю перетряхнул – помнишь, как маршалов стали уничтожать? Буденного и Ворошилова оставил для символа, а прочих – в мясорубку. Кто выдержал – тех под Омск, кто предал, подписал на себя – тех, известное дело, под расстрел. На хер нужна такая армия. Тухачевский все признал, а считался главная надежда. Блюхер, остальные… Гамарник сам застрелился.
– А родню-то их за что было брать? – не выдержал Рогов. На его глазах людоедство обретало смысл и цель.



