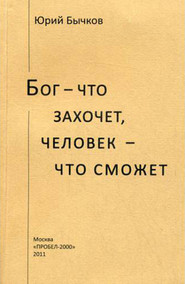скачать книгу бесплатно
– Я не помешаю тут вам?
– Нисколько, – сказал я с кислым выражением на лице: уже помешал, да ещё как.
Дальше – больше. Незнакомец вытащил из кармана небольшой блокнот и стал что-то рисовать или, может быть, писать в нём, и тогда можно было поподробней рассмотреть его. На нём берет, сочинённый из обычной кепки с отрезанным козырьком. Из под берета плотными кольцами выбивались пряди серебряных волос, а лицо – необычное сочетание черт утонченной интеллигентности с чем-то очень народным, даже древним, идущим от скифского, что ли, вождя или от сказочного волшебника Берендея, фольклорное, русское, родное.
Незнакомец убрал блокнот, встал со стула-палки и просто сказал:
– Здравствуйте, давайте знакомиться. Я – Пришвин. Живу тут рядом, в Дунине. Что-то не пойму, на чём вы ездите?! Никогда не видел таких мотоциклеток.
Объяснил, что это выпущенный для инвалидов Отечественной войны трёхколёсный мотоцикл, а мне он достался по случаю: увидел в хозяйственном магазине, куда он непонятно каким образом попал. Стал нахваливать Пришвину драндулет. Дескать, он прост по конструкции, лёгкий – любой деревенский мальчишка без труда может вытолкнуть его на плохой дороге. Пришвин загорелся, как мы теперь говорим, завёлся с полоборота. Ему захотелось заиметь такой же драндулет, чтобы, без опасения застрять, выезжать в лес. Он явно не мог себе позволить упустить такого знатока вездеходных машин, как я.
– Вот что, – энергично воззвал он ко мне, – давайте поближе познакомимся. Приезжайте ко мне в Дунино незамедлительно.
– И наш голубь полетел следующим утром? – вспомнив, как бодро-весело сам-то отозвался на желанное, ожидаемое приглашение Конёнкова прийти к нему в дом на Тверском бульваре.
– Нет, не поехал я в Дунино ни следующим утром, ни в последующие дни. Посчитал, что не готов удостоиться такой чести. Понимал, не подготовлен к этой встрече – возможно ли серьёзное общение с писателем, живым классиком, без знания его книг?
– Что? Вы до встречи в лесу под Звенигородом не читали Пришвина, а только слышали от других, что он классик? – задал я недоуменный, наивный до глупости вопрос великомудрому Никольскому.
– Как так не читал? Не могло такого быть.
Он задумался, соображая, с какого конца распутывать нить моего незнания, непонимания сути дела.
– Читал я, конечно же, Пришвина и сознавал, что среди многих других литераторов Пришвин правдив в своих книгах; это было видно сразу.
– Просветите, Валентин Михайлович, о чём речь?
– О раздвоении личностей в стране победившего социализма. Одно люди говорят, публично, а по-другому о том же предмете думают. Немало по сей день простодушных, доверчивых. Писатели многие – что флюгер. Пришвин же всегда правдив. Я с гордостью за него повторяю это. Что почём, он различал. Как ему удалось избежать раздвоения и разлада в душе и в чём он нашёл примирение – это была тайна, открыв её, я надеялся избавиться от состояния душевного смятения.
Валентин, видя, что мне не до конца понятна ситуация с душевным раздвоением, заговорил о том, откуда в нём это проросло и как дружба, разговоры с Пришвиным помогли ему.
– Встреча с ним обозначила всю мою дальнейшую судьбу и в те, ранние, пятидесятые, годы сыграла решающую роль. Тогда я учился на художественном факультете Полиграфического института и, будучи членом Московского товарищества художников, зарабатывал на жизнь, сдавая пейзажи и натюрморты на малый совет. Я был «кормильцем» в семье, состоящей из старенькой мамы и учащейся сестры. После перенесённой в детстве болезни позвоночника я утратил способность ходить, и в школе никогда не учился, и меня почти не коснулась навязчивая пропаганда казённого розового оптимизма. Я рано стал чувствовать лакировочную лживость газетных информации и не питал нежности к «отцу народов», поняв его деспотическую сущность. Я себя в общественной среде чувствовал белой вороной, и это меня смущало и беспокоило. Встреча с Пришвиным ошеломила. Было лестно, радостно получить от него приглашение, но я понимал, что не подготовлен к такой встрече. Неделю метался между желанием немедля ехать в Дунино и страхом опозориться. Постепенно вызрело максималистское решение – пока не прочитаю всё, им написанное, не показываться. Но однажды возле деревенского дома в Салькове, где мы жили тем летом, остановился пришвинский «москвичонок» и жена Михаила Михайловича, Валерия Дмитриевна, войдя на террасу, сказала:
– Что же вы, молодой человек, заставляете искать себя? Быть приглашённым к Пришвину считается большой честью, а вы так пренебрегаете!
Мне было очень стыдно, и я обещал утром приехать.
Оглушая окрестности рёвом мотора, испуская клубы дыма драндулет достиг вершины пригорка, на котором стоял дом знаменитого писателя, и я очутился перед столиком, за которым под огромной липой сидел улыбающийся Пришвин.
– Здравствуйте, вот вы и добрались до нашего Дунина.
Пока мы приветствовали друг друга, мой Джек заинтересовался пришвинской Джалькой, красивой охотничьей собакой. Они затеяли бурную возню, гоняясь друг за дружкой по саду. Я тогда на его интерес к моей собаке рассказал Пришвину историю Джека. Подобрал его в поле погибающим: кто-то перебил ему позвоночник, он еле полз, задние ноги его волочились. В покое, при уходе и хорошей еде Джек стал быстро поправляться, выздоровел и был невероятно предан, послушен. Он быстро освоил уйму команд и научился, я уже об этом говорил, возвращаться домой с запиской в карманчике ошейника.
– Лялечка, послушай, что художник про свою собаку говорит, – позвал жену Михаил Михайлович. Она вышла. Любуясь женой, глядя на резвящихся собак, Пришвин с лукавой улыбкой предположил:
– А вы знаете, они ведь сейчас хвастаются нами – своими хозяевами. Жалька говорит Джеку: «Что у тебя за хозяин? Одна мотоциклетка имеется и та в гору еле-еле тянет, а у моего – и дом какой, и сад с яблоками, и настоящий автомобиль». А Джек ей возражает: «А что толку-то, зато мой хозяин молодой и кучерявый, а у твоего кудри за ушами только и остались, а имущество у моего еще будет».
Собачий диалог насмешил всех, а я понял – Пришвин это сделал для меня. Он видел мою одеревенелую застенчивость и пытался снять её. После такого его поистине гроссмейстерского шахматного хода я осмелился попросить у Михаила Михайловича разрешения написать с него этюд. Он согласился.
Никольский прервал сильно заинтересовавший меня рассказ и стал разыскивать на большом, нагруженном эскизами, этюдами, зарисовками столе что-нибудь из подготовительных материалов времени работы над портретом Пришвина.
– Вот, полюбуйтесь, один из первых натурных набросков – «В окрестностях Дунина».
Я не без удовольствия и гордости за друга-художника всматриваюсь в живой, симпатичный этюд, на котором Пришвин увлечён, молод духом, обаятелен. Пришвину свойственны поэтичность, особая, пристальная, наблюдательность, достоверность в описании жизни природы. Пришвин – поэт-философ, тонкий и своеобразный стилист. Он проложил для отечественной литературы поэтическую тропу в русский лес. И в этом пункте видится точка схода, пересечения поэтики, системы эстетических средств, городского интеллигента по происхождению Пришвина с гением-почвенником Конёнковым, которому Бог дал в руки резец, чтобы он явил миру тайну тысячелетия славянства на этой земле, передал это в изваянных им образах «Старичка-полевичка», «Сказительницы Кривополеновой», «Вели-косила», загадочных поныне его земляков, определённых им по породе: «Мы – ельнинские». И вспомним у Пришвина: «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», «Родники Берендея», в самих названиях чувствуется живая связь, единая с конёнковской природно-поэтической пластикой кровь.
Все залы первого этажа Третьяковской галереи связаны между собой скульптурами Сергея Тимофеевича Конёнкова. И это не какое-то болезненное пристрастие сегодняшних экспозиционеров. Весь двадцатый век шла Третьяковская галерея к такому решению: шедевры Конёнкова, конгениальные творениям греческих скульпторов эпохи Перикла, – «Юная», «Сон», «Пробуждение», «Раненая», «Нике», «Стрибог», «Пиршество», «Ундина», наконец, «Девушка с поднятыми руками», – подобно изваянной из мрамора «Ники Самофракийской», окрыляющей, освещающей божественной античной красотой Лувр, изваянная Конёнковым деревянная статуя обнажённой, юной красавицы-славянки, символизирует высоту, недостижимый после античных ваятелей и конёнковской пластики уровень гуманистического искусства. Уверенно держит «Девушка с поднятыми руками» вместе со всей бесценной коллекцией Третьяковской галереи престиж одного из лучших музеев изобразительного искусства мира.
Никольский замечает наконец, что его интервьюер-собеседник в мыслях ушел далеко от предмета разговора, и отбирает со смехом у меня рисунок «В окрестностях Дунина».
– А теперь, если позволите, Юрий Александрович, расскажу, как мне позировал Пришвин. Я приезжал на своём драндулете к четырём часам, мы располагались в нижней части сада под раскидистой елью. Начинался сеанс, и завязывались долгие разговоры, которые отнюдь не содействовали моей работе.
– Но постижению Пришвина, надеюсь, это помогало?
– Пришвин свободно двигался, много рассказывал, размышлял вслух, что-то записывал в свой блокнот, а иногда, забывая про меня, погружался, вроде тебя, в глубокое раздумье. Именно в эти минуты я пытался уловить нужное мне выражение лица. Высокий, правильной формы лоб Пришвина обрамлялся по сторонам орнаментальными завитками волос. Такое же чернёное серебро было в струящихся бородке и усах. Глазные впадины, надбровные дуги и нос – всё завязывалось крепко и строго, но без готической строгости и схемы, а по-славянски мягко, переходя из формы в форму… Михал Михалыч был в отношениях со мной деликатен: после сеанса не смотрел работу. Мне это давало возможность созданный этюд отложить, как материал к задуманному мной композиционному портрету.
– О чём остром вы рассуждали летом пятидесятого года?
– В тот год газеты, кажется, особенно надрывались в прославлении Сталина и восхвалении нашей жизни. Помню одна газета выдала заголовок: «Избыток духовной культуры в Советском Союзе».
– Ну, во-первых, избытка культуры не может быть по определению, а во-вторых, в искусстве мы, свидетельствую как причастный к тому времени, были не «только в области балета впереди планеты всей». Теперь в высокой культуре как бы и не нуждаемся – наши выдающиеся музыканты-исполнители, композиторы, оперные и балетные звёзды тешат западного слушателя, зрителя, а нам – объедки с модернистского стола.
– Ты не согласен с тем, что газеты в сталинское время нагло лгали?
– Лгали, да ещё как! Ложь была наглядна и груба…
– Я, помнится, тогда в разговоре с Пришвиным осмелел и пошёл сталинское время крыть.
– В пятидесятом году?
– Вот именно… И, представь себе, Пришвин со мной согласился во многом и высказал при этом мудрое поучение: «Не так смотрите. Следует понять тайну казённой догматичности. Вот, например, существует понятная и простая фраза «высокий дом». Но это человеческое понятие кажется чиновнику-догматику низменным и не современным. Он вставляет всего одну буквы «т» и получается «высотный дом», где это понятие уже обретает казённую механистичность. Правда в народе – только там и нужно искать её».
– Валентин Михайлович, что значил Пришвин, человек и писатель, в вашей жизни?
– Как теперь модно говорить, хороший вопрос, – улыбнувшись во всё лицо, ответил он, словно посмеиваясь над собой за этот словесный штамп. – Влияние его во многом определило, направило всю мою дальнейшую жизнь. Если Пришвин так внимательно, серьёзно, ответственно смотрит на мои скромные этюдные работы, стало быть, видит во мне художника, в какой-то мере ровню себе, а это заставляло, фигурально выражаясь, расправить плечи. Так уж повелось с начала знакомства, что этюды свои я по мере готовности привозил в Дунино «на приживаемость». Новый этюд, если он нравился, приговаривался «к повешиванию» и будучи приколотым, жил на стене, выдерживался. Иногда с заключением «эффектный, но пустой – одна краска» этюд изгонялся из дома; чаще было «красивый, но не излучает, нет контакта» и уж совсем редко: «духовный и красивый» – такой этюд я всегда пытался подарить, но почти всегда безуспешно. «У вас самого не так уж густо таких», – мудро оценивал ситуацию мой наставник. Он испытывал ко мне отцовское чувство, хотелось порадовать его.
– Он был откровенен или по большей части себе на уме?
– Ему присуща была детскость взгляда на жизнь. Он как-то за новогодним столом пооткровенничал со мной: «Вот пришло время – всё. доступно, всё есть, чего так хотелось в детстве, но эти желания исчезли, потеряли привлекательность, и только любовь к природе никак не уходит, не ослабевает. В этом, может быть, и заключается весь мой писательский талант. Обо мне ведь, что говорят, – по-стариковски в бороду усмехнулся он, – «это тот, который пишет о природи, рассказывает об охоти, всё знает о погоди».
…В творчестве Пришвина и его друга, художника Никольского, по мнению моего сына Сергея, много общего: «Они одинаково горячо любили родную природу переславльскую. Тональность искусства одного и другого единая – мягкая лирика».
Когда осенью 1988 года умер Никольский, его отпевали в Новогиреевской церкви. Сергею Валентин Михайлович приходился крёстным отцом. Во время обряда отпевания, который вёл духовник Никольского, отец Николай, почитаемый, уважаемый в среде московской художественной и научной интеллигенции исповедник, Сергей, по его признанию, «во время службы встретился с душой усопшего». Молодой скульптор испытал сильное впечатление, близкое к истинному озарению. Это был ключ к обретению образа, не лишённого черт святости. В сущности, то был ключ к становлению творческой личности, обращенной к духовному началу. Сергей недавно в разговоре о Никольском признавался: «Композиция «Отпевание» сделана за несколько дней. Бронзовый отлив у меня, студента, был приобретён Третьяковской галереей. Саша Белашов и Маша Фаворская, повстречав меня в Криушкине, поздравили с удачей».
«Отпевание» – первая творческая работа Сергея и одно из лучших его произведений. Она о жизни внутреннего человека – во время той незабываемой службы в Новогиреевской церкви происходило таинство прощания с душой Валентина Никольского, открытого к миру и людям человека.
Обаяние, сила Никольского в том, что, несмотря на физическую ущербность, он проявлял любопытство ко всему сущему. Интересно было находиться рядом с ним, потому что его больше интересовали люди, а не он сам. С ним всегда было увлекательно. Валентин Михайлович делился радостями, ему доступными. Это было воспитанное им в себе качество. Человек либо ломается, либо находит способ существования «интересного, глубокого человека».
Достичь такого светлого состояния без веры невозможно Никольский всегда улыбался навстречу. Это давала ему вера. В нём столько было силы, что он заряжал тех, кто к нему приходил. Он положительную энергию щедро раздавал, и от этого у него её меньше не становилось.
Никольскому я обязан знакомством с Плещеевым озером. Он зазвал меня, только-только севшего за руль «москвича» (1964 год), прикатить к нему в гости в домик лесника, у которого он снимал угол. Домик стоял у самой воды, в сосновой молоденькой, сквозной рощице. Причал. Вёсельная, дощатая лодка. Первое соприкосновение с плещеевской водой, с озером запомнилось анекдотическим обилием рыбы в нём. Хозяин лодки, его сын-подросток и аз, грешный, влезли в неё с рыбацкими снастями. У моих коллег-рыболовов зачем-то по три удочки. Мне даже попеняли:
– Что же ты, рыбак-хренов, с одной снастью, да такой худой?
– А что? Заснёшь, поклёвки ожидаючи?
– А ничего! Увидишь – поймёшь.
Отойдя от берега метров на пятьдесят, спустили за борт камень, обвязанный верёвкой и притороченный к корме. Принялись разматывать удочки. Зачем они взяли по три удилища, так и не понял. Едва червяк на моём приспособлении для вылавливания плещеевской плотвы и подлещиков погрузился в воду, как поплавок пошёл вглубь. Над водой, когда потянул на себя леску, появилась мерная, сто пятидесятиграммовая плотвица. Она добровольно, не дергаясь, не выпрыгивая из воды, потянулась ко мне и плавно по воздуху перенеслась в лодку. И пошло, пошло – всё в том виде и образе. Забрасываю леску, поплевав на побывавшего во рту у рыбы, но сохранившего живость червяка, и через несколько секунд тяну на борт вторую плотвицу. Очевидно, наша лодка стояла среди несметного косяка плещеевской плотвы. Лески захватистых рыбаков то и дело проносили у меня над головой серебрящихся в лучах утреннего солнца плотвиц и подлещиков. Только успевай увёртываться, чтобы не получить пощёчину от подцепленной на крючок хозяйки Плещеева озера или, хуже того, не быть самому пойманным на крючок. Рыбины то и дело срывались и смачно плюхались в тёплую, ласковую воду – их родную стихию.
Никольский, сидя на берегу с этюдником, поглядывал на нас и хохотал – рыбалка напоминала эпизод кинокомедии.
Никогда, ни раньше ни позже, такой рыбалки не выпадало на мою долю. За какой-нибудь час трое рыбарей заполнили днище лодки обильным уловом – ступить было некуда, по щиколотку всюду скользкая плотва, колючие ерши и окуни, плоские подлещики. Внезапно, не сговариваясь, бросили это азартное занятие, подняли со дна камень, служивший якорем, тронулись к берегу и вскоре, шагнув за борт, оказался я на золотящемся песчаном пляже.
Стоя по щиколотку в тёплой прозрачной воде, стал вглядываться в далёкий противоположный берег. Рыбачьи лодки там, в прозрачном утреннем просторе северо-восточного прибрежья, настолько хорошо видны, что различимы забрасываемые и извлекаемые из глубины сети. Ближе к озёрной кромке по пояс в воде стояли люди. Ярко встала в памяти богатырская фигура бредущего в цепи ловящих неводом рыбу молодого князя Александра. Видение это подкинула память – ожившие кадры фильма Эйзенштейна «Александр Невский». Мог ли я предположить, что некая могучая влекущая сила в скором времени поднимет и вознесёт меня на прибрежные холмы, что виднелись на противоположном, северо-восточном берегу Плещеева озера, в деревню Криушкино, которая находится менее чем в версте от Александровой горы.
Кто создал выдающийся литературный памятник Древней Руси «Житие Александра Невского»? Ответ в самом «Житии»: содержание, идейная нагрузка, стилистика, лексика и как минимум две трети текста это подаваемая от третьего лица живая, подлинная речь самого Александра Невского. Конечно, «Житие» не автобиография, но в этом случае, выходит, сам вроде как не писал, а слышим, видим, ощутим с его разумом и плотью святой благоверный великий князь Александр Ярославович Невский.
Век живи, век учись – дураком умрёшь! Нехитрая поговорка, эдакое простодушное самобичевание в ней. С чего это сам себя в простофили записываю? С досады, думаю, это происходит. Мне вот что обидно: тридцать лет тому назад со старанием, благо была возможность (получал я как номенклатурный чиновник Госкомиздата информационный бюллетень, по которому всё, что твоей душе угодно из вышедших в стране дефицитных книг, можно было приобрести – благая для меня гримаса социализма.) Так вот, в начале восьмидесятых регулярно выкупал я книги серии «Памятники литературы Древней Руси». Необходимость погрузиться в литературные первоисточники, скажем XIII века, возникла только сейчас, осенью 2010 года, когда меня решительно покорила, захватила и унесла в тринадцатый век биография святого благоверного князя Александра Невского. Обидно, тридцать лет на полке моей домашней библиотеки лежал по-настоящему не востребованным сборник «Памятники литературы Древней Руси XIII века». Листал ненароком, но не читал, не вникал.
В некоторых случаях, оказалось, судил о древних литературных памятниках, как сущий варвар. Априори, верхоглядски полагал, что жития святых – это средневековые фантазии в духе клерикализма Встав перед необходимостью постижения с возможной полнотой биографии православного святого Александра Невского, княжеский терем которого стоял в тринадцатом веке на Александровой горе, неподалёку от моего дома в Криушкине, я стал вчитываться в текст «Жития Александра Невского».
Интерес к литературному памятнику тринадцатого века сильно подогревало то обстоятельство, что в самой близкой близости от деревни Криушкино, где я поселился в мае 1970-го года, находится Александрова гора. По некоторым косвенным данным, в те далёкие времена эпохи Александра Невского здесь, в нашей деревне, в дни княжеского присутствия на Ярилиной плеши, квартировала его дружина. Эта версия прочно засела в генетической памяти местного населения. Старики намекали, будто знают подробности, но болтать про то им не гоже. Известный артист, исполнитель заглавной роли в фильме «Журналист» Юрий Васильев, копая яму, чтобы посадить куст сирени перед фасадом дома, зацепил лопатой старое бревно – вглубь уходил сруб старого-престарого дома. Васильев долго маялся, извлекая из недр криушкинской земли полусгнившие венцы, полагая, что, может быть, это как раз то тёплое жилище, в коем отогревались после зимних походов воины княжеской дружины. Романтиком был, похожий богатырской статью на князя Александра, Юрий Васильев. Бог ему простит пылкое воображение патриота Криушкина. Впрочем, правда о древнем поселении не так уж глубоко зарыта.
Археолог Андрей Леонидович Никитин, разговаривавший со мной на картофельном поле бывшей усадьбы Ширшиковых, помнится, тогда высказался о древности нашей деревни так:
– Куда до Криушкина Москве! Стоит здесь крестьянское поселение десять, а то и больше веков. На месте вашего огорода, где вы сейчас копаете историческую землю под картошку, – усмехнулся специалист по древности, – чёрное пятно. Это тысячелетнее накопление гумуса, перегноя от ведения животноводства и вообще хозяйственной деятельности. Чёрное пятно ведётся от времени первоначальной поселения, от которого пошло и это, сегодняшнее, Криушкино, пошло, как побег от корня. Плотно садился человек на землю.
– Порядок домов (именуемый Кундыловкой), смотрящих на озеро окнами, стоит несколько ниже основной улицы деревни, в стороне от неё, и занимает место древнего славянского поселения, – продолжал разъяснять мне Никитин. – Почему Кундыловка, до сих пор допытаться не могу, никто не знает.
– Можно предположить на основе доморощенного лингвистического анализа, откуда это название взялось. Когда в двадцатых годах малоземельным здесь давали наделы, шорох недовольства, страха ползли по деревне:
– Куда это вас переселяют? – спрашивает любопытствующая женщина говорящего в нос, шепелявящего паренька.
– Кунда? Кунда? На Кундыловку, – выдохнул гундосый и ухмыльнулся щербатым ртом.
Вот такая версия происхождения Кундыловки.
– Кругом здесь история. Это никому другому, как мне, археологу, понятно. На Дикарихе счастливым образом открыл я неолитическую стоянку, с верху которой, даже, можно сказать, в сердцевине её, оказался в наличии ещё и весь доказательный комплекс более поздней, фатьяновской культуры. Стоит вам шагнуть за край картофельного поля, по откосам, в орешнике, увидите во множестве разрытые курганы, а там – рукой подать до Александровой горы.
Я тогда в разговоре на картофельном поле допытывался у Андрея Никитина:
– Александрова гора, потому что вовсе не легенда княжеский терем на её вершине?
– Первым раскопки на Александровой горе осуществил в середине XIX века археолог Савельев. Он описал три культурных слоя: самый нижний – курганный, с обычными для погребений находками пряжек, ножей, ключей, лепной керамики, куфических монет, чеканенных во второй половине IX–X веков. Второй слой – XIII–XV века. Остатки фундаментов княжеского терема, его хором, и монастырских построек. После кончины князя на горе возник монастырь святого благоверного князя Александра Ярославича Невского.
– Летописи молчат, возможно, не сохранились те страницы, в коих засвидетельствовано пребывание Александра Невского на буквально набитой свидетельствами её глубокой истории Александровой горе.
– Что есть, то есть. Действительно, набита. В археологическом отношении Александрова гора, в языческом прошлом Ярилина плешь, – уникум. Савельев не обратил внимания на самые ранние материалы – керамику и костяные изделия дьяковского первобытнообщинного времени. Дьяковская культура фиксируется в пределах второй половины 1-го тысячелетия до нашей эры, а верхний её предел – начало летописного времени.
– Монастырь в честь святого благоверного князя Александра разрушен в XVII веке, скорее всего в годы Смутного времени.
– В здешних местах рыскали, осаждая переславльские монастыри, Сапега и Казимир Лисовский. Польско-литовские «рыцари» явно возжелали разорением Александрова монастыря отомстить за былые поражения в противостоянии новгородскому князю.
В 1245 году толпы литовцев явились около Торжка и Бежицка; погнались было новоторжцы за литвою, но потерпели поражение, потеряли всех лошадей; потом новоторжцы вместе с тверичами и дмитровцами настигли и разбили литву под Торопцом, а князья их, однако, укрылись в городе. На другой день пришёл Александр с новгородцами, взял Торопец, отнял у литовцев весь плен и перебил князей их. Новгородские полки вернулись домой – Александр с одним двором своим погнался опять за литовцами, разбил их снова у озера Жизца, не оставил в живых ни одного человека. После этого он отправился в Витебск, откуда, взвавши сына, возвращался назад, как вдруг наткнулся опять на толпу литовцев возле Усвята: Александр ударил по неприятелям и снова разбил их. Обычно знают-помнят о святом-полководце, что он разбил шведов на Неве и псов-рыцарей на Чудском озере, Ледовое побоище, а за ним числится множество побед. Следует сказать, поражений он не знал. Европа преклонила колена перед полководческим гением князя Александра.
По давней подсказке Андрея Никитина и в стремлении привлечь в свой круг знаний как можно больше источников при постижении непостижимо величественной биографии святого князя Александра я открыл оранжево-белый том – «Памятники литературы Древней Руси, XIII век», и углубился в текст, раскрывающий внешние факты и подноготную разгрома шведов-рыцарей. Явно при жизни Александра этот рассказ был им, как бы мы сказали сегодня, надиктован. Теперь сознаю, понимаю, в советское время прочитать «Житие» так, как это удалось мне сделать сейчас, в 2010 году, не вышло бы!
«Стоило только руку протянуть и взять с полки том с литературными памятниками 13 века», – распалялся я, приступая к осознанию личности Александра Невского. Но вряд ли был бы тогда толк от моего чтения «Жития Александра Невского», поскольку время постижения идейного смысла деятельности святого благоверного князя Александра Невского тогда, в начале 80-х годов прошлого века, еще не приспело, о чем говорит комментарий академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва о литературных памятниках тринадцатого века, в котором основной, ведущий аспект литературоведческий. Статья названа «Литература трагического века России». Богословский аспект в комментариях Лихачёва вовсе отсутствует, будто в этом нет надобности, дескать, и так всё ясно, а скорее всего, Дмитрий Сергеевич не видит, не желает видеть идейной, религиозной направленности деятельности Александра Невского.
В первую голову на что обращает внимание в комментарии к «Житию Александра Невского» Лихачёв? На всё, что касается продолжения литературных традиций домонгольского периода: на светскость текста «Жития», на преемственность, даже подобие «Жизнеописания Даниила Галицкого» и «Жития Александра Невского», на серийность, что ли, зачатую книжником-монахом, митрополитом Кириллом, по Лихачёву, – предполагаемым автором как «Жизнеописания Даниила Галицкого», так и «Жития Александра Невского». Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал: «Светское «Жизнеописание Даниила Галицкого» послужило образцом для церковного «Жития Александра Невского». И именно это облегчало автору «Жития Александра Невского» задачу создания нового типа церковного жития святого-полководца. «Житие» было, по-видимому, составлено в том же кругу книжников, ибо «печатник» Даниила Галицкого Кирилл – стал митрополитом Кириллом, переехавшим на северо-восток и помогавшим Александру. Он сам, этот Кирилл, или кто-то из его окружения, составил оба жизнеописания – Даниила и Александра. В этом убеждает множество стилистических и лексических совпадений».
То ли Лихачёв находился в плену сделанного открытия («Жизнеописание Даниила Галицкого» и «Житие Александра Невского» написаны одним лицом – «книжником», митрополитом Кириллом), то ли не пожелал получать упреков от члена политбюро, партийного «праведника», богоборца Суслова, в увлечённости православной верой, но факт налицо – Лихачёв пропускает мимо глаз и молитву Александра в Святой Софии, в коей без труда различима религиозно-политическая платформа князя, собирающегося выступить и побить захватчиков-шведов, а впоследствии и всех иных ворогов из числа тех, что пытаются посягнуть на русскую землю.
Обратившись к структуре и содержанию «Жития Александра Невского», можно без чрезвычайных мыслительных усилий различить в этом блистательном литературном тексте следующие идеологические установления.
Зачин носит, естественно, панегирический характер, в нём Александр, следует заметить, по заслугам уподоблен и Самсону, и Иосифу Прекрасному, и Соломону, и римскому императору Веспасиану. В зачине кратко, ёмко сказано о происхождении князя: «сына Ярославова, внука Всеволода». В зачине наиважнейшее указание на смысл предпринимаемого автором труда: «И воистину, не без Божьего повеления было княжение его».
Буквально в первых строках «Жития Александра Невского» внятно заявлено автором: «Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать о святой, и честной, и славной жизни его». В дальнейшем автор делает ещё одно важное заявление: «Хотя и прост я умом, но все же начну, помолившись святой Богородице и уповая на помощь святого князя Александра».
В чём заключалась помощь святого князя Александра? А в том, что он продиктовал, наговорил, изложил как развернутый, уснащённый, то есть снабжённый деталями, подробностями, действующими историческими персонажами, зримый, сценарий Невской битвы как им задуманного и с Божьей помощью победоносно свершённого сражения.
Завершив повествование о Невской битве, которое необходимо воспроизвести здесь от начала до конца, делая необходимые замечания по тексту, автор-составитель «Жития», словно заверяя сие печатью, заключает:
«Все это слышал я от господина своего, великого князя Александра, и от иных, участвовавших в то время в этой битве».
Что же «надиктовал» Александр своему литзаписчику, «монаху-книжнику», конечно, сведующему в святописании и, естественно, не посмевшему бы ни за князя Александра придумывать (не смог бы!) прозрения, аксиомы и постулаты его религиозно-политической концепции спасения великорусской нации и зарождения великорусской государственности?
Внимание! Вы слышите авторизованную, благословлённую, произнесённую вслух при авторе-составителе «Жития» речь князя Александра. Речь от третьего лица, поскольку её пересказывает монах-книжник, «литзаписчик» «Жития Александра Невского».
«Один из именитых мужей Западной страны, из тех, что называют себя слугами Божьими, пришел, желая видеть зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, желая послушать мудрых речей его. Так и этот, по имени Андреан, повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел страны, народы и не видел такого, ни царя среди царей, ни князя среди князей».
Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. И пришёл в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».
Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошёл в церковь Святой Софии, и, упав на колени перед алтарём, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, сильный, Боже предвечный, сотворивший небо и землю и установивший предел народам, Ты повелел жить, не преступая чужих границ». И, припомнив слова пророка сказал: «Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне».
И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископом же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слёзы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе Бог – но в правде». Вспомнил песнотворца, который сказал: «Один с оружием, а другой на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовём; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиной, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу».
Рассказ от имени князя Александра сильно расходится с изложением истории Невской битвы без Божьего промысла, без христианской православной веры князя Александра в помощь и заступничество Господа Бога нашего.
Если бы не вера в заступничество Святой Троицы, как бы решился он с малой дружиной выступить и опрокинуть в невские воды шведский десант, высадившийся с армады кораблей?
В «Житии» далее сообщается нам, потомкам, гордящимся святым-воином Александром Невским:
«И выступил против них в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую к святым мученикам Борису и Глебу».
Религиозное сознание русских людей того времени не существовало, не могло обойтись без веры в Спасителя, Богородицу, Святую Троицу, святых мучеников Бориса и Глеба, упомянутых неспроста.
Если того, о чем далее повествуется в «Житии», не было на самом деле, то это обязано было привидиться князю Александру – так глубока, истинна, правомерна была его вера в заступничество небесных сил.