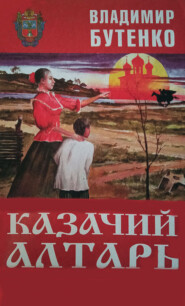скачать книгу бесплатно
Степан помог тетке Варваре Мигушихе раздеться. Она приблизилась к кровати мягкими шажками, отстранила Полину и положила свои костлявые ладони на голову Пашки, забормотала:
– Черный ворон крылом махнул. Жаба прискакала. Стрелу огненную пустила. Ударила та стрела в добра молодца. Свят, свят, свят! Ударила, да сломалася. Ангел божий летел, отвел ее. Боже правый, боже светлый, к тебе взываю, спаси и помилуй!
Ворожея оглянулась и повелительно молвила:
– Ждите на дворе. Я покличу.
Вернувшись в курень, хозяева увидели, что лицо у Пашки заметно порозовело, грудь вздымалась размеренней и сильней. А горбунья устало сидела на табурете, свесив руки.
– Ну, тетенька? – срывисто спросил Тихон Маркяныч.
Она только покачала головой, вздохнула:
– Бедная деточка. Как же били его!.. Слава богу, кости целы. До зорьки оставьте, не подходите к нему. А коли очнется и попросит пить, дайте настоя наговоренного.
Тетка Варвара повернулась к столу, развязала свой узелок и выставила кувшинец, повязанный белой косынкой. Медленно обратила к Степану длинное, узкое лицо, с косыми уголинами глаз:
– Помоги, милок, куфайку надеть. Ослабела доразу.
…Ночью Пашка пришел в себя.
Вымогался он долго, с большим трудом заново учился говорить. Мигушиха приходила через день, приносила травные снадобья. От приглашения к столу не отказывалась, ела охотно и помногу. Вела беседы о боге, о его милосердии. Выучила своего подопечного особой молитве. И как-то на масленицу, когда Пашка уже начал выходить во двор, он признался матери:
– Как окрепну, пойду к отцу Дмитрию. Хочу в монахи поступить. Дюже мне священное житие нравится…
– Сходи, сынок, сходи, – поддержала та, дивясь перемене в характере Пашки. Был забияка, а теперь – смиренник.
Ярая разгулялась весна. Выгнулись, сбросив снег, вербы. Раздробилась по лужицам щедрая поднебесная голубень. И хворь-тоска семнадцатилетнего Пашки канула вдогон метельным дням. Мало-помалу стал подсоблять по хозяйству, крепнуть. Закалился ветром, загорел, прижилась на губах улыбка, и – позабыл о намерении служить Господу.
В конце мая родила Полина, как и подобает казачке, первенца. Нарекли его Яковом. Радовался молодой папаша до октября. Ударил час идти в армию. Тихон Маркяныч лично купил ему мосластого дончака, казачью справу. Отвез сына в станицу Егорлыкскую на сборный пункт. Проводы были горестными, от Балтики до Черноморья завихрились смертельные дымы войны с Германией.
Через год оставил родительский курень и Павел. Надеялся, что сведут пути с братом в ущельях Карпат, да товарняк по воле командования повез новобранцев на другой край света, на турецкий фронт, к Тифлису.
Обоим служба выпала суровая. На третьем месяце боев отведал Степан венгерской пули. К счастью, рана оказалась несерьезной. Из минского госпиталя снова направили на фронт. Вскоре – второе ранение, в ногу. На этот раз проваляться в госпитале пришлось подольше. Долечиваться Степан отпросился домой, в родную станицу. А по возвращении в действующую армию подстерег случай. Офицер тайной службы, просматривая письмишки казаков, разлагаемых большевистской пропагандой, обратил внимание на каллиграфический почерк и грамотность младшего урядника Шаганова. Степана немедленно вызвали в штаб дивизии. Поручик, прощупав казака каверзными вопросами, убедился в его верноподданничестве и определил к себе писарем.
Павел в первом же бою полез под пули, единственный из всей сотни пробрался к вражеской позиции и был взят в плен. На вторые сутки не только сбежал, но и привел с собой «языка», турка-охранника. Храбрость Пашки дошла и до командира полка. Молодца перевели в особый разведывательный взвод. Ватага в нем сбилась отчаянная. Ночные вылазки казаков держали турок в страхе. Много раз Павел добровольно вызывался идти во вражеский тыл. Смуглый, черноволосый, переодетый в форму турецкого пехотинца, он ничем не отличался от неприятельских воинов. К тому же, способность к языкам позволила ему быстро освоить разговорную турецкую речь. И всякий раз, пройдя вдоль вражеских укреплений, разведчик приносил ценнейшие сведения. К медали «За храбрость» прибавился Георгиевский крест. На погоны так же как у брата, легли две лычки младшего урядника.
В отчем курене повстречались братья в декабре семнадцатого.
Степан вернулся со своей дивизией на родину, а Павел получил отпуск по ранению. Никогда прежде не ссорившиеся, они в первый же вечер чуть было не подрались. Узнав, что часть, в которой служил старший брат, попросту бросила фронт, Пашка стал его подкусывать. Опорожненная бутыль самогона тому способствовала.
– Не поверю я, что сам Каледин такой приказ дал! – горячился Павел, с укором глядя на брата. – Наветы!
– А я тебе правду толкую! От войскового атамана пришла депеша: сниматься и грузиться на эшелоны. Знаешь ты, герой, что наша область на военном положении?
– Знаю.
– А про то, что большевики скинули Временное правительство?
– Слыхивал.
– Потому и свел Каледин наши части на Дон, чтоб ощетиниться. Не позволить мужикам поснимать с нас казачьи шаровары! Эта самая распроклятая советская власть и до Ключевской достанет…
– Дон – Советам? – растерянно спросил Пашка.
– Так точно. А ты упрекаешь, что фронт оставили…
– Нет, я не попрекаю, – задыхаясь от негодования, возразил задира. – Я всех бы казаков и офицеров, кто допустил агитаторов к власти, под трибунал отдал! Продали, суки, веру! Отрекся от присяги – к стенке! Мы там, в горах, загибаем, а вы… шкуры свои спасали!
– Не ори, – осадил отец. – Чо ты на Степку навалился? Он за генерала не ответчик. Вон, полна станица служивыми. Покеда ты тут балакаешь, могет, и твоя часть снялася. Разброд в жизни небывалый…
– Огуляли их, батяня, агитаторы. Не идтить надо было домой, а поворачивать коней на Петроград! Головы брехунам скосить! И возвернуть царя Николая на престол… Было дело, у нас тоже завелся один краснобай. Листовки подкинул. Мол, долой командиров. Так мы ему «темную» учинили, опосля – суд казачий! Чтоб другим не было повадно!
– Ох, ты молодой да ранний, – усмехнулся Степан. – Коли нет терпежу, вступай добровольцем в армию Корнилова. Намедни Кожухов на сходе объявлял. Поглядим, какой ты вояка.
– Да уж не такой, как ты. Блох по бумажкам не разгонял…
Степан привстал, пьяно замахнулся. Но отец вовремя оттолкнул его, гаркнул:
– Ты чо? Цыц!
Глядя исподлобья, Пашка сидел не шелохнувшись. Но, заметив, что пальцы правой руки, зажавшие вилку, побелели от напряжения, Тихон Маркяныч рассвирепел:
– Ишь ты, буян! Пошто Степку обидел? Я вас зараз лбами стукну и раскидаю по углам, как кутят!.. А ну, проси у брата прощения!
Павел отшвырнул вилку и встал, протягивая руку Степану:
– Извиняй. Перелет вышел… Душа болем болит…
Не сразу, но все же и старший брат подал свою ладонь.
Дружба что камень, расколется – не срастишь. За три недели, которые гостил Павел, стычек между братьями больше не случалось. Внешне держались они миролюбиво, а душевная близость выветрилась враз, как дух цветущего абрикоса.
Наперекор всему и всем, Павел отправился в Новочеркасск. Матери объяснил, что необходимо показаться доктору, – колотая рана на спине мокрела, не рубцевалась. Отцу и брату сказал правду:
– Буду проситься в корниловское войско… Нюхом чую: поганое против нас удумали «большаки»! Вон, гутарят, самый Ростов захватили… В лапотный полон не пойду! Либо пан, либо пропал…
А Степан не решился оторваться от семьи. С головой ушел в хозяйские дела. Хвостиком бегал за ним Яшка. И уступчивый отец, сдавшись на уговоры мальчугана, позволил Полине пришить свои погоны на его кожушок. Вечерами подолгу рассказывал смышленому казачонку про Муромца-героя…
Жизнь, сорвавшись с узды, понеслась дурашливым скоком!
Казаки-бедняки, сбратавшись с иногородними, среди бела дня собрались на митинг, охаяли атамана и объявили себя новой властью. Самочинный станичный Совет вознамерился было перекроить казачьи паи. Тут и подоспел отряд есаула Бабкина. Троих бунтовщиков, в науку прочим, на майдане выпороли. Кожухов, вновь приняв от стариков насеку, пристыдил станичников за то, что не встали на его защиту.
В марте – опять перемена. Банда ростовских пролетариев безвозвратно увезла ключевского атамана, а править в станице посадила коммуниста Григоряна, заливщика галош с обувной фабрики. Ревком дружно поддержали отпетые наглецы и бездельники. Первым делом были разграблены дворы имущих казаков, в том числе и шагановский. В одну ночь арестовали и расстреляли всех семерых членов атаманского правления.
Через месяц Добровольческая армия Деникина вступила в южные донские степи, напрочь смела очаги советской власти.
И так, весь восемнадцатый год, качалась власть на Дону безостановочным маятником.
Война выдернула из Ключевской почти всех молодых казаков, разорила подворья. В упадок пришло и хозяйство Тихона Маркяныча. Кое-как перебивались с огорода да с поля. Предусмотрительному Степану, еще на службе запасшемуся фиктивной врачебной справкой, удавалось избегать волн мобилизации. Иной раз ему сутками приходилось прятаться в камышах…
От Павла – ни весточки.
Свалился он, как снег на голову, летом девятнадцатого. Стройный, черноусый, в ладно подогнанной черкеске синего цвета, перехваченной наборным пояском, бряцая шашкой в позолоченных ножнах, гость кинул дробь сапог по ступеням крыльца, порывисто вошел в горницу.
– Здорово дневали, станичники родные!
От его резкого голоса мать в растерянности уронила моток пряжи. Тихон Маркяныч невольно выпрямился, заметив на плечах сына серебряные погоны с голубым просветом и двумя звездочками.
– Панька! Да никак хорунжий? – недоверчиво выдохнул отец.
Бездомник поцеловал и бережно обнял мать, не сдержавшую слез, обхватился с батькой и братом. С усмешкой: «Цветешь и пахнешь?» – прикоснулся губами к щеке Полины. За ее спиной, насупясь, топтался кареглазый Яшка. Павел подхватил племянника под мышки и поднял до самого потолка:
– Ты что? Позабыл меня?
Тот кивнул.
– Вот те и раз… А я гостинца привез! Конька деревянного на колесиках. От самого Армавира при обозе хранил…
– Это же – дядечка Павлик! – подсказывала Полина своему вихрастому неулыбе. – Помнишь, на салазках катал?
– Ну, мы с ним еще потолкуем, – опустив Яшку на пол, пообещал веселый дядя. – До завтрева времени много… Степа, пожалуйста, помоги подводу разгрузить. Я прихватил кое-что…
То, что привез Павел, трудно было назвать просто подарками. На пару с его ординарцем Степан снял два мешка муки, баклагу с подсолнечным маслом, жбан с медом, новехонькую упряжь, седло, рулон сатина. Фурманку и одну из пристяжных хорунжий тоже оставил на отцовском базу.
Узнав, что меньшой завернул всего на денечек, Анастасия не спускала с него непросыхающих глаз. Тихон Маркяныч задавал вопросы о положении на фронте, но выражение его лица было отрешенным, думал он, видно, о другом. Павел скупо рассказал, как отходили корниловцы на Кубань, с каким трудом удалось растормошить домоседлых станичников. Теперь служил Павел в 3-й кубанской конной дивизии.
– То-то я и гляжу, что форма на тобе не донская, – заметил отец. – Должно, все перемешалось?
– Э, батя… У нас и ногайцы, и адыгейцы, и цыгане…
– Цы-га-нюки? – От изумления Тихон Маркяныч заморгал.
– Имеется один. По шорной части… Эх, взять бы Астрахань! Туда правимся. Долбанем краснозадых – будут пятками аж до Урала сверкать! А там их – колчаковцы загарнут! Дух у казаченек благой. Царицын, к слову говоря, уже освобожден. За счет пулеметных команд большевики держатся. Хорошо, среди наших генералов раздоров меньше. А то прошлой весной атаман Краснов отозвал донцов из Добровольческой армии. Я как раз тифом заболел. Остался… И не жалею.
Тихон Маркяныч вникал в слова новоявленного офицера, отмечая, что за полтора года Пашка возмужал и поумнел, даже разговаривал не по-станичному. Но жесткие интонации в голосе, беглый, обжигающий взгляд выказывали, что душа младшего сына налилась тяжелой, всепоглощающей злобой. На вопрос родителя: «Откуда съестные припасы?» – он усмехнулся и промолчал. И все же то, что его Панька – хорунжий, тешило отцовское тщеславие.
Мимоезжий гость поднялся ранним утром. И долго молился пред иконой Георгия Победоносца, потемневшей от древности. Потом похлебал материнского борща и засобирался. Прежнее боевое настроение явно его покинуло. Твердые пальцы дольше обычного застегивали пуговицы черкески, выстиранной и отглаженной матерью. Наконец, он подмигнул Яшке, поручкался с отцом и Степаном, кивнул на прощанье невестке. И, надев кубаночку из черного каракуля, почтительно-нежно обратился:
– Благослови, матушка, коня седлать.
Семьей стеснились на бонтике[2 - Бонтик (южн.) – верхняя площадка крыльца.]. Мать расплакалась, вцепилась в широкий рукав черкески своими жилистыми руками. Павел ласково прильнул к ней, поцеловал в лоб и сбежал на землю, хлопая ножнами по голенищу. Ординарец, кривоногий, бойкий казачок, подвел гнедого, с вызвездью, дончака. Мать трижды перекрестила воина. Он проверил подпругу, слегка подтянул ее. И толчком, едва касаясь носком стремени, взлетел в седло. Вновь оказавшись на одной высоте с крыльцом, дрогнувшим голосом сказал:
– Даст Христос, возвернусь…
Ординарец подбежал от распахнутых ворот и подал плеть. Конь разгонисто вынес хорунжего на улицу. Павел успел оглянуться…
До самой осени, до инистых утренников слухи в станицу доходили хорошие. Прижали большевиков к столице белокаменной! И хранил Тихон Маркяныч надежду, что встретит сына-удальца с победой.
Однако вдогон за осенними журавлями потянулись к югу и белогвардейские обозы. К Новому году через Ключевскую нескончаемым потоком двигались уже и боевые кавалерийские части. Пока размышляли Шагановы, трогаться или нет, февральским днем ворвался в станицу эскадрон буденновцев. Сгоряча были арестованы и тут же расстреляны казаки, служившие в Белой гвардии, несколько стариков. Степан и Тихон Маркяныч трое суток отсиживались в зарослях терновника в дальней балке…
Аукнулась гражданская война гулом боев, смертельными стонами, плачем сирот, а откликнулась повальным голодом. Сперва продотрядовцы выгребли у станичников закрома, а затем – неурожай двадцать первого года. Запустение и разруха пометили некогда богатую и красивейшую Ключевскую. Ее, и без того обезлюдевшую, стали покидать исконные жители.
Председатель местного Совета Арон Маскин, прослышав о грамотности Шаганова Степана и выяснив его непричастность к белоказакам, назначил рассудительного станичника своим секретарем. Деньжата да паек, получаемые Степаном, на первых порах спасали Шагановых. Пришлось и Тихону Маркянычу за скудный оклад пойти в погребальную команду. Целыми днями ездил он на подводе с напарником, стариком Кострюковым, по улицам. Грузили умерших с голоду на фурманку и закапывали в яру. В запертых изнутри куренях, коли никто не отзывался на стук, высаживали оконные рамы. Крюками на жердинах выволакивали смердящих мертвецов…
В одночасье слегла и преставилась Анастасия. Не снесло сердце невзгод и постоянной тоски по пропавшему без вести младшему сыну.
Проезжая мимо зияющих окон куреней, их кособоких крыш, мимо разграбленной и оскверненной церкви, с которой сбросили кресты и колокол, мысленно прощался Тихон Маркяныч с прежним, родным, не мог найти опоры в этой лихометной жизни…
Была станицей – стала хутором.
Лидия с сынишкой и Полина Васильевна вошли в летницу[3 - Летница (южн. каз.) – летняя кухня.] почти следом за стариком. Тихон Маркяныч, возившийся у вешалки, удивленно обернулся:
– Чо рыпнулись? То силком не вытягнешь, а то на вожжах не удержишь!.. Тоды управляйтесь, а я на улицу пойду. Могет, привалило кого…
Полина Васильевна с внуком принялись растапливать надворную печуру, тревожно поглядывая на небо, а Лидия заторопилась на огород поливать помидоры. Напротив соседского погреба невольно приостановилась: казачья мелодия, любушка светлая, пробивалась из-под земли наперекор гулу канонады и всем страхам.
…Ды, а на сердце моем,
Ой, пробудилась лю-убовь
– гулко звенел голос Таисии Дагаевой.
Пробудилась любовь мо-олода-ая!
– тут же подхватила и долго тянула на верхнем голосовом пределе ее мать, тетка Устинья.
Снова с неотступной тревогой подумала Лидия о муже. За две недели, прошедшие после получения его письма, с Яковом все могло случиться. Теперь же с приближением немцев обрывалась последняя ниточка, связующая с любимым. Вспомнилось, как целых два месяца – ноябрь и декабрь – от Яши не было вестей. Помрачнел тогда Тихон Маркяныч, у свекрови участились сердечные приступы, а Степан Тихонович день-деньской пропадал в полеводческой бригаде, искал забвения в работе. Лидия держалась, как могла, отгоняла дурные мысли. А по ночам, закусив губы, мочила подушку слезами. Дни делились на две половинки: до приезда почтальона и после. Задолго до начала вечерней дойки она уходила на ферму, не говоря домашним, что час-другой простаивает у околицы, поджидает Алешку Кривянова, везущего почту. Его пегую кобыленку она углядывала издали с замиранием сердца. И все казалось, что подросток-калека намеренно придерживает свою лошадь, чтобы оттянуть вручение ей казенного конвертика. Не сдерживаясь, она кричала навстречу:
– Нам есть что-нибудь?
– Районная газетка, – сочувственно отзывался паренек.
– Завези домой, а то выпачкаю, – роняла Лидия и сворачивала к тропе, ведущей на колхозный баз.
Тот памятный день выдался вьюжным. Вынырнув из снежной коловерти, выбеленная Алешкина коняга появилась внезапно близко. И тулуп его весь был закидан мельчайшей мучицей. Лидия не торопилась спрашивать до полусмерти закоченевшего почтальона. Просто стояла и смотрела. Подросток придержал лошадку и сиплым от мороза голоском кукарекнул:
– Есть! Письмо вам!..
Лидия выхватила его негнущимися пальцами. И – как в пропасть – опустила глаза. Почерк был Яшин. Чтобы убедиться, она поднесла треугольник к глазам, вдохнула сладкий душок отсыревшей бумаги и – разревелась…
И вот – теперь война докатилась до хутора!
После прохлады подземелья благостным казалось вечернее тепло, его ласковость. Беспечно стрекотали в прибрежных бурьянах кузнечики. Солнце, наполовину заслоненное макушкой дальнего бугра, крыло оранжевыми лучами верхи деревьев. А все, что виднелось в тенистой речной долине: красноталы, камыши, плесы, крайний ряд куреней, – обрело знакомую четкость. До слуха Лидии донеслись невнятные тревожные голоса баб. Она замерла, но так и не смогла разобрать слов. От этой неопределенности на душе стало еще тяжелей. Обыденный хуторской мир воспринимался уже иначе, нежели сегодня утром. Он надломился. И никак, и ничем нельзя было остановить той страшной перемены в жизни, которую нес фронт…
2
В сумерки вернулась Лидия во двор с огорода, до устали натрудив плечи полными ведрами (поливная делянка была изрядной). Однако еще не успела выложить собранные помидоры, как вдоль улицы – заполошный перестук копыт. Напротив шагановских ворот Иван Наумцев осадил коня и возмущенно крикнул:
– Лидка! Кума! Хвитинов твоей матери… Почему не на ферме?