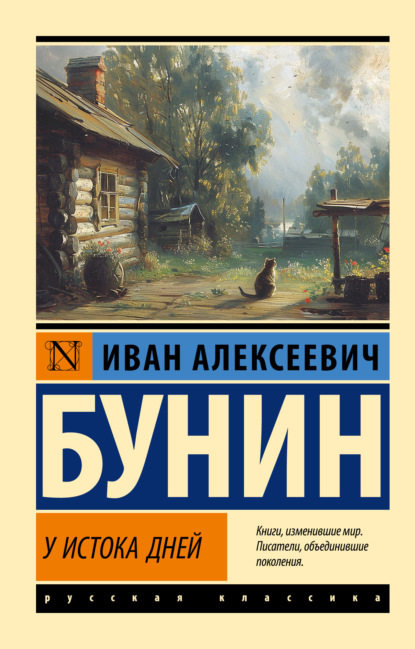
Полная версия:
У истока дней
Боже мой, какой переполох в доме произвел приезд Алексея Михайловича! Из девичьей ринулась Катерина, сгребла в объятия все убогие шубы и шапки гостей и, рискуя рухнуться в коридоре от удара, переволокла их в девичью и бросила на полу; Софья Ивановна тоже бросилась в спальню, к комоду, выдернула ящик, схватила все лучшие салфетки, прибежала в зал, посхватала все старые и моментально разбросала новые на их места, сшвырнула с фортепьяно кошку, так что та, треснувшись об пол, несколько минут сидела как остолбенелая… Затем опять бросилась в переднюю и велела достать из погреба коньяк и маринованную осетрину… В кабинете тоже все повстали с мест и заговорили разом.
– Это Коротаев? – бормотал Уля. – Он, говорят, богатый!
– Коротаев? – быстро спрашивал улан. – Не Якова Семеновича сын?
– Троечка-то какова! – повторял дьякон.
Василий, которому был отдан приказ «оставить холопскую привычку подносить во весь карьер к крыльцу», въезжал во двор медленно и, сдерживая пристяжных, вычурно покрикивал:
– Ше-елишь! Баловай![4]
Капитон Николаевич сбежал с крыльца и, почему-то поспешно расправляя бакенбарды, несколько раз поклонился и радушно сказал:
– Милости просим! милости просим!
Коротаев сдержанно поклонился, сдержанно сказал: «Поздравляю», – и пошел в дом.
Когда он стал раздеваться, остальные гости вышли из кабинета и остановились около него.
– Простите, пожалуйста, – закартавил Коротаев, – я, знаете, еду в Елец по делу… так что костюм у меня дорожный.
– Помилуйте! – воскликнул Капитон Николаевич.
– Вот глупости какие! – восторженно подхватил Уля. – Мы церемоний не любим…
– Сущие-с пустяки… – начал было дьякон, но покраснел и откашлялся.
Один Бебутов стоял гордо и, покачивая головою, смотрел равнодушно.
Коротаев слегка поклонился всем и вошел в кабинет. Все уселись и замерли как будто в ожидании чего-то. Коротаев оглянулся, едва не рассмеялся и поспешил опять заметить, что он едет в Елец и что костюм на нем дорожный.
Но дорожного в его костюме было мало. На нем были лаковые сапоги, синие шаровары и синяя тужурка со сборками на талии. И костюм этот, должен я сознаться, был очень недурен на нем. Конечно, на Уле он сидел бы не так красиво, но Коротаев был далеко не Уля. Это был плотный, хорошо сложенный мужчина – «одно из славных русских лиц».
Лицо немного полное, упитанное; черты лица правильные, бородка а lа Буланже и губки сердечком. Прибавьте к этому нежные, белые руки и перстень с крупной бирюзой на правом мизинце – и вы поймете, почему Коротаев еще до сих пор производит в любительских спектаклях неотразимое впечатление, которому еще способствовало то, что держал он себя относительно барышень довольно равнодушно. Видно было, что это – мужчина, успокоившийся в сознании своей красоты и безусловной порядочности.
При всем своем желании держаться у Капитона Николаевича попроще, он не мог не фатить, конечно, сдержанно, невольно, фатить только потому, что «привычка – вторая натура».
Он заговорил… и заговорил очень недурно. Коснулся деревенской скуки, упомянул, что озимые плохи и что на земском заседании он думает поставить это на вид, свел разговор на охоту и… слегка зевнул. Потом левой рукой, двумя пальчиками, достал портсигар из бокового кармана, постучал об этот портсигар папиросой, закурил, слегка помахал спичкой и деликатно бросил в пепельницу.
В это время передняя сразу наполнилась смехом и шумом. Приехали с матерью две сестрицы Ульяна Ивановича, еще одна девица, которую Яков Савельевич звал «шавочкою», и два соседа-помещика – Савич, худой и серьезный старик, с седыми, короткими волосами, обладатель сорока пяти десятин, и Баскаков, молодой неглупый человек, очень деловитый хозяин, одетый как железнодорожный рабочий.
Барышни явились очень веселою компаниею, но, глянув в кабинет и увидев там какого-то незнакомого господина, не раздеваясь, на цыпочках прошмыгнули на половину Софьи Ивановны. Старуха, их мать, очень любопытно заглянула в кабинет и тоже сочла за лучшее ретироваться к Софье Ивановне.
Едва успел Капитон Николаевич познакомить Савича и Баскакова с Коротаевым, вошел еще помещик, Телегин, громадный мужчина, в поддевке, длинных сапогах, с кинжалом на поясе.
– А я с охоты, – заговорил он, входя в кабинет и не обращая внимания на Коротаева, – затравить ничего не затравил, но подрался.
– Как подрался? – воскликнул Капитон Николаевич.
– Очень просто… за милую душу… Да как же, еду я по зеленям, смотрю – староста Лопатинский едет навстречу. «По какому такому праву по зеленям? Барин велели ловить!» Каково? Ловить. Как сгреб я его – до земли не допускал!
– Ха-ха! – закатился Уля. – У тебя, брат, мертвая хватка.
– Да уж, брат, сгребу, так не вырвешься.
– Ну, не всякого! – раздался вдруг голос Ивана Ивановича. – Вот попробуй-ка, сгреби меня!.. Здравствуй, – заключил он, понижая голос, потому что Капитон Николаевич показал ему глазами на Коротаева.
Иван Иванович непринужденно расшаркался с последним и вдруг брякнул:
– Жомини да Жомини, а об водке ни полслова. Капитон! Велика давать пирог!
– Пожалуйте, господа! – там уже готово. – Скромно сказал Капитон Николаевич. – Чем бог послал…
Все встали и шумно двинулись в залу. Коротаев тоже пошел.
Но – увы! – за закуской произошло… «черт знает что»!..
Когда мужчины вошли в залу, там уже были – Марья Львовна, мать Ули, дряблая старуха, со смирением старой сплетницы на лице и удивительною глупостью в пристальном взгляде, барышни Коноплянниковы с завитыми головами, «шавочка» и около них Софья Ивановна, которая рассказывала им, что у нее, «бог знает с чего, раскинулись вереда на левой ноге» и что лавочник советует собрать по листу всех деревьев, отварить их и выкупаться… (Читатель, конечно, подумал сейчас, что я, говоря про такие гадости, пересаливаю. Но смею его уверить, что прудковские барыни – народ далеко не «тонный».)
Не стану описывать, как неловко вышла сцена знакомства дам с Коротаевым, как шушукались и хохотали барышни, стараясь казаться развязными, как все столпились у стола с тарелками и ждали очереди навалить на них пирога, делая при этом совсем рассеянный вид, словно их и не интересовала закуска; не стану описывать, как морщился Коротаев, когда началось обычное в Прудках угощение, то есть неотвязчивое приставанье «выпить», чуть не подтаскивание под руку к столу и т. д. Начну с того момента, когда в залу вошел уже несколько выпивший Яков Савельевич. Вошел он, очень благодушно пощипывая усики, и неловко поклонился всей компании.
– А вот и наш «ученый муж»! – воскликнул в это время Уля, который любил иногда поострить.
Яков Савельевич глянул на него и ничего не сказал. Он налил себе рюмку водки и потянулся взять кусок селедки. Но по близорукости низко наклонился над столом, повалил бутылку портвейна, хотел ее подхватить и уронил на пол коробку сардин.
– Медвежья ловкость! – крикнул Уля и бросился поднимать.
Иван Иванович покатился со смеху.
– Стара стала – слаба стала! – воскликнул он весело.
Коротаев улыбнулся, и все, увидев это, тоже прыснули со смеху.
Яков Савельевич вдруг швырнул рюмку на стол и остановился, глядя недоумевающими глазами.
– Ну, – сказал он, – и прежде я вас знал за скотов, но этого все-таки не ожидал.
– Яков Савельевич, – сказал, поднимаясь, Капитон Николаевич, – прошу вас не ругаться. Вы не в кабаке. Извините, пожалуйста, – обратился он к Коротаеву.
– Что? не в кабаке? – завопил Яков Савельевич, бледнея. – Как не в кабаке? Это, я вижу, вы вот перед ним хотите себя показать джентльменами (он кивнул на Коротаева), – так он, вероятно, слыхал про вас…
– Pardon, – возразил Коротаев, – я ничего дурного не слыхал.
Яков Савельевич развел руками.
– Vous êtes un noble et généreux coeur![5] – сказал он насмешливо. – Но позвольте не поверить…
– Яков Савельевич! – начал опять Капитон Николаевич.
– Почему же? – перебил Коротаев.
– А вот-с почему, – злорадно возразил Яков Савельевич. – Вам угодно выслушать меня?
Яков Савельевич совсем обозлился и подошел вплотную к Коротаеву.
– Пожалуйста! – сказал тот.
– Позвольте вас спросить, – начал Яков Савельевич насмешливо-торжественным тоном, – неужели вы не замечаете среди этой честной компании вот этого бульдога (он показал на Ивана Ивановича), неужели в Ельце вы не слыхали ни разу от извозчиков, что вот, мол, нынче ночью в известном «институте» Иван Иванович с каким-нибудь шалопаем танцевали кадриль, затеяли драку пивными бутылками, перебили все окна и т. д.? Неужели, my dear sir[6], это не кабацкая личность? Нуте-с?
Яков Савельевич совсем нагнулся к лицу Коротаева; глаза у него бегали, руки беспорядочно размахивались.
Иван Иванович, Уля и Капитон Николаевич окружили Якова Савельевича.
– Ну-ка, молодой человек! Нельзя ли вас попросить прогуляться? – сказал Иван Иванович, хватая разгорячившегося Якова Савельевича за руку.
– Навынос его! – твердил Уля, захлебываясь от какого-то злобного восторга и в то же время замирая от страха получить в физиономию.
– Яков Савельевич! – вежливо упрашивал Капитон Николаевич.
– Господа, позвольте! – громко сказал Коротаев. – Это невозможная сцена!.. Успокойтесь, пожалуйста, – мягко сказал он Якову Савельевичу.
Это успокоение странно подействовало на последнего; он посмотрел на всех и вдруг сказал совершенно спокойно:
– Как вам нравится такая сцена? Но я спокоен-с…
Он помолчал и прибавил:
– Только я докончу! Я не буду ругаться. Многоуважаемый Капитон Николаевич! Нижайше прошу вас об одном: позвольте сказать маленькую речь. Может быть, она вам будет обидна, но… дослушайте… а тогда поступайте, как вам будет приятнее…
– Он немного тронут, – шепнул Коротаев Капитону Николаевичу.
Это всех успокоило. Капитон Николаевич улыбнулся и сказал:
– Извольте-с!
– Интересно послушать, – прибавил Уля.
– Понимаю! – сказал Яков Савельевич. – Теперь вы уже приготовились как бы «комедь» смотреть. Хорошо-с… это и понятно…
Хмель его начал одолевать. Глаза его потухли, и он уже говорил как во сне:
– Это и понятно… Вы все неучи.
– Конечно! Еще бы! – подхватил Уля насмешливо.
– Да, неучи. Вот господин Баскаков: он вышел из третьего класса гимназии… и только… Но он еще лучше вас: это – обыкновенный, простой степной землевладелец, загрубевший в бедности… Затем, Ульян Иванович: этот кончил курс, но, благодаря опять-таки бедности… и глупости феноменальной, навек остался на своем хуторе, отупел, омужичился… Ведь ты дома из полушубка не вылезаешь, смалишь махорку и целую зиму ограничиваешь свои экскурсии прогулками до гумна… и только!.. Отупел, повторяю, до того, что даже календаря Гатцука не видал в глаза пять лет… Ну, про этих девчонок – и говорить нечего… Эти и читать едва умеют… Всех вас засосало это болото и роковая цифра вашего землевладения – сорок восемь десятин… И празднества-то ваши заключаются только в обжорстве и пьянстве…
Все улыбались и молчали. Яков Савельевич посмотрел на всех сонным взглядом и вдруг, круто повернувшись, зашагал вон.
– Каков гусь? – воскликнул Уля.
– Странный старичок, – сказал Коротаев и подумал: «А ведь он правду говорил… Роковая цифра: сорок восемь!..»
Через полчаса он уехал, несмотря на мольбы хозяина и остальных гостей.
День прошел, по обыкновению, за едою. Когда же обед и чай были кончены и зажгли огни, на столе опять появилась закуска. Улан, Баскаков, дьякон и немного охмелевший хозяин «молотили пульку», или, проще сказать, играли в преферанс в гостиной. Три барышни ходили под руку по залу и без умолку хохотали, потому что приехавший новый кавалер, сынок богатого купца-помещика Котлова, ходил перед ними задом и нес самую невозможную чепуху.
Он был выпивши и потому ломался, разводил руками и говорил:
– Не-эт-с, позвольте! Смех тут ни при чем. Такие миленькие барышни и вдруг – ха-ха!.. А все Лидия Ивановна… все она!.. От нее все козни… Ну погодите, приезжайте вы к нам… Я вас…
Он подумал и вдруг брякнул:
– Я вас… в арепьи[7] закатаю!
И, что называется, умер со смеху…
В кабинете раздавался неистовый хохот Ули и Телегина, который был уже совсем пьян и лежал без поддевки; Иван Иванович рассказывал им новые анекдоты самого скабрезного содержания.
Наконец купеческий сынок организовал кадриль. Из кабинета появились Уля с гитарой и Телегин с «гармоньей». Иван Иванович и организатор были визави.
– «Чижик, чижик, где ты был?..» – начал басом Телегин и бойко заиграл «первую фигуру».
Уля притоптывал ногой, покачивался, щипал струны, гитара звенела в лад с гармоникой… Танцы начались. Иван Иванович скользил на своих лыжах-штиблетах, ухарски вертел даму, купеческий сынок неистово топал…
– Вторую! – заорал наконец Иван Иванович.
– «И шумит, и гудит», – хватили музыканты.
Et tonat!Et sonat!Et fluvium coelum dat![8] —подпевал из гостиной дьякон…
– На пятую – «барыню»! – орет Иван Иванович.
Музыканты сразу перешли на лихую «барыню»:
Ах, дяденька!Люби тетеньку!Она ходит-семенит,Колокольчиком звенит!И под забористый речитатив зал «заходил ходором» от бешеной «пятой фигуры». Иван Иванович, закинув голову назад, как коренник в тройке, несется на купеческого сынка, тот плывет в сторону, гулко дробит по полу сапогами, взвизгивает фальцетом:
Ах, чайнички,Самоварнички!Полюбили молодуЦеловальнички!Ох-ох-ох-ох!– Делай! ощипись! – вскрикивает вдруг Капитон Николаевич, выскакивая из гостиной с гитарой в руках и с закинутой назад головою…
Ах, бырыня буки-бу!Будто я тебя трясу?Тебя черти трясут,На меня славу кладут!Наконец все стихло. Все были в поту, все тяжело отдувались…
– Господа, петь, петь становитесь, – приглашал Уля.
Все столпились в кучу.
Я вечор в лужках гуля-яла!.. —затянул он, делая рот ижицей.
Грусть хотела разогнать! —подхватил Иван Иванович басом.
Вдруг около поющих появился Яков Савельевич. Он, как страстный любитель пения, не стерпел и явился в залу. Утренняя сцена была забыта; она была уже не первая…
– А вот и дирижер! – раздались возгласы.
Яков Савельевич сейчас же отодвинул Улю, взял гитару и начал «дирижировать», то есть размахивать в такт рукою.
Но вдруг он обернулся: Иван Иванович, стоявший сзади, скорчил гримасу и сделал над его головой рожки… Все так и грянули дружным смехом.
Но в тот же момент Яков Савельевич схватил гитару за гриф и взмахнул ею в воздухе… Она мелькнула и с треском рухнула на голову Ивана Ивановича…
…Через минуту Яков Савельевич был взят «навынос», и весь дом очутился около Ивана Ивановича, примачивая ему голову уксусом и холодными компрессами.
Федосевна
I
На большой дороге, в полуверсте от которой начинается деревня, в сумерки сидела старуха. Была глубокая осень, стояли последние холодные грязи, и старый прохожий человек, сидящий в такую пору в поле, производил немного странное впечатление.
Вероятно, это почувствовал и Гришка Матюхин, который проезжал домой со станции, куда возили овес от баскаковского барина.
По крайней мере, он приподнялся в телеге, сдвинул на затылок картуз и долго глядел на старуху, а поравнявшись с межою, на которой она смиренно сидела, положив около себя палку и мешок, не вытерпел и крикнул:
– Тетка Федосевна!
Федосевна встрепенулась и боязливо глянула на Гришку.
– Это ты, что ль? – повторил он, улыбаясь.
– Я, батюшка, я, – поспешила ответить Федосевна.
– Чтой-то ты, аль перепелов ловишь?
– Нет, я так… уморилась… я пойду.
И Федосевна стала собираться. Завязала мешок, бережно подняла вывалившуюся горбушку хлеба, укусила от нее и опять спрятала за пазуху; потом взяла палку и побрела по меже к деревне.
«Озорники ребята! – думала она. – Ишь нашел кого обидеть – старуху старую!.. Перепелов… Ровесница я ему!»
…Темнело, и сбоку несло резким холодом. Оттого, что набегали белесоватые тучи, по полям сгущались тени, неровно и бледно-сумрачно. Не то отсталый, запоздавший грач, не то ворон снялся с межи и боком, низко пронесся над пашнями… И вдруг в воздухе понеслись, замелькали первые снежинки. Через пашни, по кочкам стало сыпать и заметать мелкою белою пылью. Все забелело, а лесочки почернели, выделились среди них, отодвинулись дальше и как-то сразу оказались одинокими и покинутыми в чистом поле…
«Зазимок пришел», – подумала Федосевна.
Эта мысль заставила ее почувствовать нечто вроде страха перед этою первою вьюгою и холодом побелевших пашен. А ну как Осип не примет ее к себе? Куда деваться?
«Озорной народ стал», – повторила она, вспоминая и насмешку Гришки, и мальчишек, которые иногда для смеха натравливали на нее собак, и характер Осипа… На глазах у нее навертывались слезы…
Да и было отчего заплакать. Немало пришлось вытерпеть ей.
Уже давно она была на вдовьем положении. Лет шесть тому назад, как-то весною, Лукьян пошел на вал около господского сада нарезать на плетушку лозиновых прутиков и положил в карман полушубка хлебный нож. Вечер был темный – хоть глаз выколи, сырой, и в логу в мартовском густом тумане шумела полая вода. Еле добрался Лукьян до валу; нарезал прутьев, связал их оборочкою, посидел, покурил и пошел обратно. Но вдруг со двора поднялся лай и вой господских гончих. Кто-то уже близко шлепал по грязи и посвистывал, подразнивая собак. Лукьян сбежал с вала, хотел прыгнуть через ров и поскользнулся… Нож прохватил ему полушубок и почти весь врезался в левый бок.
Помер Лукьян, и «мир» взял у Федосевны надел. Оставил ей только избу и огород. В избе в одном углу жил сапожник, переселившийся из Каменки, и платил за квартиру двадцать копеек в месяц; в другом углу жила сама Федосевна с двумя своими девками – Аксютою и Парашкою. Огород снимал сосед Демочка, холостой женоподобный мужик, который сам ткал «кросна», стирал на пруде белье и пел высоким фальцетом: «Я вечор в лужках гуляла», за что и пользовался в деревне самыми смешными прозвищами.
Только этими доходами да поденщиною и жила Федосевна. Правда, когда Парашка вышла в Каменку замуж, стало хуже – приходилось изредка ходить побираться, но все-таки можно было кое-как жить. Но приходила голодовка и очень рано посетила Федосевну. Худощавая, «востроносая» Аксютка не вынесла даже и двух месяцев еды землянисто-зеленоватого, липкого хлеба, заболела и, может быть, от этого, а может быть, от чего другого, померла на пятой неделе поста… Федосевна так оторопела от горя, что стала неузнаваема в несколько дней.
Кормиться стало нечем. Сапожник ушел в село, а огород Демочка по такому времени не снял. Парашкиному мужу было бы не грех приютить почти совсем слепую, слабую, слезливую старуху, но он был не такой человек, чтобы кормить лишний рот. Приходилось побираться. И Федосевна пошла. Заперла свою хибарку и пошла куда глаза глядят.
Летом было совсем хорошо: идешь, уморишься, – можно лечь и заснуть на первой меже; лапти были еще совсем новые, а на кресте завязано восемь целковых. Больше Федосевна не успела скопить; думала на старости лет хоть похорониться как люди, купить «покрывало», сшить рубаху. Но пришлось все деньги, копеечку за копеечкою, на хлеб и на лук истратить.
Осенью же стало плохо: холод, лапти растрепались, деньги вышли, подавать «скорочки» перестали. А тут еще удушье; вот как иногда схватит кашель, кажется – душа выходит.
Долгая жизнь с беспечальным девичеством, с тяжелым замужеством, с семейными радостями и печалями осталась где-то далеко-далеко… Федосевна еле ходила.
Теперь она добиралась до Каменки. В Каменке жила Парашка.
«Не прогонит, – думала Федосевна, – хоть недельку погощу. Небось ребятишки-то большие стали… Деточки немысленные!..»
И надежда повидать родимых ребятишек, побыть в теплой избе, съесть мягкого хлебца заставляла ее идти поспешнее… А когда Каменка зачернела совсем близко, у Федосевны так застучало сердце, что она едва держала мешок и ежеминутно поскальзывалась по грязи… Вот и пруд, большой, размытый водою ров у спуска, а за ним на горке изба Парашки… Около избы кружилась овца, а за нею бегала баба, выкрикивая скороговоркою:
– Кытя-кытя-кытя-кытя!.. Федька, забеги справа!
– Постой, я подмогу! – с дрогнувшею улыбкой слабо крикнула Федосевна.
II
…Загасили огонь и давно спали. Тишина теплой темной избы словно дышала тихим дыханием спящих и легким храпом. Не спала только она одна.
Кашель совсем замучил ее – всю грудь и голову отбил. Дышать было страшно неловко и тяжело, тело горело, ноги – как во льду. По временам Федосевне становилось так страшно – неприятно, что она изнемогала, забывалась и, когда открывала глаза, долго не могла понять, где она. Темная изба казалась ей какою-то низкою могилою, погребом…
Но на душе у старухи было тепло. Парашка – ласкова, Осип – ничего, даже поздоровался и все смеялся одними глазами, когда она за ужином согрелась, повеселела и начала рассказывать, что она видела и слышала… Можно, значит, отдохнуть, погостить… Только ребятишки не шли. Боятся.
«Немысленные!» – думала Федосевна с грустною нежностью про детей и про Парашку, которую она как-то особенно любила теперь, и в темноте утирала слезы, пока кашель не заставлял ее забывать все на свете.
Кашель ее разбудил, наконец, Осипа. Он был мужик суровый и насмешливый, и потому, проснувшись, он первым делом пробормотал:
– Однакось! Здорово выделывает!
Федосевна притихла и изо всех сил стала сдерживать приступы кашля. Но, когда Осип стал уже задремывать, не выдержала и так раскашлялась со стоном и хрипом, что разбудила и Парашку. Почесываясь под мышками, она заворочалась и пробормотала:
– Что же это, господи, спать-то не дают!
Осип молча раскуривал трубку. Увидав свет от серника, Федосевна еще более напряглась, чтобы не кашлять, боязливо ждала и не хотела услышать чего-нибудь нехорошего.
Но Осип сейчас же начал:
– Ну, бабка! И чего не спит? Сидит, как шишига ночная!
– Ну, чего брешешь? – сказала Парашка недовольным шепотом.
– Жалеешь? – возразил Осип, сплевывая с трубки.
Парашка молчала.
– Навязали осел на шею, – продолжал Осип как бы сам с собою. – Харчевито по нонешнему времени… Да еще и бабка-то, говорят, блажная, не приведи господи!..
– Да что ты привязался к ней? – опять сказала Парашка.
– А то что же… Вот как помрет, – она ведь мышей не топчет, – так увидишь!
– Помрет – похороним.
– Похороним… Еще судьбище заведешь.
– Что ж, по-твоему, делать?
Осип помолчал и пососал трубку, пыхтя и сопя носом.
– Мне что ж… – сказал он. – А только бабке этой самой надо – с Богом.
– У, глаза твои непутевые! – особенно выразительно и зло прошептала Парашка, так что у нее вышло: «У глазат твои непутевые».
Осип повернулся и замолк.
Все опять затихло, но Федосевна сидела как пришибленная… Уже долго погодя она через силу, как во сне, слезла с печки, подошла к ведру и долго с жадностью пила вонючую прудовую воду… Возвратившись на печку, она тихо-тихо плакала и не удерживала слез…
…На рассвете, когда она только что забылась, ее разбудила Парашка. Она возилась у печки и говорила притворно-весело и ласково:
– Мамушка! Будя спать-то! Вставай, я тебе лепешку спекла на дорожку.
– На дорожку? – почти бессознательно переспросила Федосевна. – Да я было, дочка…
– Прихлебнешь с кваском, да и пойдешь сытая…
Федосевна трясущимися руками завязала мешочек, торопливо слезла с печи и пошла к двери.
– Куда ж ты! Ты хоть лепешку-то! – крикнула ей вслед Парашка.
Но Федосевна уже брела по деревне, плакала и отбивалась от собак, сама не зная, куда идет.
* * *Дня через три или четыре, в холодный вечер, помещик Чибисов наехал с охотою на мертвое тело. У дороги, на картофельной ботве, лежала старуха. Резкий ветер шуршал ботвою, а дождь моросил и моросил на ее лохмотья и пустой мешок…
Кастрюк
I
Внезапно выскочив из-за крайней избы, с полевой дороги, во всю прыть маленьких лошадок, летели по деревенской улице барчуки из Залесного. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались вперегонки, и ветер пузырями надувал на их спинах ситцевые рубашки. Теленок шарахнулся от них в сенцы, куры и впереди них петух, приседая к земле, неслись куда глаза глядят. Но отчаяннее всех улепетывала по деревенской улице маленькая белоголовая девочка в одной рубашонке. Обезумев от страха, она вскочила на огороды, несколько раз с размаху упала по дороге и вдруг увидала в воротах риги дедушку. С звонким криком бросилась она в его колени.
– Что ты, что ты, дурочка? – закричал и дед, ловя ее за рубашку.
– Барчуки… на жеребцах! – захлебываясь от слез, едва могла выговорить внучка.
Дед усадил ее на колени, начал уговаривать.
Внучка скоро затихла и, изредка всхлипывая, обиженным вздрагивающим голосом начала рассказывать, как было дело.



