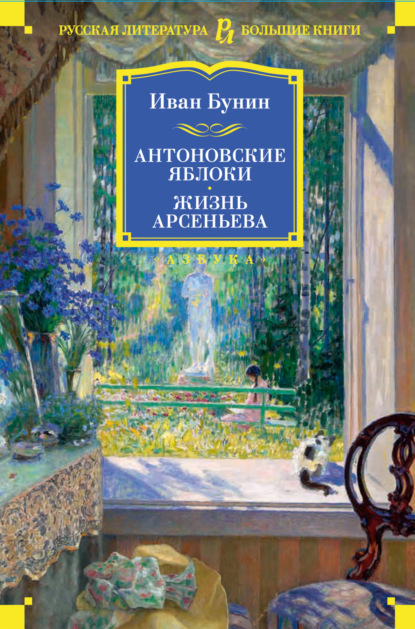
Полная версия:
Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева
Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок – найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом – покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду, – и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним – и настигла бы, да «спасибо снег был глубок»… Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай – и понемногу оправился. Покурил, посидел… Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны… – подумал Кузьма. – Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»
Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью… Жить еще хотелось – жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба… И конечно, у брата – какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.
– Куда ж мне гнать-то тебя, – сказал он, подумав. – Я и лавку с двором с первого марта передаю, – поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!
И правда: живорезы. Была Однодворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти россказни брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на цигарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинами. Обдирал он, конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал – и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи… Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!
Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! – думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: – И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость, и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича – и она спокойно ответила:
– Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай Бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.
– Хорошо? – изумился Кузьма.
Молодая посмотрела на него и покачала головою:
– Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя… Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока… не гнилого, не пьяницу…
– А лодыря, драчуна, дурака набитого, – прибавил Кузьма.
Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.
– Да как знаете, – сказала она с дрожью в голосе. – Дело ваше… Отговаривайте… Бог с вами.
Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:
– Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?
Молодая обернулась и остановилась.
– А разве не зла? – горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами. – Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?
И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.
– Ну, спасибо вам, – сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.
Но и тут на ресницах ее задрожали слезы – и опять развел руками Кузьма.
– А теперь-то ты о чем? – сказал он.
И Молодая тихо ответила:
– Да авось и Дениска не радость…
Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля…
– Авдотья! – крикнул Кузьма, поднимаясь с места. – Скажи Кошелю – лошадь в козырьки запречь!
Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с насупленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.
– А, братуша! – приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей. – Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?
– Уж очень соскучился, брат, – ответил Кузьма, целуясь с ним.
– Ну а соскучился, давай греться и балакать…
Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.
– Очень ты похудел, братуша! – сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.
– Похудеешь, – ответил Кузьма тихо. – Ты не читаешь газет?
Тихон Ильич усмехнулся:
– Брехню-то эту? Нет, Бог милует.
– Сколько казней, если бы ты знал!
– Казней? Поделом… Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось – картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки… Вдруг – что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть – вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним – два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать… И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки уверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: уверх да уверх!
И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.
– Да договаривай же, – сказал Кузьма.
– Да и договаривать-то нечего… Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» – «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» – «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят…»
– Это с поднятыми-то руками? – перебил Кузьма.
– Конечно с поднятыми… Ну да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики…
– Это за ветчину-то удавят?
– Нет, за транду, прости ты, Господи, мое согрешение, – полусердито-полушутливо отозвался Тихон Ильич. – Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать…
Кузьма потеребил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:
– Ерепениться-то? Верно, что пора… давно пора…
И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни, – какое-то дело.
– Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку, – твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю. – И прошу тебя, братуша, – прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Гáрно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, Бог даст, до города, – за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее, – и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду, – сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки, – у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломлю!
Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова, – слушал и молчал. Потом спросил:
– Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, Бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается, – это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу…
– Ну уж ты ни в чем меры не знаешь, – нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич. – Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь – животное!
– Да, долблю и буду долбить! – горячо подхватил Кузьма. – Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то… Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты его живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он – кум королю…
– Да знаю я! – опять перебил Тихон Ильич.
– А про Молодую он знаешь что говорит? – продолжал Кузьма, не слушая. – У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет мерзким голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла…»
– Знаю! – крикнул Тихон Ильич. – Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю, – в трактире-то, помнишь? – а ты перепела слушаешь… Да дальше-то, дальше-то что?
– Как что? И при чем тут перепел? – спросил Кузьма.
Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:
– Имей в виду: воду толочь – вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал – сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне Господь.
Кузьма вскочил с места.
– Господь, Господь! – воскликнул он фальцетом. – Какой там Господь у нас! Какой Господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?
– Постой, – строго спросил Тихон Ильич. – У какого такого Акимки?
– Я вон околевал лежал, – продолжал Кузьма, не слушая, – много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! – крикнул Кузьма. – Не научен!
И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.
– Запомни, брат, – сказал он, и скулы его покраснели. – Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы – дурновцы!
И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:
– Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только…
И оживился, увлеченный новой мыслью:
– Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! – а пахать путем – то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы» – только и всего. Заметь! – строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма. – «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь – верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой – кислая вода!
И Кузьма опешил. Мысли его спутались.
«Он рехнулся!» – подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим лампу.
А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:
– Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь, – заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью, – не нам, а друг другу! И все они такие, все! – закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.
За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.
«Рехнулся, – думал он безнадежно. – Да туда и дорога. Все равно!»
Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:
– А ты – «Дениска»… Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружком со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках – и четыре дня ходили насиловали ее… поочередно… Ну, теперь в остроге…
– Тихон Ильич, – ласково сказал Кузьма, – что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое… Пьешь ты, что ли, много?
Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.
– Пьешь? – тихо повторил Кузьма.
– Пью, – тихо ответил Тихон Ильич. – Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухою? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было… Ну да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует, кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди, – будет дело, будет! Зарезали мы их!
– А за ветчину – давить? – спросил Кузьма.
– Ну уж и давить, – отозвался Тихон Ильич страдальчески. – Это ведь я так, к слову пришлось…
– Да ведь удавят!
– А это – не наше дело. Им отвечать Всевышнему.
И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.
– Ах! – сокрушенно сказал он с глубоким вздохом. – Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник – и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой…
И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:
– Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида…
– Воистину суета человеческая, житие же – сень и соние. Ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищии…
– Царие и нищии! – восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою. – Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, а она взяла да и истаскала его наизнанку… Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить – праздника, мол, дождусь, – а пришел праздник – лохмотья одни остались… Так вот и я… с жизнью-то своей. Истинно так!
Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно – тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.
Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.
Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей – коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.
– Да у меня нету, – говорила Молодая. – А Кузьма Ильич никак заснул. Ты подожди до завтра-то.
– Мне, был, ждать-то нельзя, – певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.
– Ну как же теперь быть?
Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.
– Ну что ж язык-то даром трепать, – громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость. – Говорил с тобой Тихон Ильич?
– Говорил, – ответила Молодая. – Надоел даже.
– Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить…
Молодая подумала.
– Дело твое…
Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым – и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.
– Сват не сват, а добрый человек! – не спеша начал Серый необычно развязным и ладным тоном. – Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.
И степенно, низко поклонился.
Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.
– Беги, ищи, – шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.
– Да я тут, – сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.
Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.
– Ну как же, дочка, решай, – усмехаясь, сказал Кузьма.
Молодая подумала.
– Я малого не корю…
– А ты, Денис?
Дениска тоже помолчал.
– Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо… Може, Бог даст, ничего…
И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:
Как у нас да по садику,Зеленóм виноградику,Ходил, гулял молодец,Пригож, бел-белешенек…На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугунчика и моток черных ниток.
– Вот, невестушка, – сказал он смущенно, – на, свекровь прислала. Может, на что годится… Нету ведь ничего, – кабы было что, из рубахи выскочил бы…
Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугунки на подоконник, вышел.
– Нитки-то я в чугунчик положил, – пробормотал он.
– Спасибо, батюшка, – еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и, как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику…»
Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.
– Слушай, – сказал Кузьма. – Может, кинуть всю эту историю?
– Теперь поздно, – негромко ответила Молодая. – Уж и так страму не оберешься… Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали…
Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупичатой муки, пшена и худую свинью… Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!
– Ох, – сказал Кузьма, – измучили вы меня! «Срам, расход»… Да ай ты дешевле свиньи?
– Дешевле не дешевле – мертвых с погоста не носят, – просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную теплую гардину. – Обедать-то сейчас будете?
Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш, – тут пива не сваришь!» – подумал Кузьма и сказал:
– Ну, как знаешь, как знаешь…
Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В людской, он знал, уже спекли ржаную витушку – «ряженый пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугун лапши, чугун щей, чугун каши – все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень – тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка – созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях, и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Было людно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон, – они снова лезли…
– Да пустите, ради Бога! – сказал Кузьма, сдавленный у дверей.
Его сдавили еще больше – и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище – девки в цветных шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вьющимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:
Как у нас при вечеру-вечеру,При последнем концу вечера,При Авдотьином девишнику…Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова – и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:
Растопися, банюшка,Ты ударь, звонкий колокол!И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеням, сладостно заломило скулы и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.
– Будя, девки! – крикнул кто-то.
Но девки не слушали:
Ты ударь, звонкий колокол,Разбуди мово батюшку…И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез… Дрожащую, шатающуюся, ее увели наконец в холодную половину избы – наряжать.



