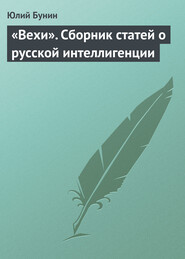 Полная версия
Полная версия«Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции
Авторы «Вех», разумеется, всего этого не могут не знать и потому стараются придать «антигосударственности» нашей интеллигенции какой-то своеобразный смысл. Г. Струве говорит, напр‹имер›: «принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же как принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е. в сущности государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и стушевывается перед враждебностью к государству во всех его конкретных проявлениях». Это мнение г. Струве весьма оригинально. Во-первых, вместо характеристики русской интеллигенции здесь, как и в других местах, дается характеристика революционного радикализма, а во-вторых, что подразумевает автор под «государством во всех его конкретных проявлениях»? Идет ли здесь речь о всех государствах современного цивилизованного мира или только о русском? Не только все русские интеллигенты, но даже представители «революционного радикализма» едва ли враждебно относятся к государственному вмешательству в общественную жизнь и к участию в государственном строительстве своих единомышленников за границей. «Конкретные проявления» русской государственности – хотя бы, напр‹имер›, времен Плеве – русские радикалы, действительно, считали вредными и относились к ним враждебно, но, насколько помнится, их не одобрял в своем «Освобождении» и сам г. Струве. Однако и здесь враждебность к «конкретным проявлениям» государственности далеко не доходила до тех пределов, чтобы русские «радикалы» совершенно отказывались от участия в строительстве государственной жизни, поскольку это представлялось возможным. Многие русские «радикалы» охотно шли, напр‹имер›, в податную и фабричную инспекцию, возбуждали пред правительством в разных общественных учреждениях ряд ходатайств и т. п.[5] Что же касается русской интеллигенции в широком смысле этого слова, то она не только не чуждалась государственного строительства, но даже усиленно стремилась к нему.
Другим коренным пороком русской интеллигенции авторы «Вех» считают ее космополитизм, отсутствие национального чувства и патриотизма. Обвинение в отсутствии патриотизма до сих пор шло обычно из реакционных кругов – обвинение злостное и крайне несправедливое. Однако в известной мере оно объяснимо. Дело в том, что патриотизм реакционеров действительно вызывает в русской интеллигенции резкую враждебность. Вспомним, напр‹имер›, как в первой Государственной Думе из рядов оппозиции раздался голос, говоривший, что понятие «патриотизм» до такой степени загрязнено нашими реакционерами, что называться «патриотом» в настоящее время стыдно. Если же патриотизмом называть служение своей родине, ее интересам и благу, то обвинять русскую интеллигенцию в отсутствии такого патриотизма было бы глубоко несправедливо. И такой патриотизм не находится ни в какой дисгармонии с идеей служения всему человечеству.
Национальный вопрос привлекает теперь к себе всеобщее внимание. Мы не имеем возможности хоть сколько-нибудь подробно касаться этого сложного вопроса в настоящей статье. Скажем только, что русская интеллигенция, стоя всегда за необходимость национального самоопределения всех народностей, опиралась в этом вопросе на принцип равноправия и никогда не мечтала о великодержавности русского племени, не была шовинистической. Национальную гордость и славу она видела в культурном развитии русского народа, в литературе, искусстве и проч. В этом была, по нашему мнению, заслуга интеллигенции. Не то замечается теперь. Не так давно в газетах возникла, напр‹имер›, целая полемика по национальному вопросу по поводу ничтожного факта – инцидента с г. Чириковым в частном кружке, касавшегося отношения русских к евреям (вопрос этот был поднят по поводу пьесы г. Дымова из еврейского быта[6]). В этой полемике деятельное участие принял, между прочим, г. Струве. В газете «Слово» он провозгласил, что национальность – «это духовные притяжения и отталкивания», что «они живут и трепещут в душе», что «к национальным вопросам в настоящее время прикрепляются сильные, подчас бурные чувства. Чувства эти, поскольку они являются выражением своей национальной личности, вполне законны, и принципиальное их подавление и угашение есть глубокая ошибка и великое уродство». Г. Струве говорит, что нам пора проявить свое «национальное лицо». Хорошую характеристику взглядов этого автора сделал П. Н. Милюков в газете «Речь». «Конституционные и демократические элементы русского общества, мне известные лично, в огромном большинстве от „национального лица“, открытого П. Б. Струве, предпочтут отвернуться», так как то настроение, которое отвечает нездоровым национализмом на нездоровый национализм в жизни может повести к печальным и тяжелым последствиям. Г. Милюков надеется, что скоро наступит время, когда все подобные тенденции рассеются, «как дурной сон».
Едва ли не самым главным недостатком русской интеллигенции авторы «Вех» считают ее отношение к религии. Тема эта на все лады повторяется в сборнике, а в статье г. Булгакова она занимает центральное, доминирующее место. В противоположность г. Струве г. Булгаков уверен, что «религиозна природа русской интеллигенции… Интеллигенция, – говорит он, – отвергла Христа, она отвернулась от Его лика, исторгла из сердца своего Его образ, лишила себя внутреннего света жизни и платится вместе со своей родиной за эту измену, за это религиозное самоубийство. Но странно – она не в силах забыть об этой сердечной ране, восстановить душевное равновесие, успокоиться после произведенного над собой опустошения. Отказавшись от Христа, она носит печать Его на сердце своем и мечется в бессознательной тоске по Нем, не зная утоления своей жажды духовной». Вся статья проф. Булгакова написана в духе глубокой убежденности и искренности и невольно подкупает читателя. Проф. Булгаков вполне уверен, что душа русского человека полна «высшими религиозными потенциями». Если стать на эту точку зрения, проникнуться верой и религиозным чувством автора, то с ним трудно полемизировать. Тогда можно поверить, что среди интеллигенции вместо героев появятся христианские подвижники. Автор резко различает эти два типа: «задача героизма – внешнее спасение человечества (точнее – будущей части его) своими силами, по своему плану, „во имя свое“; герой тот, кто в наибольшей степени осуществляет свою идею, хотя бы ломая ради нее жизнь, это – человекобог. Задача христианского подвижничества – превратить свою жизнь в незримое самоотречение, послушание, исполнять свой труд со всем напряжением, самодисциплиной, самообладанием, но видеть в нем и в себе самом лишь орудие Промысла. Христианский святой тот, кто в наибольшей мере свою личную волю и всю свою эмпирическую личность непрерывным и неослабным подвигом преобразовал до возможно полного проникновения волей Божией. Образ полноты этого проникновения – Богочеловек». Вот какой идеал рисуется пред взорами проф. Булгакова. Нам думается, что для реализации этого идеала нет никакой почвы ни в психологии современного цивилизованного человека вообще, ни русского интеллигента в частности. Нам кажется более правым г. Струве, который говорит, что с легкой руки Вл. Соловьева установилась своего рода легенда о религиозности русской интеллигенции, отождествляющая религиозность с повышенным идеалистическим настроением. Но г. Булгаков и его единомышленники проповедуют, конечно, не такую «религиозность», а признание высшего мистического начала, управляющего миром, подчинение ему своей воли, чувств и всего поведения. Русский интеллигент проникнут, наоборот, духом рационализма и позитивизма. И поэтому можно думать, что проповедь наших неохристиан не принесет тех результатов, на которые они рассчитывают.
В наше время, правда, сильно возрос интерес к религиозным проблемам. Но это, по нашему мнению, обусловливается двумя главными причинами: во-первых, общим кризисом миросозерцания во всем современном цивилизованном мире, а во-вторых, характером переживаемой нами послереволюционной эпохи, в которые обычно на смену общественно-политическим вопросам выступают иные, в том числе на очень видном месте вопросы религиозные. Кризис миросозерцания в современном цивилизованном мире имеет под собой глубокие психологические и социологические корни. Современное человечество утратило во многом веру в те принципы, которые до сих пор считались руководящими и незыблемыми. Стройность научно-позитивного миросозерцания нарушена. Нарушена также и вера в прочность и устойчивость многих моральных принципов недавнего прошлого. Всюду идет брожение, замечаются искания новых синтезирующих начал. И это вполне понятно: вся жизнь современного культурного мира начинает перестраиваться; всюду замечается отсутствие равновесия в социальных отношениях. Соответственно с этим перестраиваются и основы общего миросозерцания. Чем завершится этот процесс перестройки общественных отношений и взглядов, можно предугадывать только в самых общих чертах. Но нет достаточных оснований думать, что кризис общего миросозерцания окончится установлением тех начал, которые выдвигают наши «духовные реформаторы».
Призыв их к религиозности мотивируется еще тем, что интеллигенция должна стать религиозной в интересах общественно-политических задач, что иначе никогда не будет заполнена пропасть между интеллигенцией и народом, который по своему духовному складу совершенно чужд ей. Неуспех освободительного движения авторы «Вех» склонны объяснять, между прочим, этою отчужденностью народа от интеллигенции. Такое утверждение, однако, противоречит другому их утверждению о том, что ничтожная кучка революционеров сумела будто бы овладеть движением и привлечь к нему народные массы. Оба эти утверждения кажутся нам очень преувеличенными, но едва ли подлежит сомнению тот факт, что для совместной работы народа и интеллигенции вовсе не требовалось единения их в области религиозных вопросов. События последних лет раскрыли в значительной мере глаза народу, увидавшему, что интеллигенция является его другом, а не врагом, как старались уверить его в этом реакционеры. Надо полагать, что и в будущем интеллигенция и народ смогут дружно действовать независимо от разницы в сфере религиозных убеждений. Вообще мы думаем, что в эту интимную сферу не следует впутывать какие-либо практические соображения. Побеждать религиозный индифферентизм и вселять чувство религиозности можно и должно совсем иными приемами и аргументами. Мы сомневаемся, однако, чтобы наши духовные реформаторы обладали ими в надлежащей мере.
* * *Несмотря на все сказанное, с авторами «Вех», как мы уже говорили выше, во многих отношениях нельзя не согласиться, хотя и с некоторыми оговорками. Нельзя, наприм‹ер›, не признать справедливость слов г. Бердяева, что русская интеллигенция слабо, поверхностно и односторонне знакомится с важнейшими философскими теориями. В известной степени верно и то, что «интерес широких кругов интеллигенции к философии исчерпывался потребностью в философской санкции общественных настроений и стремлений». Прав также г. Бердяев, когда он говорит, что в этом сказалась «наша малокультурность, примитивная недифференцированность» и что «вся русская история обнаруживает слабость умозрительных интересов». Верно, наконец, и то, что многие философские, социологические и научные теории подвергались на русской почве искажениям и односторонним толкованиям.
Признавая все это, мы, однако, не можем не указать на крайне пристрастные характеристики наших отдельных философов и писателей, сделанные г. Бердяевым. Не можем мы согласиться с ним и в том, что у нас должна народиться какая-то особая, своя, русская философия. Г. Бердяев говорит: «Истина не может быть национальной, истина всегда универсальна, но разные национальности могут быть призваны к раскрытию отдельных сторон истины. Свойства русского национального духа указуют на то, что мы призваны творить в области религиозной философии». Последнее утверждение надо отнести в область верований автора, чисто субъективных и ничем им не доказанных.
Странным кажется нам и объяснение автора главной причины того, что философия находится у нас в печальном положении. «С русской интеллигенцией, – говорит он, – в силу исторического ее положения, случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине». Главная причина слабого философского развития русской интеллигенции лежит, конечно, не здесь, а в том, что наша культура вообще стоит еще на низкой ступени. «Любовь к истине» не только не отрицалась, но принципиально защищалась теми мыслителями, на которых нападает г. Бердяев. Вспомним, наприм‹ер›, известное учение Михайловского о правде-истине и правде-справедливости. Обе эти правды не противополагались друг другу у Михайловского, а, напротив, – приводились в гармонию.
Глубоко не согласны мы и с заключительным аккордом статьи г. Бердяева: «Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т. е. возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа интеллигенции». Еще раз должны мы повторить, что если односторонне все сводить к внешним силам, то еще более односторонне и ошибочно думать, что «освобождение от внутреннего рабства» возможно в широком масштабе в рабском обществе, находящемся под внешним гнетом.
Другой автор «Вех», г. Кистяковский, сделал много ценных и справедливых указаний о слабом развитии у нас правосознания и правовых идей и о важности этого предмета для прогресса страны. Подобно многим специалистам, автор, оценивая значение права, впадает даже в преувеличения. Едва ли, напр‹имер›, можно согласиться с его утверждением, что «право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология или чем систематические упражнения воли». Или: «социальная дисциплина создается только правом». Г. Кистяковский в общем верно изобразил «убожество» нашего правосознания. «У нас, – говорит он, – при всех университетах созданы юридические факультеты; некоторые из них существуют более ста лет, есть у нас и полдесятка специальных юридических высших учебных заведений. Все это составит на всю Россию около полутораста юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только книги, но даже правового этюда, который имел бы широкое общественное значение и повлиял бы на правосознание нашей интеллигенции. В нашей юридической литературе нельзя указать даже ни одной статейки, которая выдвинула бы впервые хотя бы такую, по существу неглубокую, но все-таки верную, боевую правовую идею, как иеринговская „Борьба за право“»[7]. Автор справедливо указывает, что в русском обществе было время, когда в отсутствии внешнего правопорядка видели не зло русской жизни сравнительно с европейской, но даже преимущества. Так думали славянофилы, а также Герцен и вообще весь кружок людей сороковых годов. Равнодушие к правовым гарантиям проявлялось и в гораздо более позднее время. Народники так же, как и славянофилы, полагали, что «русскому народу чужды „юридические начала“, что, только руководясь своим внутренним сознанием, он действует исключительно по этическим побуждениям». Отсутствие ясного и правильного правосознания автор отмечает и у деятелей нашей революции. Он верит, что такое печальное положение дел скоро изменится, что необходимость прочного и ненарушимого правопорядка будет вполне осознана нашей интеллигенцией. Нам кажется только странным то средство, которое рекомендует автор для достижения указанной им цели. «Теперь, – говорит он, – интеллигенция должна уйти в свой внутренний мир, вникнуть в него для того, чтобы освежить и пробудить его. В процессе этой внутренней работы должно наконец пробудиться и истинное правосознание нашей интеллигенции». Каким образом из «процесса внутренней работы» возникнет правосознание, остается тайной автора.
Интересными, справедливыми и поучительными кажутся нам и многие мнения г. Изгоева о нашей учащейся молодежи. Автор указывает на «отсутствие у нашей интеллигентной семьи всякой воспитательной силы». «Наша семья, – говорит он, – и не только консервативная, но и передовая, семья рационалистов, поражает не одним своим бесплодием, неумением дать нации культурных вождей. Есть за ней грех куда более крупный. Она не способна сохранить даже физические силы детей, предохранить их от раннего растления». В средней школе единственное культурное влияние на воспитанника имеет товарищество, но и оно обладает многими опасными и вредными сторонами. В гимназическом товариществе юноша «уходит уже в подполье, становится отщепенцем». Юноша делается враждебным окружающему миру; «он презирает гимназическую (а впоследствии и университетскую) науку и создает свою собственную», «сразу проникается чрезмерным уважением к себе и чрезмерным высокомерием к другим». В университете студенты мало и плохо учатся, предаются попойкам и разврату, причем нередко получается «невозможная смесь разврата и пьянства с красивыми словами о несчастном народе, о борьбе с произволом» и т. д.
Фактическое положение дела изложено г. Изгоевым в общем верно. Хотя краски местами наложены слишком густо. Но автор, по нашему мнению, весьма слаб в объяснении причин ненормального состояния молодежи. Высшим моральным лозунгом нашей молодежи радикального направления, по словам г. Изгоева, является принцип: «иди и умирай», но «не могут люди жить одной мыслью о смерти и критерием всех своих поступков сделать свою постоянную готовность умереть. Кто ежеминутно готов умереть, для того, конечно, никакой ценности не могут иметь ни быт, ни вопросы нравственности, ни вопросы творчества и философии сами по себе». Однако, продолжает автор, «огромное большинство нашей средней интеллигенции все-таки живет и хочет жить, но в душе своей исповедует, что свято только стремление принести себя в жертву. В этом трагедия русской интеллигенции». Все это рассуждение г. Изгоева кажется нам одним искусственным теоретизированием. В сущности, у огромного большинства передовой молодежи вовсе нет той трагедии, о которой говорит автор. Значительная часть молодежи красоту своей общественной деятельности видела вовсе не в том, что надо «умереть». Самая борьба ради блага народа казалась ей дорогой и привлекательной, и смысл деятельности заключался не в том, чтобы приносить жертвы во что бы то ни стало, а чтобы добиться осуществления идеала или по крайней мере приблизить к нему жизнь народа. Знаменитый стих Некрасова: «Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви» получал необыкновенно обаятельную силу для молодежи именно сочетанием святости жертвы с «великим делом любви»[8], без которого жертва утрачивает всякое значение и привлекательность. При таком сочетании вполне возможны жизнерадостность и гармония духа, которые очень нередко в действительности бывали у лучших представителей нашей интеллигентной молодежи. Кроме того, формула «иди и умри» для среднего интеллигента из радикалов имела относительное значение, она являлась скорее отвлеченным лозунгом, чем обязательною заповедью, и уже по одному этому не могла вступать в серьезный конфликт с желанием жить и создавать трагедию.
Г. Изгоев, как и прочие авторы «Вех», верит в какое-то коренное перерождение общества и говорит далее, что «глубокое идейное брожение охватило теперь русское образованное общество. Оно будет плодотворным и творческим только в том случае, если родит новый идеал, способный пробудить в русском обществе любовь к жизни. В этом основная задача нашего времени». Вся эта тирада кажется нам и напыщенной, и бессодержательной. О каком новом идеале говорит автор, какова сущность этого идеала – остается неясным.
Отмечая крупные недостатки нашей молодежи, автор все-таки признает за ней «огромную положительную роль, которую она играла в жизни страны». Студенчество, по словам Изгоева, до 17 октября 1905 года «было все-таки чуть ли не единственной группой, думающей не только о своих личных интересах. Но и об интересах всей страны. Оно будило общественную мысль, оно тревожило правительство, постоянно напоминало самодержавной бюрократии, что она не смогла и не сможет задушить всю страну. В этом была огромная заслуга, за которую многое простится». «Теперь, – думает г. Изгоев, – эта непосильная для молодых плеч задача снята», так как после 17 октября 1905 года произошел «коренной перелом в русской жизни». Последняя фраза кажется нам непомерно оптимистической, в особенности если сопоставить ее с общим утверждением авторов «Вех», что освободительное движение потерпело полное крушение. О каком же коренном переломе в русской жизни можно говорить при полном крушении освободительного движения?
Мы не будем говорить о других статьях сборника «Вехи», в которых также имеются многие справедливые указания недостатков нашей интеллигенции. Там отмечаются: и узость кружковщины, и сектантский дух интеллигенции, и ее крайняя партийность, приводящая не к сплочению сил, а к их разброду и проч. Все это справедливо и заслуживает внимания, но мы никак не можем согласиться с одним из основных обвинений, выставленных против интеллигенции в сборнике: большинство авторов обвиняют ее за то, что она слишком много заботилась о благе народа и подчиняла ему объективные и абсолютные ценности. Нам кажется прежде всего непонятным, почему «народное благо» не может быть относимо к таким ценностям. Один из авторов сборника, г. Франк, к объективным абсолютным ценностям относит, напр‹имер›, государственное могущество, национальное достоинство и т. д. Какие же преимущества имеют они перед «народным благом», чтобы их можно было, а последнее нельзя – причислять к абсолютным ценностям? Но главная суть дела заключается в том, что переживаемый нами момент страдает не излишеством забот о народном благе, а, наоборот, игнорированием его. Интересы народного блага все более отодвигаются на задний план, вопросы политики и общественной деятельности утрачивают интерес, общественные организации распадаются, общество впадает в апатию и уныние, и в такое время звать его от общественной работы в область мистики, национальных «притяжений и отталкиваний» и т. п. – значит содействовать не прогрессу, а реакции.
Сноски
1
Книга Е. И. Лозинского была издана в С.-Петербурге в 1907 г.
2
О «Кровавом воскресенье» 9 января 1905 г. см.: Кавторин Вл. Первый шаг к катастрофе. Л., 1992.
3
Имеется в виду Полтавско-Харьковское крестьянское восстание 1902 г., охватившее 19 волостей с населением свыше 160 тыс. человек. В ходе восстания было разгромлено 105 экономии и усадеб. Причиной восстания послужило массовое безземелье, обременительные выкупные платежи, многочисленные налоги; тяжелое положение крестьян усугубил неурожай 1901 г. Подавлением восстания руководил министр внутренних дел В. К. Плеве. Против восставших было брошено 9 батальонов пехоты и 10 казачьих сотен; после вооруженных столкновений крестьян с карательными отрядами восстание было жестоко подавлено. Под суд было отдано 960 человек, 836 приговорено к различным срокам тюрьмы. (Подробнее см.: Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г. Сборник документов. Харьков, 1961.)
4
К концу октября 1905 г. крестьянские восстания охватили около 37 % уездов Европейской России, практически всю Грузию и Прибалтику. (Подробнее см.: Дубровский СМ. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. М., 1956.)
5
В последние годы перед освободительным движением появилось отрицательное отношение к таким ходатайствам, но это происходило не вследствие отрицания государственности, а вследствие упорного и систематического игнорирования правительством общественных ходатайств.
6
Осип Дымов (псевдоним Осипа Исидоровича Перельмана, 1878–1959) – писатель и драматург, автор пьесы «Слушай, Израиль» и др. Умер в эмиграции. «Инцидент с г. Чириковым», получивший шумную огласку в печати, произошел, однако, не по поводу пьесы О. Дымова, а по поводу пьесы Шолома Аша «Белая кость», чтение которой происходило на квартире у артиста Ходотова. (См. также прим. 4 к статье А. К. Дживелегова «На острой грани»).
7
Рудольф Иеринг (1818–1892) – немецкий юрист, считавший право продуктом борьбы человеческих интересов. Русский перевод его книги «Борьба за право» вышел в Москве в 1874 г.
8
Цитата из стихотворения «Рыцарь на час». (См.: Некрасов Н. А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1979. Т. 1. С. 316.)

