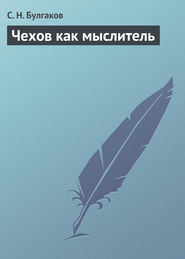 Полная версия
Полная версияЧехов как мыслитель
Сумрачный мир, изображаемый Чеховым, освещается им ровным и ласковым светом. Он не сгущает краски, как сатирик, ищущий материала для обличения, или юморист, ищущий, над чем бы посмеяться (последняя черта заметна только в самых ранних произведениях), идеал художественной простоты и реализма, кажется, вполне достигнут Чеховым. Художественную манеру Чехова можно уподобить скорей всего приемам вдумчивого экспериментатора, который делает один за другим различные опыты в целях полнейшего выяснения занимающего его феномена, но является при этом не равнодушным и холодным регистратором жизни, а мыслителем, сердце которого болит и любит, и истекает кровью от сострадания. Просто поразительна мягкость и снисходительность, с которой Чехов относится к своим действующим лицам. Он почти не знает слов осуждения: «надо быть милосердным», эти слова Сони из «Дяди Вани», вполне являются его девизом. Чехов говорит про студента Васильева, героя «Припадка»: «Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант – человеческий. Он обладает тонким великолепным чутьем к боли вообще». Эта характеристика должна быть отнесена к самому Чехову, человеческий талант которого не меньше его художественного. Наша литература выставила ряд великих гуманистов, мы имеем Достоевского, Толстого, Гаршина, Гл. Успенского, и к их почетному лику достойно причтется имя Чехова. Некоторые задушевные страницы Чехова, как музыка, говорят прямо сердцу, и тогда он невольно напоминает сродного ему великого музыкального лирика, которому был посвящен один из его первых сборников, – Чайковского[11].
Итак, то, что первоначально производило впечатление какого-то калейдоскопа, случайных фотографических снимков, пессимистического брюзжания, с течением времени выяснилось во всей своей значительности, во всей огромности своего содержания. В этих мелких и крупных, веселых и грустных повествованиях слышится один и тот же тревожный, мучительный вопрос, налегла одна тяжелая дума, сказалась великая общечеловеческая скорбь. И предмет этой общечеловеческой скорби так огромен, что заслоняет собой даже ее сумрачного певца. Отчего так велика сила обыденщины, сила пошлости? Отчего человека так легко одолевает мертвящая повседневность, будни духа, так что ничтожные бугорки и неровности жизни заслоняют нам вольную даль идеала, и отяжелевшие крылья бессильно опускаются в ответ на призыв: горе имеем сердца?[12]
Отчего, по слову поэта,
К добру и злу постыдно равнодушны,В начале поприща мы вянем без борьбы,Перед опасностью позорно малодушны,И перед властию презренные рабы?[13]Отчего?
Насколько мы находим у Чехова – не ответ на этот безответный вопрос, – а данные для такового ответа, причину падений и бессилия человеческой личности далеко не всегда можно искать в неодолимости тех внешних сил, с которыми приходится бороться, – быть разбитым и даже исковерканным неодолимой силой после борьбы с ней прекрасно и достойно героя, но увы! ее приходится видеть во внутренней слабости человеческой личности, в слабости или бессилии голоса добра в человеческой душе, как бы в ее прирожденной слепоте и духовной поврежденности. На такие мысли наводит нас Чехов.
Для правильного понимания значения творчества Чехова весьма важно иметь еще в виду, что его образы имеют не только местное и национальное, но и общечеловеческое значение, они вовсе не связаны с условиями данного времени и среды, так что их нельзя целиком свести и, так сказать, погасить общественными условиями данного момента. Конечно, как и всякие истинно художественные образы, образы Чехова конкретны и потому отражают на себе особенности данной исторической обстановки именно русской жизни конца 80‑х годов. Однако, по нашему мнению, было бы грубой ошибкой ограничивать значение образов Чехова только русской жизнью, видеть в них лишь обличение этой последней. Ни Три сестры, ни Иванов, ни Лаевский, ни старый профессор, ни действующие лица «Рассказа неизвестного человека» или «Крыжовника», ни дядя Ваня с Соней не поставлены самим Чеховым в такую исключительную связь именно с русскими условиями, и если бы Англия, Германия или Швейцария имела своего Чехова, то, конечно, недостатка в материале для чеховского творчества не было бы и там. Косвенное подтверждение этому можно видеть в Мопассане, из новейших европейских писателей в наибольшей степени приближающемся к Чехову. Поэтому считать Чехова бытописателем русской жизни и только всего – это значит не понимать в нем самого важного, не понимать мирового значения его идей, его художественного мышления. Чеховское настроение, психологически, может быть, и связанное с сумерками 80‑х годов в России, философски имеет более общее значение. Чеховым ставится под вопрос и подвергается тяжелому сомнению, так сказать, доброкачественность средней человеческой души, ее способность выпрямиться во весь свой потенциальный рост, раскрыть и обнаружить свою идеальную природу, следовательно, ставится коренная и великая проблема метафизического и религиозного сознания – загадка о человеке. Настроение Чехова должно быть поэтому определено как мировая скорбь в полном смысле этого слова, и, наряду с Байроном и другими, Чехов является поэтом мировой скорби.
Это опять звучит парадоксально: Чехов и Байрон! Что общего между автором Ионыча, считающего рубли по возвращении с практики, и певцом Манфреда и Каина, бросающих гордые вызову к небу? И, однако, между ними есть сходство, основывающееся на общечеловеческом и, можно сказать, надысторическом, мировом характере скорби и того и другого, однако немаловажно и различие между ними. Байрон протестует против ограниченности человеческой личности, против могущества мирового зла во имя свободной и богоборческой человеческой личности, сознавшей свои силы и не хотящей признать над собой высшей власти, стремящейся перерасти себя от человека к сверхчеловеку. Подлинные герои у Байрона уже не люди, взятые при обычной реальной обстановке, а Каин и Манфред, или же духи – Люцифер в «Каине», ангелы в мистерии «Земля и небо». Я чувствую в себе стремление к бесконечному, бесконечен in potentia[14], но не бесконечен in actu[15], моя сила не знает над собой равной и вызывает на борьбу самого Бога, но однако я не только не всемогущ, но подчинен болезням, старости и смерти, я стремлюсь к абсолютному, полному знанию, хочу обнять в мысли и землю, и небо, и преисподнюю, и я не знаю ни начета мира, ни его конца, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.
Таким образом, личность, сознающая себя формально абсолютной, с безмерными и ненасытными желаниями, наталкивается на невозможность эту потенциальность своими силами перевести в актуальность, обжигается об это противоречие, которое существует между беспредельными стремлениями человека и фактическими условиями его теперешнего существования. Люцифер, показав Каину новые миры, отпускает его домой с таким саркастическим напутствием
А я теперь хочуПеренести в твой мир тебя, где долженТы будешь род Адамов умножать,Есть, пить, терпеть, работать, трепетать,Смеяться, плакать, спать – и умереть.Человекобог, хотя и с притязанием стать богом, оказывается бессилен, чтобы уничтожить существующее в мире зло и осуществить свои порывы, и – надрывается. Состоянием такого героического надрыва и определяется душевный мир героев Байрона – Манфреда, удалившегося от мира на высокие горы, Каина, который роковым образом приходит к братоубийству, Чайльд-Гарольда, навсегда бросающего свою родину. В мировом мятеже Байрона еще слышатся родившие его громы великой французской революции, в нем отразился порыв вздымающейся волны истории, пламенная тревога времени: человек вдруг освободился от оков политической тирании, но свободен ли он от иной, так сказать, мировой тирании, может ли он перерасти в сверхчеловека, стать человекобогом? Байронизм представляет собою переходный момент, необходимый в историческом созревании человеческого духа, но эта попытка подняться сверх себя необходимо должна была привести к отчаянию, разочарованию, надорвавшейся гордости, которую и воплощает собой любимое создание Байрона – Люцифер.
Как и у Байрона, основным мотивом творчества Чехова является скорбь о бессилии человека воплотить в своей жизни смутно или ясно сознаваемый идеал; разлад между должным и существующим, идеалом и действительностью, отравляющий живую человеческую душу, более всего заставлял болеть и нашего писателя. Но если у Байрона мотивом разочарования является, так сказать, объективная невозможность осуществить сверхчеловеческие притязания, стать человекобогом не в желании только, а и в действительности, если здесь человек почувствовал внешние границы, дальше которых не может идти его самоутверждение, то Чехов скорбит, напротив, о бескрылости человека, об его неспособности подняться даже на ту высоту, которая ему вполне доступна, о слабости горения его сердца к добру, которое бессильно сжечь наседающую пену и мусор обыденщины. Байрон скорбит о невозможности полета в безграничную даль, Чехов – о неспособности подняться над землею. Различие в настроении, имеющем, однако, как видите, одну общую тему – ограниченность человека, ведет и к некоторым второстепенным, но не безынтересным различиям. Байрон по характеру своего основного мотива изображает в своих произведениях верхи человечества, тех, кого он считает героями и кого наделяет высшими атрибутами человеческой личности. Он в этом смысле аристократичен; невзирая на то, что и в поэзии, и в жизни Байрон был пламенным певцом и поборником свободы, он и его герои с презрением, сверху вниз, смотрят на людское стадо. Поэтому дух Байрона, гневный и суровый, не знает снисходительности и прощения. Противоположное у Чехова. Мы уже знаем, что в его произведениях нет героев, а есть заурядные люди, жалкие, смешные, несчастные именно своей заурядностью. Байрон, певец Лары, Корсара, Чайльд-Гарольда, Каина и во всех их самого себя, конечно, не удостоил бы своим вниманием этих муравьев, копающихся в своем муравейнике. Чтобы оказать его, до них нужно заранее снизойти, полюбить и пожалеть их, проникнуться их миром и почувствовать их томление. Это исключительное внимание, оказываемое Чеховым нищим духом, духовным калекам, слепорожденным, паралитикам и расслабленным, неудачникам и побежденным в жизненной борьбе, делает его по чувствам и идеям писателем глубоко демократичным в этическом смысле этого слова. Чехову близка была краеугольная идея христианской морали, являющаяся истинным этическим фундаментом всяческого демократизма, что всякая живая душа, всякое человеческое существование представляет самостоятельную, незаменимую, абсолютную ценность, которая не может и не должна быть рассматриваема исключительно как средство, но которая имеет право на милостыню человеческого внимания.
Таким образом, Чехов и Байрон, оба певцы мировой скорби, скорби о человеке, оказываются в художественном и философском трактовании человека антиподами: одного занимали исключительно судьбы сверхчеловека, высших экземпляров человеческой природы, другого – духовный мир посредственности, неспособной даже стать вполне человеком. Еще большую противоположность можно было бы провести между Чеховым и Ницше, которые относятся между собою примерно как огонь и вода или жар и лед, взаимно исключая друг друга. Однако, как ни завлекательна эта параллель, но на подробностях ее я не буду здесь останавливаться. Во всяком случае ясно, как мало отзвука могла найти в душе Чехова мысль о «гордом и трагически-прекрасном» человеке, вообще культ натурального, действительного человека, которым незаметно подменивается первоначально все-таки идеальный сверхчеловек. Вся художественная деятельность Чехова является красноречивым и достаточным ответом на эту проповедь самодовольства, самовлюбленности, говоря прямо, филистерства.
«В гордом человеке в вашем смысле (говорит Трофимов в „Вишневом саде“) есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой». Человек, по Чехову, совсем не годится для роли божества, которую ему навязывают. Пока он живет не на Олимпе, а «в овраге», застланном туманом и вредными испарениями. Правда, и в овраге сквозь туман видятся иногда далекие сверкающие звезды, и там порой слышится вечерний благовест, заставляющий дрожать затаенные струны даже очерствевших и окаменевших сердец, но, чтобы увидать звезды, надо упорно смотреть вверх, а чтобы нездешние звуки прорвались до сердца, растопили его лед и зажгли его святым восторгом, нужно ждать, прислушиваться, «нужно перестать восхищаться собой». Человека облагораживает, делает человеком в настоящем смысле слова не это странное обожание натурального, зоологического сверхчеловека, «белокурой бестии» Ницше, но вера в действительно сверхчеловеческую и всемогущую силу Добра, способную переродить поврежденного и поддержать слабого человека. Только веря в нее, можем мы верить в себя и в своих братьев – человечество. Таков вывод, который, думается нам, неоспоримо вытекает из всего творчества Чехова. Загадка о человеке в чеховской постановке может получить или религиозное разрешение или… никакого. В первом случае он прямо приводит к самому центральному догмату христианской религии, учению о Голгофе и искуплении, во втором – к самому ужасающему и безнадежному пессимизму, оставляющему далеко позади разочарование Байрона.
Мы дошли в характеристике мировоззрения Чехова до самого решительного пункта. Какой выход из неизбежной альтернативы избрал сам Чехов? Верил ли он в эту сверхчеловеческую, все превозмогающую силу Добра, которая имеет одержать окончательную победу и в отдельной человеческой душе, и в совокупном человечестве, или же он был пессимистом во всем огромном и ужасном смысле этого слова? Последнее опасение невольно рождается у читателя, пред которым проходят все эти хмурые, нудные люди, чудаки, отвратительные пошляки, гнусные эгоисты, претенциозные бездарности. Гоголевская боль о человеке вместе с его юмором является уделом Чехова. Выходит ли автор победителем из этой борьбы с собственными образами и мыслями, или он задохнется в этом отравленном мире вызванных им же самим образов и теней?
К счастью, уверенно можно сказать, что окончательный исход борьбы оказался скорее благоприятным, чем неблагоприятным, и Чехов вовсе не является тем пессимистом, какого мы опасались найти в нем. Попытаемся отдать себе отчет хотя бы в самых общих чертах, каковы те положительные примиряющие мотивы, которые не позволяют признать его пессимистом.
Вообще говоря, вся литературная деятельность Чехова проникнута весьма своеобразным и трудно поддающимся определению на языке школьной философии идеализмом, и над всею нею господствует одна общая идея, тот бог, которого не нашел в себе в критическую минуту старый профессор из «Скучной истории» и которого долго не умели распознать у Чехова его критики. Этот идеал и является тем светом, при котором только и можно рассмотреть очертания и краски, опознать хорошее и дурное, различать верх и низ, правую и левую сторону. Только по силе его возможна оценка жизни и осуждение существующего во имя должного, которое – часто молчаливо – совершается в каждом рассказе Чехова. Мировая скорбь вообще предполагает в качестве само собой подразумевающейся предпосылки, необходимого фундамента, такой, так сказать, пассивный идеализм, признание идеала по крайней мере в качестве нормы при оценке действительности[16]. Настоящий и последовательный пессимизм не осуждает и не критикует, это бессмысленно, раз все так непоправимо худо, – он убивает всякую жизнедеятельность, так что единственно последовательный из него вывод – чисто буддийский квиетизм, справедливо и реставрированный пессимистом Шопенгауэром[17]. Наоборот, настроение Чехова, все крепнувшее в нем, в высшей степени жизнедеятельно. Он умел любить жизнь, считать ее делом серьезным и важным, требующим подвига и неусыпного труда. Нужно работать, только нужно работать, в один голос повторяют самые разнообразные его персонажи. «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, добры, не уставайте делать добро! Счастья нет, и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!»[18] Если уж нужен латинский термин для определения мировоззрения Чехова, то всего правильнее назвать его оптимопессимизмом, видящим торжество зла, призывающим к мужественной и активной борьбе с ним, но твердо верящим в грядущую победу добра. У Чехова была, бесспорно, такая вера. Правда, это не была победная вера, которая видит в едва зарождающихся ростках грядущий расцвет и торжествующе приветствует его, это вера тоскующая, рвущаяся и неспокойная, но, однако, по-своему крепкая и незыблемая. Мы не имеем в чеховских произведениях прямого и положительного художественного обоснования этой веры, солнце правды только косыми лучами и отраженным светом освещает чеховский овраг, но вне этой веры невозможна и непонятна была бы вся деятельность Чехова, без нее погас бы источник света, освещающий всех гадов и нетопырей, копошащихся на дне оврага. Говорят, что в морских глубинах живут растения, никогда не видящие солнца, и, однако, как и все живое, они живут только солнцем, без него они не могли бы и появиться на свет и просуществовать одного дня, хотя как легко и как, казалось бы, убедительно они могли бы отрицать существование солнца. Такими подводными растениями являются и многочисленные персонажи Чехова. Он дает только чувствовать солнце, и лишь изредка стыдливо и как бы невзначай, обычно от третьего лица, Чехов прямо говорит о нем – только в виде исключения, золотой луч несмело блеснет и тотчас же погаснет на дне оврага. «Робким и испуганным душам» Липы и ее матери, а может быть, и стыдливо сливающейся с ними душе автора, ночью вдруг показалось, что «кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, сторожит. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, – продолжает автор, как будто уж прямо от себя, – и все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдою, как лунный свет сливается с ночью»[19]. В рассказе «Студент», этом драгоценнейшем перле чеховского творчества, где на трех страницах вмещено огромное содержание, мы читаем о возвращавшемся домой студенте: «И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкой полосой светилась холодная заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы – ему было только 22 года – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевало им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла». Трудно определить здесь, где кончается студент и начинается сам автор. Вообще из сопоставления рассеянных и всегда скупых замечаний автора по этим интимным вопросам выносится вполне определенное впечатление, что в них стыдливо и, быть может, несколько нерешительно отражается крепнущая религиозная вера, христианского оттенка: сказать что-нибудь определеннее нас не уполномочивают имеющиеся данные. Но вне этого предположения весь Чехов становится загадкой, а некоторые его вещи (как, напр‹имер›, тот же «Студент») представляли бы психологический и логический nonsens. Весьма знаменательными в этом смысле нам представляются заключительные мистические аккорды «Дяди Вани» и «Трех сестер». Трудно видеть в них только надрыв или бред раздавленных жизнью молодых существ, как склонны думать многие, напротив, уже самое повторение одних и тех же мотивов в двух пьесах, разделенных значительным промежутком времени, заставляет видеть в них, хотя и неясный, намек на затаенные мысли и чаяния и самого автора.
В связи с этой стороной мировоззрения Чехова находится и необыкновенная чуткость его к поэзии религиозного чувства и вообще глубокое и тонкое понимание религиозной психологии, в особенности же простолюдинов. В этой области Чехов оставляет позади себя даже Толстого, приближаясь к Достоевскому, не имеющему здесь себе равных. Вспомните только изображение – и всего двумя-тремя штрихами – душевного состояния двух тупых баб, которым студент (в цитированной повести) рассказывает о троекратном отречении Петра, и затем бурю религиозного восторга в нем самом, вспомните полный пленительной поэзии пасхальной ночи рассказ «Святою ночью», затем описание крестного хода и вообще религиозного быта в «Мужиках», наконец, потрясающую ночную сцену «В овраге», когда Липа идет с мертвым ребенком и встречает в поле проезжих мужиков. Чем-то неземным веет от этой сцены, и, читая ее, перестаешь различать, музыка это или обыкновенное человеческое слово.
«– Вы святые? – спросила Липа у старика.
– Нет. Мы из Фирсанова.
– Ты давеча посмотрел на меня, а сердце мое помягчело. Я и подумала, это, должно, святые».
Где и когда подслушал у народного сердца этот диалог Чехов! Как много говорит этот короткий и детский вопрос, выражающий всю несокрушимую, хотя и наивную, веру народной души в существующую и осуществленную святость, но, пожалуй, еще лучше, еще выразительнее ответ на этот вопрос. Отвечающий отнесся к вопросу с такой же прямодушной верой и с таким же простодушием, как он был и задан, в нем заключается только фактическая поправка, что это не святые, а мужики из Фирсанова.
Религиозная вера в сверхчеловеческое Добро дает опору для веры и в добро человеческое, для веры в человека. И, несмотря на всю силу своей мировой скорби, скорби о человеческой слабости, Чехов никогда не терял этой веры, и за последнее время она все жарче и жарче разгоралась в нем. Правда, по свойству таланта и всего душевного склада Чехова, взор его всегда оставался устремлен больше на отрицательные стороны жизни, чем на положительные, больше на ее плевелы, чем на пшеницу. Потому, когда он заговаривал на иной лад, это казалось необычным и встречалось даже недоверчиво, светлые надежды не вполне вязались с скорбным характером его творчества и казались висящими в воздухе. Речь его звучала как будто неуверенно и чересчур отвлеченно, оставалась неодетою в краски художественных образов. Однако это и не было настоящим делом художника Чехова, выходило, так сказать, за пределы его художественной специальности, но, однако, должно быть оцениваемо полновесной монетой как материал для понимания его духовного облика. К одному Чехов относился действительно с непримиримой и нескрываемой враждой, – к упрощенным геометрическим формулам, в которые прямолинейные люди пытаются уложить и жизнь и будущее, но за которыми скрывается нередко лишь незрелость мысли. Почти карикатурный образ прямолинейного доктринера Чехов дал в лице ученого зоолога фон Корена (в «Дуэли»), который, по воле автора, уступает в понимании жизни немудрящему сельскому дьякону. Вспомните заключительный аккорд «Дуэли».
«Да, никто не знает настоящей правды… – думал Лаевский, с тоскою глядя на беспокойное темное море.
Лодку бросает назад, – думал он, – делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже и у пароходного трапа… Так и в жизни… В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед… И кто знает? Быть может, доплывут до настоящей правды…»
Герои позднейших произведений Чехова говорят смелее и уверенней на те же темы; вспомните разговоры в «Дяде Ване», «Трех сестрах», «Вишневом саде». «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы, – говорит студент Трофимов в последней пьесе. – Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину». «Человеку нужно, – говорится в „Крыжовнике“, – не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа».
Может возникнуть вопрос, не впадает ли Чехов, говоря таким образом, в глубокое противоречие с основной своей художественной идеей и окрашиваемым ею настроением, которое мы определили как мировую скорбь, скорбь о несовершенстве и как бы коренной поврежденности средней человеческой души. На наш взгляд, в действительности противоречия тут нет. Прогресс исторического человечества подразумевает повышение общего уровня культуры, успехов научного знания и философского мышления. Однако для каждого исторического момента достигнутый уровень культуры есть готовый результат исторического развития, и для данного поколения он должен служить отправным пунктом лишь для дальнейшего развития. Кроме того, этот результат тысячелетнего развития человечества сам по себе представляет нечто безличное, что отверждается, кристаллизуется в быте, в окружающей обстановке, в научной библиотеке, в художественной галерее. Отдельные личности могут стоять значительно ниже этого уровня, относясь к нему пассивно и индифферентно, могут оказываться ниже своего времени, и для того, чтобы подняться до верхней точки уже достигнутого прогресса, кроме всего прочего, нужно актуальное движение души, нужно напряжение энергии и воли. Одним словом, для этого нужно то, чего не хватает чеховским персонажам, духовного полета, воодушевления добром, пафоса жизни. Это воодушевление каждый может осуществить только для себя, оно должно быть делом индивидуальной духовной энергии, и безличный исторический прогресс, постоянно перемещая вперед общую арену исторического действия, не может автоматически выполнить того, что навсегда останется только делом личности, нравственным ее подвигом. Поэтому духовное мещанство и дряблость могут встретиться при разных культурных условиях. Отсюда понятно, каким образом в Чехове уживаются в полном согласии обе точки зрения, и мировая скорбь переплетается с верой в исторический прогресс человечества. В «Трех сестрах» Чехов как бы распределяет обе точки зрения двум различным действующим лицам, в знаменательном разговоре о прогрессе Вершинина и Тузенбаха. В то время как первому грезится жизнь человечества через двести-триста лет счастливой и прекрасной, барон Тузенбах возражает: «Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была; она не меняется, остается постоянной, следуя своим собственным законам… После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: „Ах, тяжко жить!“ и вместе с тем точно так же, как и теперь, он будет бояться и не хотеть смерти».



