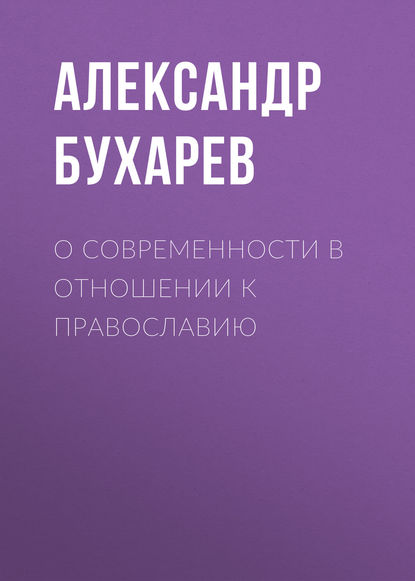 Полная версия
Полная версияО современности в отношении к православию
Итак, подвизавшиеся за православие в период вселенских соборов, стояли, собственно, не за мертвую букву веры, а за самую силу союза людей с Богом во Христе, простирающуюся от их духа и на все внешнее, – ту силу, в отчуждении от которой пропадал бы человек не только для будущей жизни, но и в настоящей.
И как они подвизались в своей ревности за спасение человека по православию! Буди тебе, яко язычник и мытарь – это слово Христово (Мф. 18, 17) выдерживали они относительно мучителей во всей строгости, но только тогда, когда по слову Христову сначала вразумлял заблуждающегося каждый из истинных ревнителей православия между собою и тем единым, как именно св. Александр Ария, а потом при двух или трех свидетелях или даже при целом частном соборе, как тот же александрийский архипастырь того же безумного Ария, и наконец, после вразумления его всею Церковью, на вселенском соборе. Все это было именно в том духе самого Христа, который Им же самим на тот же самый предмет выражен: прииде Сын человеческий взыскати и спасти погибшего. Что вам мнится? аще будет некоему человеку сто овец, и заблудит едина от них: не оставит ли девяттдесят и девять в горах, и шед ищет заблуждшия? И аще будет обрести ю, аминь, глаголю вам, яко радуется о ней паче, неже о девятидесяти девяти незаблудших (Там же. Ст. 11, 13). В частности, поборник догмата единосущия Сына Божия со Отцем, св. Афанасий Великий в собственном духе и уме столько углублялся в этот высочайший догмат веры, что, по его собственным словам, многочисленные его писания были только самою малою частью стремящихся к раскрытию тайны размышлений его, – а по внешней жизни почти постоянно подвергался ссылкам и заточениям, отстаивая для человека ту благодать и истину, чтобы он имел во Христе Спасителе истинно верховное на все начало, истинного Бога. Отец монашества восточного, св. Антоний Великий, оставил и пустыню, для которой он оставил самый мир, и нашел непротивным иночеству явиться в шумную многолюдством, торговлею и ученостью Александрию, чтобы помочь Великому Афанасию ратоборствовать за спасающее человека Божество Спасителя. Преподобный Исаакий Далматский также счел своим долгом выйти из уединения, чтобы во имя Христа, вводящего людей в любовь Отца, именно потому, что Он сам есть единородный и единосущный Сын Божий, – лично противостать самому царю, закрывшему православные храмы. Св. Максим Исповедник терпел от церковных и гражданских властей – монофелитов – мученические злострадания за ту спасительную именно для нашей человеческой деятельности истину, что во Христе есть не одна воля Божеская, но и человеческая, – и не одно действие Божества, но и также действие человеческое. Св. Иоанн Дамаскин, любимый и чтимый и неверным властителем (у которого был в службе), за ревностную защиту иконопочитания подвергся бессовестной клевете и убийственным козням от христианского императора-иконоборца. И как ревность этих поборников православия одушевлялась именно человеколюбием, подвизавшимся за спасение человека: то она соединялась с крайней осторожностью, снисходительностью и самоотвержением любви. Великий ревнитель догмата единосущия пресвятой Троицы, Афанасий, когда некоторые предстоятели Церкви православную мысль о пресвятой Троице выражали словами, по-видимому, прямо неправославными[2] и были за то строго осуждаемы ревнителями буквы православия, принял сторону первых и тем остановил смущение православных, возникшее от неразумной ревности из-за одних слов. И впоследствии св. Григорий Богослов, подобный Афанасию в ревности по вере, не знал, как и восхвалить Афанасия за это дело мудрой любви. Василий Великий, чтобы удержать в православной Церкви поколебавшихся уже в вере в Божество Св. Духа и постепенно, незаметно привести их к этой вере, решался даже некоторое время не говорить в своих поучениях прямо о Божестве третьей Ипостаси Св. Троицы, хотя через это и сам подвергался нареканию в неправославии от нечеловеколюбивой ревности некоторых и даже должен был принять некоторые упреки в излишней снисходительности от своего великого друга – Григория Богослова. И сам Григорий Богослов, видя при открытии второго вселенского собора разногласия и споры епископов, возбужденные личными недоброжелателями Богослова, подвигнут был истинно Христовым духом, как бы виноватый в этих смутах, оставить Константинопольскую кафедру и удалиться в строгое, тяжкое для его ревнивого духа уединение, чтобы только отцам собора дать возможность спокойно и мирно приняться за великое дело. Любовь св. Златоуста не усомнилась перенять у самых ариан некоторые виды относящегося к богослужению благолепия и стройности, которыми они стали было обольщать простодушных.
Вот как в период вселенских соборов подвизались за самую силу православия.
Рассмотрев, за что и как в силе дела подвизались в те времена защитники православия, обратимся к нашему времени.
Ложь древних ересей, волновавшая весь древний христианский мир, и ныне действует в той же силе и обширности духовного человекогубительства, но только уже раскрывается в инаковых видах. Есть и прямо, открыто не признающее Христа Богом арианство; но и такое нынешнее арианство имеет корнем своим уже не догматические недоразумения и заблуждения веры, но то направление, по которому многие христиане не хотят и не думают признавать и иметь Христа Спасителя верховным живым началом своей мысли, своей воли, сердца, воображения, и следовательно, всей области наук, искусств, жизни общественной и частной. Ведь это то же, в силе дела, что не признавать Христа истинным Богом своим, в котором не только все действительное имеет свое основание зиждительное и всесодержательное, но вне которого, вне Его благоволительной или попустительной воли и мысли, ничего не возможно. Бывает и то, что относящееся прямо к вере и благочестию содержится или исполняется как следует, по Христу, а во всем прочем дается место разным житейским или идеальным началам, уже не возводимым под небесное Главенство Христово, а иногда и прямо ему враждебным (каковы, например, начала порочных страстей); это есть повторение, в силе дела, того древнего полуарианства, по которому иные признавали Христа Богом, не воздавая, однако, Ему всецело и решительно Божеской чести, и с которым древнее православие никак не хотело иметь единения. Весьма еще назидательно и замечательно для нас, что поборники православия против ариан никак не сдавались на громкие их величания Христа премудростию и силою Божиею, сиянием славы Божией, Словом единородным и даже Богом, и тому подобное. Видно, и с громкими речами о Боге можно еще не уйти от силы и духа худшей из ересей. Православные для церковного общения с собою требовали от ариан одного точного слова о Божестве Христовом – требовали такого исповедания веры, что именно единосущный Отцу Сын, следовательно, по самой сущности, Бог, существенно проявляющий в Себе всю премудрость, всю силу и любовь Отца, истощил себя за мир, как Агнец Божий, понесший в Себе отягчающие и убивающие мир грехи и проклятие. Вот кто есть наш Спаситель Христос – истинный Бог, высочайшее начало для всего и для нас во всем! Итак, ревнуете ли по православию, – поревнуйте именно о том, чтобы ни одна у нас область жизни общественной и частной, ни одна среда вашей деятельности, как бы иная из них ни была опутана нехристианскими началами, не оставалась возглавленною под эти погибельные начала вне верховного начала – Христа, истинного Бога нашего, и таким образом не была вне благоволения Отца небесного, почивающего всею полнотою своею на единосущном Его Сыне. Если необходим для этого великий и разносторонний мысленный и словесный подвиг, вспомните труды Афанасия Великого, Златоуста, Григория Богослова и одушевитесь их духом. Если для раскрытия божественного и духовного главенства Христова над всем, не только прямо-духовным и церковным, но и мирским, земным неизбежно обращаться иногда мыслью и сердцем к разным сторонам и видам человеческого, земного – не затруднитесь последовать мыслью и духом Великому Антонию, который из своего пустынного в Боге уединения явился среди шума и суеты городского многолюдства для вразумления заблуждающихся и утверждения верных в догмате единосущия со Отцем Христа Сына Божия, следовательно, и Божественного Его главенства для всего небесного и земного. Если и трудно противостать господствующему направлению – мыслить и делать не по Христу Богу или не совсем по Христу, то возьмите в человеколюбивое ваше внимание, что подобное направление в христианах – этих духовных храмах Божиих, так сказать, прекращает богослужение их мысли и сердца, следовательно, закрывает эти Божий храмы, подобно как некогда Валент и вспомнив св. Исаакия Далматского, твердо станьте против этого арианствующего направления, с уверенностью, что исчезнет же, Бог даст, его господство на радость мучимого им человека.
Да не будет у нас мира с христовраждебною ложью ни в чем; но опутанных ложью следует наводить на истину всевозможным ее раскрытием, следует возбудить к их вразумлению и, в частности, ревность того или другого, и самое общественное мнение и только тогда, как на все меры и усилия любви вразумить их они отзывались бы одним упорством и враждою – тогда только, последуя св. отцам, можно применить к заблуждающим слово Христово: буди тебе, яко язычник и мытарь, – и то не в смысле окончательного и решительного отвращения от них, ас преданием их в волю Божию наряду с другими людьми, чуждыми Церкви Божией. А пока еще дело вполне не разобрано по тому или другому вопросу или предмету, которым занимаются, по-видимому, не по Христу или не совсем по Нему: дотоле еще нет основания для нас отвергать кого бы ни было как явного невера или еретика. Св. отцы соборов так не делали даже с злейшими еретиками. И ныне, как тогда, могут быть у неразумных ревнителей разногласия только из-за одних слов. И ныне какой-нибудь Евтихий, преследуя несторианство, ратуя против направления вести дела человеческие в отдельности от Божественного, нередко впадает в другую столь же лживую и пагубную односторонность или крайность, начинает подавлять человеческое Божественным, забывая, что во Христе, лично соединившем в Себе ради нас человечество с Божеством, человеческое не подавлено и не поглощено Божеством. Во все это вникать до тонкости, конечно, трудно. За это, при всех трудностях и скорбях нужного ныне подвига за православие, для боголюбивого и человеколюбивого духа – радость и торжество созерцать и указывать в Боге Слове, единосущном Отцу, зиждительное и воссозидательное начало для всего, не исключая и всего того, что доселе порабощено греховной суете (ибо Он – Спаситель потерянного и погибающего). Св. Григорий Богослов, в которого ариане не только нравственно, но и буквально бросали каменья, тем не менее с восхищением духа желал, подобно открытому для всего мира светильнику, гореть и светить для всех светом единосущной Троицы. А изучать и следить во всем Мысли Отца, зиждительно осуществленные и мироправильно осуществляемые единосущным Его Словом в силе Св. Духа, и значит – взирать верою к свету Пресвятой Троицы или единосущего в трех лицах Бога, которым мы живем, движемся и есмы (Деян. 17, 28). И будет время, когда мысленные и нравственные борения нашего времени будут выясняться и распутываться совершенно на тех же живых основаниях, на каких св. отцы излагали древних еретиков, и когда многое, мнящееся православным, окажется более сродным с неправославным. Дух истины не оставит любящих истину во тьме или сумраке.
Да! не допустим того, чтобы в наше время мог ослабеть тот Дух, в силе которого св. отцы раскрывали и отстаивали догмат едино-сущия Сына Божия со Отцем и следовательно верховного, истинного Божественного главенства Христова над всем земным и небесным, над всем внешним миром и над внутренним миром нашей души. Не уступим направлению лжи, будто Дух – раскрывающий в Церкви силу и значение истощания нашего Господа до того, что за грешный мир и гибнущего человека стал Господь сам как олицетворенный грех и клятва в своем распятии за нас, – такой Дух будто уже не может ввести верующих в расположения и мысли этой самой Христовой любви к человеку и миру; так что ныне будто, во имя православия, уже надобно только бросить, как негодное, то и другое человеческое, порабощенное в чем-либо греховной суете, – будто теперь истина Христова уже только осуждает и отвергает вместо благонаправления и спасения грешного мира. Уступать или допускать это в том Духе, который в своих дарах и действиях проявляет значение и силу всей Христовой тайны, которым только и можно признавать Господа Бога в Иисусе Христе, значило бы – допускать в себе еретический дух Македония, не верившего в Божество Св. Духа, в Его неизменность, в Его всемогущую вседейственность во всех временах и местах. Впрочем, видно, подобно арианству, и македонианство сильно обижает нас своим губительным духом, когда о большей части самих служителей благодати, защищая притом их, приходилось говорить как о пробивающихся естественными путями и средствами, подобно и прочим сынам Адама и Евы.
«Но где же, – говорят, – нам, грешным людям, до исполнения Св. Духом, до разумения и исполнения всего по Христу единородному Сыну Божию, не только в разных стезях житейских, но и в более возвышенных путях науки, искусства и проч.!» Но для кого же, если не для нас, грешных людей, равно на высоких и низких ступенях нашего быта, единосущный Отцу Бог Слово собственным лицом низшел до вочеловечения, до восприятия в единство своего лица естества человеческого, до страдания и смерти в этом человечестве? Или мы хотим, подобно Несторию, отказаться от той благодати, что во Христе вся полнота Божия, соединенная ради нас родным нам человеческим духом и телом в единое лицо, в одно «Я»; чрез это открыта нашему общению по мере веры нашей, и что сама Богоматерь, по самому такому достоинству своему, всегда готова своею матернею любовью охранять и поддерживать самые даже слабые начатки Духа Сына своего в нас, в нашей мысли, чувстве и воле? Ведь дерзнувшее отвергнуть эту истину и благодать несторианство проклято; остережемся давать место в себе его духу.
«Бросим, же, – говорят с другой стороны, – наш слабый человеческий ум, воображение, особенно эту бренную тленность; будем попирать и уничтожать нравственную нашу личность; вознесемся духом к небесному и божественному». Хорошо. Но не надо забывать и того, что во Христе и человечество, как с душою разумною, так и с телесностью, не поглощено Божеством, но ради нас, человеков, ради спасения нашего ума и других духовных наших сил, так же как и нашей телесности, осталось целым, как и его Божество, в единой его личности; и это для сохранения и возвышения нашей личности в истинном ее достоинстве. Подавлять духовным направлением человеческий ум или другие душевные силы, вместо разностороннего раскрытия их во Христе, – устранять самую телесность нашу от всякого участия в благодатной духовности, значило бы – мириться с духом евтихианства, признававшим во Христе, нашем Спасителе и первообразе, поглощение человеческого Божеским, и с монофелитами не признавать во Христе, вместе с Божескою, и человеческую волю и деятельность, за какую неоцененную для человека истину св. Максим готов был стоять до смерти, хоть бы один против всех в мире. Нет, духовность нашей жизни и деятельности состоит не в парениях, знать не хотящих человеческой действительности. Между тем как в среду и под условия этой действительности – под условия и не только прямо-духовные и церковные, но и семейные, народные, гражданские – нисходил к нам единосущный Сын Божий, восприяв и сохранив в единстве своего лица, в соединении с Божеством своим и человеческое естество с человеческою волею и действием человеческим, значит – и с человеческими мыслями, желаниями, чувствами, воспоминанием, воображением, и – все это ради нас, человеков… Благодатный дух, возвышающий нас над греховностью плотской и над растленностью мирской, состоит, собственно, в том, чтобы у нас все относящееся и к духу – до всякого действия всякой его силы, и к телу – даже до вкушения пищи и до сна, все в нашей личности было по Христу и со Христом и, следовательно, под благоволением небесного Отца Его и в общении Святого Его Духа. И притом, так как Христос приходил в мир в значении и расположениях Агнца Божия, вземлющего грехи мира, и эта на себя принявшая всю ответственность за человеческие грехи любовь Его есть дух всей Его земной жизни, всех Его состояний и действий; то именно в таком Его духе и должна быть духовность всех наших как внутренних расположений и мыслей, так и внешних отношений и поступков.
Нужны ли еще прямые опытные свидетельства древних духоносцев об истинности такого нашего понятия относительно духовности, развиваемого нами из самого существа утвержденных ими догматов православия? Один духоносный старец внушал на тот случай, если бы юный инок своими юношескими парениями стал возвышаться над землею к небу, удержать его за ноги и поставить на землю. Вот и духовность по образу и духу Христа, снисшедшего к нам на землю! Еще один из строгих подвижников, узнав о беззакониях чьих-то, только вздохнул со скорбью, неочищенною от осуждения беззаконника, и – сам Господь, в ночном видении, явился подвижнику с осуждением его самого и с готовностью принять второе распятие за внутренне осуждаемого им грешника. Вот как фальшива духовность, раскрывающаяся не по образу и духу Агнца Божия! Итак, если мы, ревнуя по Богу и Церкви, не внемлем или мало внемлем самому же Христу в разнообразных затруднениях и нуждах меньших Его собратий – в среде ли внешне-гражданской и народной, или в области мысли и чувства, нашу, не совсем по Христу высящуюся к небу духовность следует поставить еще на землю, которую Христос так возлюбил и которая во Христе становится уже небесным жительством. Если я стану смотреть на раскрытие человеческой мысли, сердца, фантазии в науках и искусствах с духом осуждения человеческих неверностей Христу, а не в духе любви Его, вземлющей на себя ответственность пред своим Отцом в наших неверностях, то при всем том, что я должен выдерживать и раскрывать истину Его перед собратьями, сам Господь (не к оправданию моему, конечно) покажет Себя самого восприявшим человеческую мысль, сердце, фантазию и вообще все человеческое естество с волею и действием человеческими, притом вземлющим на себя вины всех человеческих грехов во всех этих отношениях или силах человеческих…
Впрочем, мнимая духовность отвлеченной идеальности и мечтательных парений отринута в Церкви торжественно догматом иконопочитания, который, кроме утверждения его Вселенским Собором, православные отстояли своей кровью. Если быть верным этому догмату в самом основании его, какое представляется в святоотеческом защищении св. икон, именно в благоговейном внимании к образу Божию, начертанному в нас, человеках (которым именно и должен усвояться благодатный дух и сила вообще всей священной церковной внешности), то не только в области прямо-духовного и церковного, но и в гражданской службе, в земледелии, в занятиях купли и продажи, даже в обществах и увеселениях истинно православный будет тайно и никому не зримо внимать к отобразившемуся в нас существенному образу Божию – Христу, как сам в себе, так и в отношениях к другим до простых приветствий и поклонов друг другу. (Выше мы уже имели случай указать прямо относящееся сюда место из св. Иоанна Дамаскина.) И, таким образом, истинная духовность православного будет простираться у него от его духа на все внешнее и на самое, так сказать, житейское; так что он, исполняясь и воодушевляясь этою духовностью именно пред св. иконами – в Божиих храмах за святою службою, затем и среди шумного многолюдства будет, во внутренней своей тишине, как бы во храме пред св. иконами за священнослужением. Ибо внимать Христу, приводящему всякого в любовь своего Отца силою Духа Святого, значит присутствовать духом за неперестающим священнослужением самого вечного Иерея и Архиерея.
Заключим слово на сей раз. Мы только тогда будем верны как духу и силе святоотеческого ревнования по православию в период вселенских соборов, так и вопиющим требованиям православия в наше время, когда, во-первых, будем твердо и с ревностью стоять словом и делом за православие, но именно в настроении и духе любви Господней, вземшей на себя ответственность за грехи и заблуждения мира, и когда, во-вторых, сколько самое даже дольнее-земное будет у нас устрояться по началам Христовой истины, столько же обратно и самая Христова истина будет нами раскрываема и разъясняема в значении начала для всего, и самого дольнего и мирского, то есть в том самом значении, в каком истина явилась нам в лице самого Христа, снисшедшего с неба на землю и даже во ад сходившего для открытия всюду своего животворного света…
Сноски
1
Так выражаюсь, желая ярче выставить на вид, что именно утверждено на веки наше личное бытие или только Я каждого из нас. За наше Я Христос Бог ручается собственным Я, нисшедшим для нас до вочеловечения.
2
Выражались именно, что в Пресвятой Троице одна ипостась, принимая, впрочем, это слово (с латинского substantia) в смысле не лица, а сущности.

