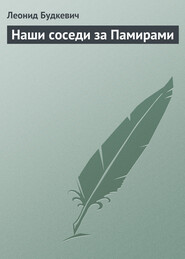 Полная версия
Полная версияНаши соседи за Памирами
Кафир-убийца изгоняется из родного селения на всю жизнь, дом его сжигается кланом или семьей убитого, а имущество его конфискуется мстителями, перед которыми убийца никогда не смеет показаться. Из таких убийц-изгнанников составляются целые селения в Кафиристане, но кафир может, однако, избежать изгнания, заплатив родным убитого вознаграждение; последнее бывает обыкновенно так велико, что такие случаи весьма редки.
Убийство, совершенное при самообороне, кафирами не оправдывается: «человек должен защищать свою жизнь, не убивая другого», говорят кафиры.
Вступая в страну кафиров, д-р Робертсон думал, что будет иметь дело с «дьяволами», но затем убедился, что если чистосердечие и откровенность не составляют характерных черт кафиров, то во всяком случае они много справедливее и честнее, чем их ненавистные соседи афганцы (упомянуто это д-ром Робертсоном, конечно, не в оффициальном рапорте). Привязанность к семье у кафиров очень развита, как развиты воинская доблесть и самопожертвование; высокие акты преданности родине, патриотизма, не удивляют кафиров.
Д-р Робертсон утверждает, однако, что все кафиры – жестокие хвастуны и любят пустить пыль в глаза иностранцу, но все эти недостатки бледнеют перед их достоинствами, перед храбростью, любовью к семье и независимости, перед доблестями великолепных воинов, девиз которых – «лучше смерть, чем вражеское иго».
Все это не мешает кафирам, по словам д-ра Робертсона, быть «интриганами и заговорщиками замечательно тонкими и хитрыми». В доказательство этого, автор приводит пространную историю, из которой видна лишь смертельная вражда кафиров к магометанам. Хорошо еще, что доктор-дипломат не отрицает смышлености у кафиров, весьма недюжинной, но о примере, им приводимом, он мог бы и умолчать.
Рассчитывая слугу своего, кафира, «особенной смышленостью не выдававшегося», д-р Робертсон уплатил ему по курсу индийскими рупиями, вместо рупий кабульских (более высоких). Произошел спор, – Робертсон доказывал верность своего рассчета вычислением на бумаге, «кафир считал по пальцам и рук и ног», и доказал, что британский дипломат ошибся. Другой пример лучше, – дипломат «долго практиковался» над производством какого-то фокуса, которым хотел подействовать на воображение полудиких кафиров, и когда, набив руку, фокус свой показал, немедленно один из присутствующих жрецов, с «обычными им приемами мистификации», сделал то же самое…
«Кафиры – идолопоклонники, – коротко решает д-р Робертсон, – но вместе с тем они и предков боготворят». Главный бог, создатель мира – Имра; за ним идут до двадцати богов второстепенных, мужского и женского пола, из которых Мони – самый древний, а Гиш, бог войны – самый популярный. Мелкие боги покровительствуют женщинам и детям. Известным богам приносятся в жертву и животные известные: так, для Имры закалывают коров, для Гиша – козлов, для богини Дизани – овец.
Гиша, бога войны, Имра создал чудесным образом. Гиш был великий воин и убил много людей, он убил и Гуссейна и, отрезав ему голову, играл ею в поле… Когда он умер или, точнее, оставил этот мир, последователи его разделились на две части, и если вы англичанин, например, то кафир вам скажет, что лучшая часть последователей Гиша ушла в Англию, а худшая осталась в Кафиристане.
В каждом селении обязательно имеется маленький храм (скорее – мавзолей) в честь Гиша, и по углам храма этого всегда размещены военные трофеи. Идолом Гиша является или простой, бесформенный камень, или условной формы фигура с головой, на которую жрец, во время жертвоприношения, сыплет муку и проливает жертвенную кровь.
Гиш – популярнейший бог кафиров, потому что война составляет жизнь их. Один из характернейших обычаев войны у кафиров состоит в том, что они посылают на неприятельскую территорию предварительно несколько пар молодых воинов, с целью тайного убийства и грабежа. Эти пары ночью, ползком, пробираются в ближайшее селение врагов, убивают сонных и спасаются бегством, часто преследуемые по пятам.
О возвращении с такой удачной экспедиции своих молодых воинов кафиры узнают по гимну богу Гишу, который они начинают громко петь, приближаясь к своему селению. Если герои эти возвратились вечером, то не входят в селение, а остаются на всю Ночь лагерем при входе в него, где всю ночь поют гимны и принимают поздравления односельчан; если же триумфаторы прибыли утром, то направляются к месту общественных танцев, где они и начинаются. Те, кому удалось убитых ими и ограбить, складывают перед идолами бога войны одежды убитых, а женщины, с которыми герои танцуют, осыпают их зерном. Танцы в этом случае производятся только под музыку барабанов, – флейты в честь Гиша не играют.
Если экскурсия была результатом междуусобицы, или если кто-либо из участников похода убит, – празднеств в честь бога войны не совершается.
Высшую любезность, которую можно оказать кафиру, это сказать, что «он на Гиша похож», а женщинам – «Гишпетри», т.-е. что она – «жена Гиша».
Кроме богов, кафиры веруют в многочисленных добрых и злых духов, фей, гениев и чертей, которых нужно умилостивлять, дабы не была уничтожена жатва. О злых духах и об Юше, главном из них, кафиры не любят говорить. Д-ру Робертсону очень хотелось добиться сведений о внешности этих злых духов, но старания его были безуспешны до тех пор, пока он не спросил: «что же, внешностью этот чорт на меня похож»?
– «О, нет! – отвечали ему. – Он похож только на простого англо-индийского солдата»! Таким только образом Робертсон узнал, что черти кафиров красного цвета.
В мифологии кафиров много места отводится раю, для праведников, и аду, где горят и мучаются грешники. Ад этот помещается в недрах земли, и при входе в него стоит сторож Арамалик.
Религиозные истории, слышанные Робертсоном, напоминают детские сказки, но некоторые из них очень любопытны. Кашмир для кафиров представляется священнейшим местом мира, ибо с Кашмира началось мироздание. Первый человек Кашмира, Адам, имел с женою своею много сыновей и дочерей, и обширная семья жила вместе. В одну ночь в семье этой произошло смешение языков, но так, что каждый мужчина, не понимавший других, понимал одну из женщин, которые в свою очередь друг друга не понимали. Это заставило детей Адама оставить Кашмир и попарно разойтись во все четыре стороны населять землю.
Кафиры утверждают, что они не боготворят предков своих, но д-р Робертсон уверяет, что видеть, как кафиры кропят жертвенной кровью памятники (деревянные резные столбы, или монолиты) и ставят вокруг дома различные припасы для теней своих отцов и дедов. Человеческих жертв в Кафиристане никогда не приносят, но для успокоения духа умершего воина перед гробом его убивают иногда военного пленника.
Меланхоликов среди кафиров д-р Робертсон не встречал и утверждает, что им совершенно неизвестно самоубийство.
Кафиры не молятся богам, – молитвы заменяются священными танцами, пением гимнов и жертвоприношениями, совершаемыми ютами – жрецами. Помощниками последних при совершении церемоний являются делибалала, певцы хвалебных гимнов, и шпуры – вдохновенные, впадающие в транс.
Животные, для употребления в пищу, могут быть убиваемы каждым кафиром, но при соблюдении строго установленных священных обрядов.
Седьмой (и далее) жрец по прямой линии в роде своем представляется лицом весьма значительным у кафиров. Устраивает ли он, или нет, народу те пиры и банкеты, о которых шла речь, – он все-таки пользуется громадным влиянием, почетом и привилегиями миров, т.-е. правом сидеть вне дома на четыреногих табуретах…
Такой жрец является обыкновенно предводителем клана, человеком с большим, для кафиров, состоянием и большими доходами… Делибалала, также как и жрецы, хотя и в меньшей степени, пользуются почетом, и потому они не должны осквернять себя прохождением по дорогам нечистым (около кладбищ, вблизи домов, где есть мертвец; вообще жрец не смеет приближаться в покойникам).
Этого нельзя сказать о пшурах, экстаз которых во время церемоний становится иногда таким неудобным, что жрецы и старшины должны взывать к Имре об укрощении вдохновенного; кафиры к ним чувствуют нескрываемое презрение и хотя верят их вдохновению, тем не менее и лгунами их называют.
Кафиры не жгут своих покойников и не хоронят их в земле, а помещают в больших деревянных ящиках, в горах, за селением, причем иногда настолько близко от последнего, что в дни, когда ветер дует с кладбища, оттуда несется нестерпимый запах… Ящики эти очень большие и складывается туда столько трупов, сколько ящик выдержит; впрочем, людей, при жизни пользовавшихся почетом, помещают в отдельных ящиках. Украшения над этими могилами, в виде кусков ярких материй, очень редки; крышки же ящиков обыкновенно завалены простыми каменьями, ради тяжести.
С покойниками помещаются в ящиках их костюмы (только ярких цветов), украшения (серьги, кольца и т. д.) и деревянные миски с топленым маслом и хлебом. Если ящик от времени развалится и кости покойников окажутся на виду, – на это никто не обратит внимания, но зато похоронные церемонии, по степени почета, которым пользовался покойник при жизни, соблюдаются тщательно и совершаются более или менее торжественно, причем вереницы плакальщиц, музыка, религиозные танцы и хвалебные речи умершему лучших ораторов – неизбежны.
Похороны одновременно бывают и пиром, – продолжающимся целый день, или даже дни, – на котором вино льется обильно. Особенно торжественны церемонии при похоронах убитых на войне с афганцами… При известии о смерти сына, отец его наносит себе раны, нередко очень опасные. Друзья, на месте сражения, отрезывают убитым головы и отправляют их в родное селение, где к головам этим прикрепляются соломенные чучела, одетые в лучшие костюмы.
Фигуры эти располагаются в тех помещениях, а летом на площадках, где происходят общественные танцы и где пир продолжается 2–3 дня, после чего головы убитых относятся, с обычными ритуалами, в кладбищенские ящики, а вокруг чучел еще 2–3 дня продолжаются пир и церемонии.
Пение вопленниц и речи ораторов очень драматичны; последние, подойдя к телу и внимательно всмотревшись в лицо убитого, закрываются плащом, горько рыдают и сквозь слезы начинают патетическую речь, в которой славят покойного, предков и семью его…
Описывая похоронные обряды, д-р Робертсон не мало говорит о непрерывной, при похоронах производящейся, стрельбе из многочисленных ружей, что не мешает ему в другом месте сказать, что «кафиры питают страх и отвращение к огнестрельному оружию» и «однажды разбежались в паническом ужасе, когда я им вздумал показывать ружье. Как же решались эти трусы „не раз“ конфисковать оружие» у д-ра Робертсона? Все эти противоречия почтенного автора не заключаются, впрочем, в одном и том же документе, а замечаются из сопоставления сообщения, сделанного им «Королевскому географическому обществу», в июне 1894 года, и оффициального Report'а, предназначенного в назидание правительству, но прессою широко цитируемого и напечатанного в декабре 1895 года, когда политические соображения заставили автора в возможно несимпатичном свете представить кафиров, как недостойных британского внимания. Это тем более прискорбно, что д-р Робертсон – единственный европеец, основательно ознакомившийся с этим действительно интересным народом, – а это дает право ожидать от Робертсона правды и только правды. Впрочем, нам кажется, что благодаря этим противоречиям, в которых так прозрачна тенденция – правда выступает еще ярче.
Но закончим речь о Кафиристане.
Постановка памятника покойному кафиру весьма недешево обходится родным умершего; они должны сделать пир всему селению, и тем более продолжительный и богатый, чем величественнее ставится памятник. Принципы здесь опять те же: «ты хочешь возвысить покойного над общим уровнем, – возвышай, чествуй его, но – плати за это тем, над кем ты его возвышаешь»! говорит народ.
С пиром этим неразлучны и танцы; конечно, в них принимает участие и памятник покойному, привязанный к спине невольника (если только памятник деревянный, а не монолит), вокруг которого и происходят танцы…
Д-р Робертсон особенно оригинальным при всех этих церемониях находит то, что рыдающие, обливающиеся слезами родные в то же время танцуют энергичнейшим образом.
Если смерть дает повод в Кафиристане многочисленным церемониям, то браки почти совсем обходятся без них. Влюбленный, или просто желающий жениться, кафир отправляет друга своего к отцу невесты с предложением и вопросом о цене… Бедный кафир обыкновенно платит за жену 8 коров, побогаче – от 10 до 12; очень состоятельному кафиру жена новая обойдется в 16–20 воров. В случае утвердительного ответа отца и если цена оказывается для жениха подходящая, он немедля является в дом невесты, где и приносится в жертву воза; в этом заключается вся церемония. На молодых смотрят, после этого, как на супругов законных; но новая жена кафира остается в доме отца и работает только на него, до тех пор, пока муж не уплатит всего, что следует за жену. Мы повторили выражение новая жена, ибо в Кафиристане господствует полигамия, и 4–5 жен у кафира не редкость.
Разводы весьма незатруднительны, и если есть охотники на жену его, кафир продает ее, как купил – без всяких церемоний. В случае смерти мужа, жены его переходят по наследству к братьям покойного, которые или оставляют их в качестве жен, или продают. К этим не совсем лестным для кафиров сведениям об их брачной жизни д-р Робертсон в «Report'е» прибавляет, что адюльтер у кафиров чрезвычайно развит и составляет для мужей доходную статью, так как супруг согрешившей требует и получает материальное вознаграждение со стороны любовника. Этот упрек в безнравственности по адресу полудикого народа, по меньшей мере, странен в устах представителя англо-саксонцев, у которых судебные процессы в divorce-court'ах, где муж ищет денежное вознаграждение за убытки (damage) с любовника и этим путем восстановляет честь свою – явление совершенно обычное и никого в цивилизованной Англии не поражает.
«Цивилизация, несколько столетий тому назад заснувшая в Кафиристане, спит и теперь», – заканчивает свой оффициальный «Report» д-р Робертсон; «воинственная раса могла бы прогрессировать в искусствах и цивилизации, но не изолированная раса кафиров, выродившаяся до того, что главные её селения сделались разбойничьими гнездами… Независимость свою им удалось сохранить лишь благодаря таким средствам, как ложь, обман, бегство… В их способах ведения войны нет ничего рыцарского»..
С этими рыцарскими способами войны кафиров вероятно ознакомят войска эмира Абдурахман-хана, снаряженные и вооруженные на средства Англии и обученные её инструкторами.
Раса кафиров перестанет быть изолированною и начнет должным образом прогрессировать под эгидой афганской.
* * *Вот против английской санкции этой-то эгиды и направлены протесты «Exeter Hall'а».
К первых числах января последовало воззвание о покровительстве «арийцам Гиндукуша», адресованное различным ученым и филантропическим обществам и подписанное именами, авторитетными в науке и обществе: Sayce'а (профессора в Оксфорде), графа Гобле д'Алвиеля, Л. де-Росни, А. Allen'а, В. Уадерберна и т. д.: на страницах «Times'а», «Morning Post» и др. органов ежедневно стали появляться письма, протестующие, полные негодования, образовывались митинги, подана была новая мемория маркизу Сольсбери и т. д. Правительство долго молчало, и наконец, во второй половине января, India Office заявила, что известие, будто эмир афганский овладел Кафиристаном, лишено вероятности, так как экспедиция должна отправиться лишь весною, а горные проходы завалены теперь снегом и льдом. С первой оттепелью поход станет возможным. Этим путем правительство санкционировало планы и намерения эмира и отвечало на полный негодования вопрос общественного мнения: «неужели Англия допустит этот постыдный акт»?
Заявление это не было такого характера, чтобы успокоить общество, и протесты с новой силой возобновились на страницах серьезных органов английской печати, даже консервативного лагеря.
Типом протестов этих может служить статья сэра Lepel Greffin'а в «The Saturday Review», от 18-го января, где в самой резвой форме автор статьи, когда-то объявивший Абдурахман-хана эмиром афганским, в качестве представителя Англии, обвиняет ее в том, что она продала кафиров за свою свободу действий в Читрале, и оправдывает эмира. Но договору Дьюранда, эмир отказался от претензий на Читраль, Дир и Баджаур, а Англия уступила (?) ему всю область кафиров до Читраля. Правда, Англия не имела права отдавать эмиру область, которая ей никоим образом не принадлежала, и над которой никогда не имелось и тени власти или контроля её, но эмир хорошо понял из этого, что Англия не окажет никакого противодействия его вторжению в Кафиристан.
Действия эмира были одобрены последним визитом доктора Робертсона (вторичным), которого в Кафиристан сопровождал солидный зскорт.
Кафиры в посещении этом увидели укрепление надежды их на покровительство Британии, что заставило эмира поторопиться с военными приготовлениями. «Доктора, как бы они храбры и решительны ни были, всегда плохие дипломаты, – говорит сер Гриффин, – будь они в южной Африке, или Читрале, и многие миллионы фунтов стерлингов оставались бы в казне, еслибы доктора эти занимались медициною, вместо впутывания нас в бесполезные распри и осложняющие положения, контролировать которые они неспособны… Еще не поздно. Горные перевалы будут до мая месяца покрыты снегом, и переговоры во-время могут остановить руку эмира… Мы взываем к патриотической партии, ныне у власти находящейся, да спасет она древний и рыцарский народ, да не допустит, чтобы британское оружие обагрилось кровью невинных»!
Прав ли сэр Л. Гриффин, говоря, что «еще не поздно»? Телеграммы собственного корреспондента «Times» говорят, что поздно. Афганцы владеют всей долиной Башголь и другими восточными долинами с 20–25 января. Но в чем состоят те «осложняющие положения», создаваемые докторами-дипломатами, на которые намекает сэр Л. Гриффин?
На это отвечает нам любопытная статья анонимного автора, в котором, однако, нельзя не видеть глубокого знатока востока, – в «Morning Post», от 14-го февраля.
«Походы в Читраль и Гунза-Нагар, увенчавшиеся успехом, не должны нас, однако, ослеплять до такой степени, чтобы мы воображали, что Барогильский и Малого Памира проходы защищают Индию от нашествия русских; упомянутые проходы исполняют задачу эту так же удачно, как защитил бы нас, в Лондоне, от высадки французов в Дувре, форт, построенный в Эдинбурге, или Инвернесе… Если договор Дьюранда заслуживает обвинения, то именно относительно того пути, о котором будет речь, – относительно пути, по необъяснимым причинам, скрытого от британского общества и лишь насмешливо названного – mervousness[11]. Тем не менее, именно в том направлении, которое этим названием указывается, должны ожидать мы русских, и через нашу измену открытый ныне Кафиристан совершится нашествие русских; это было прежде возможностью, теперь мы в этом должны быть уверены.
По договору Гренвиль-Горчаков, 1872 года, Россия с сожалением уступила Афганистану Бадахшан; теперь она в праве считать себя свободною, овладеть вновь Бадахшаном, как quid pro quo за наше предполагаемое движение вперед и неисполнение нашего слова, выразившееся в предоставлении вассалу нашему, эмиру, независимого и изолированного Кафиристана».
Мы не будем приводить in extenso обширной статьи востоковеда; в ней он, бесспорно страдая mervousness'ом, доказывает, как дважды-два четыре, что легко теперь русским, чуть ли не на законном основании, вторгнуться в Индию, и для большей ясности доводов приводит детальнейший маршрут, которому будут следовать русские войска по Бадахшану, и за который, быть может, автора поблагодарит со временем русский генеральный штаб… Нас в данном случае это мало интересует, и мы отмечаем лишь ту окраску, которую придали вопросу защитники кафиров, – окраску, которая не поможет делу и не облегчит участи народа, обреченного на мусульманское иго, именно вследствие страха перед нашествием России, – страха, в последнее десятилетие ничем не оправдываемого.
Кафиристан является лишь звеном в длинной цепи действий британской политики и в то же время звеном, соединяющем ту железную цепь, которую протягивает против нас Англия на северо-западной границе Индии…
Тщетны протесты достопочтенных людей науки, друзей мира и гуманности; с одной стороны, правительство обходит молчанием эти протесты, с другой – русские по неволе остаются только зрителями разыгрывающейся в Кафиристане истории, составляющей одно из наиболее темных пятен европейского владычества в Азии. Протестанты обещают энергичную атаку на правительство при предстоящем обсуждении в парламенте вопроса об уничтожении невольничества в некоторых колониях и надеются – если не остановить мусульманскую руку совсем, то возможно облегчить участь кафиров. Нельзя не пожелать им успеха!
Л. Б-ч.Лондон.Сноски
1
«Вестн. Европы», 1896 г., сент., 143 стр.
2
Сэр Lepel Griffin в «The Saturday Review», 18-го января 1896 г., гораздо определеннее говорит, что, по так-называемому договору Дьюранда, эмир обязался не вмешиваться в читральские дела, за что Англия обязалась уступить (?) ему Кафиристан (не входящий в сферу влияния даже?).
3
Далее мы увидим, насколько основательны эти аргументы оффициозного органа.
4
Exeter-Hall – здание, где происходят заседания некоторых ученых и религиозных обществ, конгрессы и т. д., и имеет значение нарицательное для религиозных и гуманных движений в Англии.
5
Такие компиляции имеются и в нашей специальной литературе: так назовем В. Григорьева «Кабулистан и Кафиристан» (отд. изд.: «Кафиристан», очерк г. Тарновского («Туркестанские Ведомости») и др.
6
Метар, или Мотар – значит: князь. Одновременно с этим имя это служит кличкою уличных метельщиков. Объясняется это тем, что правители восточных стран считали за особую честь подметать в чтимых мусульманами храмах. Так, напр., Дост-Магомет Кабульский подметал могилу Ламека в Лукмане, а Омар – мечеть в Кубе.
8
Несмотря на стать точное указание местонахождения г. Низа, такой авторитет. как де-Сен-Мартэн, относит его в открытую долину при слиянии Кабула со Сватом, где нет ни горы вблизи, ни плющ не ростет.
9
Г-н М. Соловьев («С.-Петерб. Ведомости» № 3) называет их сиагнушами, во в названии Siah-Posh сходятся все английские ориенталисты.
10
Сэр Раулинсон, Ф. Хольдидж, Лейтнер, Локкарт и др. – мнения совершенно обратного.
11
Nervousness – нервный страх; отсюда игра слов: mervousness – нервный страх, боязнь Мерва.



