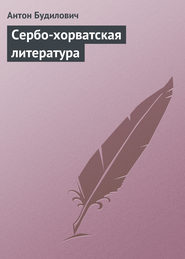 Полная версия
Полная версияСербо-хорватская литература
Подобный же характер носит на себе литературная деятельность боснийских францисканцев (в XVII и XVIII веках) и духовных книжников в Славонии (с начала XVIII века). Некоторое пробуждение и дух жизни виден лишь в сатирических опытах Рельковича и народных идиллиях знаменитого учоного Катанчича.
Прежде чем перейти от этих чуть еще мерцающих проблесков пробуждающейся на славянском юге духовной деятельности к более Дрин фактам литературного и политического рождения сербо-хорватского народа, мы остановился здесь на некоторых обнаружениях влияния России на сербо-хорватскую письменность этого среднего её периода. Между духовною деятельностию православных славян разных стран всегда поддерживалась тесная связь и взаимодействие. Литературная собственность болгар была с тем вместе полным достоянием Руси и Сербии и на оборот. Так было по крайней мере с их церковной письменностию. По счастливому стечению случайностей, или по действию более строгих исторических законов ослабление духовной деятельности в одной из этих народностей сопровождалось соответственным её усилением в другой, так-что, при взаимной поддержке духовная жажда каждой народности находила себе удовлетворение более или менее равномерное и непрерывное. В первый период Болгария делилась избытком своих книжных произведений с Русью и Сербиею. В XI веке Болгария падает, но за-то укрепляется и развивается новопросвещенная Русь. Когда же она в XIII веке подверглась монгольскому игу, то духовное представительство православного славянства перешло к Сербии. В конце XIV века сербское поражение на равнине Косовской отчасти вознаграждено было современной и соразмерной русской победой на ноле Куликовом: с XV века Россия должна была в другой раз спасать дело славянства и православия – и она его вынесла на своих плечах. Хотя сербская церковь не разделила судьбы сербского государства и пережила его падение, однако и она истощилась бы наконец в своих духовных силах и средствах, если б не получала нравственной и материальной поддержки от далекой Москвы, снабжавшей Сербию церковными книгами, утварью и т. д. На западе распространилось даже убеждение, что русская редакция славянских богослужебных текстов и есть нормальная древне-славянская. Этот предразсудок был разделяем между прочим и римской курией. Когда в начале XVII века папа для противодействия протестантизму должен был прибегнуть к снабжению своей славянской паствы богослужебными книгами, то в самом Риме стали печататься глаголические служебники, евангелия и т. д. исправленные Левановичем (по совету Терлецкого) по русским изводам. Точно также в XVIII веке издавал глаголические книги известный Караман. Этим положено начало искусственному образованию так называемого славяно-сербского языка, который господствовал в сербской литературе еще в начале нашего века. Быть-может в некоторой связи с этими ранними попытками литературного объединения русских и сербов стоит опыт образования искусственного хорвато-русского языка, предложенный в половине XVI века знаменитым хорватом Юрием Крижаничем (автором очень замечательной русской грамматики, сочинения о русском государстве и др.). Обаяние русского имени и влияние русского языка на славянском юге усилились в начале XVIII века, под впечатлением славных подвигов Петра Великого. В сербские провинции южной Австрии выписано было тогда из Киева много учителей, которые принесли с собой Смотрицкого, Могилу и другие русские учебные книги. Как утвердилось тогда в умах сербского образованного общества, особенно же духовенства, убеждение в полной пригодности для сербской науки и литературы этого под русским влияньем сложившагося тяжолого и неуклюжого славяно-сербского языка, видно из той жаркой оппозиции, какую встретили первые попытки ввести в сербскую литературу народный разговорный язык, сделанные знаменитым в сербской словесности Досифеем Обрадовичем (1739–1811). Он действительно является вестником уже нового времени и новых идей; но главная его заслуга заключается не в том, что он заговорил на письме народным языком – мы видели это и в Дубровнике – а в том, к кому и о чем он завел свою речь. Подобно своему единственному предшественнику на этом пути, Качичу, он обратил свою речь в народным массам, говоря языком для них доступным и о предметах для всякого интересных и полезных. В «Советах здравого смысла», и в своей «Жизни и приключениях» он имел целию передать народу те сведения и ту практическую мудрость, которую нажил собственным тяжолым опытом, своей скитальческой жизнию, полною тревог и приключений. Досифей был также небезучастным свидетелем завязавшейся в начале нашего века борьбы за освобождение и был первым устроителем школьного дела в возрожденной Сербии. Не бесследною для народного развития осталась также учоно-литературная деятельность протоиерея Раича, первого историографа сербского народа. Ново своему взгляду на литературный язык и способу изложения он принадлежит еще XVIII веку, переходному в сербской истории. Истинным же представителем и главным двигателем литературного возрождения сербского народа должен быть назван Бук Стефанович Караджич. Его пятидесяти-летняя литературная деятельность (1814–1864) произвела глубокий и благодетельный переворот не только в народном самосознании сербов, но и во взглядах науки на их язык, историю, этнографию. В произведениях народного творчества сербов, он открыл для изучения целый мир новых образов и звуков, понятий и идеалов, верований и преданий, неизсякаемый источник открытий для этнографа и вдохновений для художника. Сербская народная словесность, по ясности, широте и самобытности выражающагося в ней миросозерцания, несравненно выше всего, что создало до сих пор личное творчество сербских художников, и потому долго еще сравнительное достоинство последних будет измеряться по мере их приближения либо отдаления от этой неподвижной и возвышенной нормы. Этот взгляд определяет направление, господствующее в новой школе сербских поэтов и писателей. Вот почему издание произведений сербского народного творчества Буком составило эпоху в истории сербской словесности. Но этим не ограничиваются его заслуги: он первый собрал и рассмотрел в достаточной полноте состав и строй сербского народного языка, в разных его разветвлениях; своей теорией, примером и влиянием он более всех других содействовал установлению определенной нормы сербского литературного языка. В этом случае он оказал справедливое предпочтение звуковым и грамматическим особенностях так называемого штокавского говора, господствующего в южных, наиболее чистых этнографически и песенных местностях сербской площади и бывшего уже раз литературным органом дубровницкой поэзии. Вот почему эта реформа без значительного сопротивления была принята не только адриатическими чакавцами, но и загребскими кайкавцахи. Более споров и возражений вызвало другое нововведение Вука, хотя касающееся предмета более второстепенного, именно – правописания. До Вука у православных сербов, как и у русских, господствовало унаследованное от древности историческое или этимологическое правописание; Вук счел полезным заменить его фонетическим или звуковым, издавна господствующим в большей или меньшей мере у всех славян неправославных (даже у босняков). Но при этом он вдался быть-может в крайность, совершенно пренебрегши в правописании не только историею, но и этимологиею языка. Подобный метод пригоден конечно для фонетической транскрипции народных песен и сказок, имеющих значение не только для литературы, но и для диалектологии; но он едва ли удовлетворителен в приложении в языку литературному, который должен привести к некоторому, хотя и отвлеченному, единству неуловимое и бесконечное разнообразие местных говоров и поднаречий. Вот почему, быть-может, не совсем беспричинною была сильная и продолжительная оппозиция, с которою встретился на этом пути Вук. Вождем её был довольно известный в 30-х и 40-х годах сербский публицист, поэт и политик Иван Хаджич (Светич). Вук одержал однако победу, благодаря особенно безтактному образу действий оппозиции, которая уронила свое дело, поставивши его под эгиду самого непопулярного в Сербии правительства Александра Карагеоргиевича. Молодое поколение стало за преследуемую вуковицу и она окончательно утвердилась в сербской литературе, когда в 1859 году и в княжестве снято было с неё запрещение, наложенное в 1849 году.
В период, отмеченный именем Вука, сербская литература получила очень далекое развитие, хотя более в ширину, чем в глубину, то-есть более по количеству, чем по качеству появившихся произведений. её площадь постепенно расширялась и деятельность сосредоточивалась; появились литературные центры в Новом-Саде, Белграде, Загребе, Задре. Уровень народного образования возвышался, благодаря особенно плодотворной деятельности матиц (новосадской, кипрской, далматинской), или обществ для издания народных книг, учебников, газет и т. д. При каждой матице стал издаваться журнал (и «Сербский Летописец», «Книжник», «Далматинская Заря»). Если же многое, как в этих, так и других публицистических изданиях этого времени, представляет очень еще слабые школьные опыты, переводы, заимствования и подражания, то и это в свое время было полезно и даже необходимо, если оно удовлетворяло вкусу читателей и расширяло их круг. В программу нашего легкого очерка истории сербо-хорватской литературы не может входить подробный критический разбор и оценка литературных произведений новейшего времени. Мы отсылаем читателей к самому сборнику, где они найдут довольно подробные выдержки, из которых можно составить довольно определенное понятие о характере, направлении и достоинствах новосербской литературной школы. С другой стороны едва ли приспело время для исторической оценки писателей и их произведений, не подвергшихся еще пробе времени, не отошедших на такое от нас расстояние, с которого они могли бы быть видны в целости и естественном своем освещении. Мы должны поэтому ограничиться здесь самыми общими замечаниями о писателях и их произведениях, предоставляя эстетическому вкусу читателя произнести приговор над дарованием того или другого автора и достоинством его произведений.
Так-как журналы сделались первыми центрами новозародившейся литературы, то мы должны упомянуть имена лиц, потрудившихся на этом пути. Первым сербским журналистом или публицистом должен быть назван Димитрий Давидович, много помогший Вуку в проведении его литературных реформ и в обновлении сербского литературного языка. По следам Давидовича пошли затем: Иван Хаджич (Светич), известный составитель сербского «Законника», основатель Новосадской Матицы и противник Вука в вопросе о сербском правописании; Милош Попович, 20 лет стоявший во главе сербской журналистики; Феодор Павлович, враг иллирской теории, апостолом которой был знаменитый в свое время хорватский публицист Людевит Гай, благодаря почину которого хорваты приняли сербскую штокавщину, как общий литературный орган всех хорватов и сербов.
В сербской поэзии этого периода преобладает лирика и эпос; в области драмы сделаны были некоторые опыты более или менее удачные, причем произведения Матвея Бана, Суботича, Боговича, Деметера и, в особенности, Ивана Поповича и Лазаря Лазаревича приобрели известность; но все это не могло создать сербского народного театра, а тем более идти в сравнение с тем, что произвели новосербские писатели в области лирической и эпической. Правда, что в этом случае они имели пред собой неподражаемые образцы народного творчества; но, во всяком случае, заслуга этих писателей велика уже потому, что они серьозно занялись разработкой этого народного клада, мотивов народной поэзии и в некоторых случаях успели возвести сюжеты и мотивы безыскуственного народного творчества в перл искусства.
Уже епископ Лукиан Мушпцкий пробовал своя силы в лирике; но его оды писаны на языке несколько искусственном и ненародном, а содержание – отвлеченно и тенденциозно, хотя нельзя ему отказать ни в даровитости, ни в обилии мыслей и образов. Гораздо выше поднялся в своем лирическом одушевлении и эпической образности Сима Милутинович, которого упрекают лишь в недостатке полной отделки стиха и языка, несколько смутного и хаотического. По его следам пошол его ученик, знаменитый черногорский владыко Петр Петрович Негош, великий как государь, человек и поэт. Его «Горский венец», сборник аллегорических песен в драматической форме, стоит на высоте сербского народного творчества и принадлежит к числу популярнейших произведений сербской литературы.
Не мало произведений в лирическом и эпическом роде оставили также Суботич, Матвей Бан, Батянский, Медо-Пучич, Антон Казали, Утешенович, Териский, Прерадович, Богович, Вукотинович, Деметер, Ненадович, Явшич и некоторые другие. Поэтические же произведения, блеснувшего ярким, но летучим метеором, Радичевича, затем знаменитого учоного и политика Букулевича-Сакцинского, славного автора «Ченгич-аги» Мажуранича, образованного и благородного словенца Станка Враза, черногорского публициста и поэта Сундечича – их поэтические произведения могли бы занять почетное место и в литературе более богатой и развитой, чем сербохорватская. Художественная форма и высокая прелесть языка старых поэтов далматинских здесь соединяется с оригинальностию содержания и тона произведений сербского народного творчества. Соединение же этих двух условий и полная их гармония могут служить ручательством, что в этих опытах сербская литература имеет наконец сокровище, которое много грядущих поколений будет не только изучать, но и любить.
В числе названных корифеев новосербской литературы одни принадлежат сербам, а другие – хорватам. Мы поставили их рядом потому, что с сороковых годов, благодаря усилиям Людевита Гая и его загребских сотрудников, хорваты примкнули к литературному единству с сербами и на всем пространстве от Нового Сада до Цетинья и от Неготина до Реки употребляется теперь один литературный язык, созданный, как мы видели, Вуком. Разница осталась лишь в азбуке: католики пишут латинским алфавитом, а православные кириллицей. И это обстоятельство со временем должно быть устранено, так-как оно вредит распространению книг, напечатанных в Загребе в Сербию и на оборот, следовательно уменьшает сбыт или делает необходимым перепечатывание того же текста в двух видах.
Рядом с развитием литературы, и наука сделала уже значительные успехи в Сербии и Хорватии, особенно в последней. Имена Даничича, Букулевича и Рачкого сделали бы честь и всякой другой литературе. Издания Белградского Учоного Общества, а еще более Загребской Югославянской Академии заключают в себе много важного материала для местной истории и этнографии.
Можно надеяться, что это развитие сербской литературы и науки пойдет еще свободнее и успешнее, когда падет последняя преграда вольному её течению, состоящая в ненормальном политическом положении сербо-хорватских земель, и когда совершится более тесное – хоть литературное, если не политическое – сближение славян южных с западными и восточными.
А. Будилович
