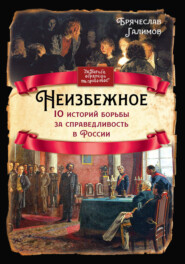скачать книгу бесплатно
– Вы отлично отразили удар, но я найду себе союзника в вашем лагере, – не унимался Чаадаев. – Вот что я слышал от очень умной и наблюдательной дамы: «Женщины молодого поколения читают романы Сю, Дюма в переводах и набираются самых глупых мыслей. Эти дуры не занимаются ни хозяйством, ни детьми, ни работой, а всё читают и выжидают какого-нибудь светского льва. Ведь для разговора в свете нужно знать «Mysteres de Paris» и «Вечного жида»». Интересно, что вы возразите на этот раз?
– Я догадываюсь, кто ваш союзник, – прищурилась Екатерина Дмитриевна. – Это, ведь, Александра Россет, по мужу – Смирнова? Я знаю её мужа Николая, у него прекрасное имение на Москве-реке… Это слова Смирновой, я угадала?
– Да, но как вы… – удивился Чаадаев, но Екатерина Дмитриевна перебила его: – Догадаться не сложно: она такой же неисправимый циник, как князь Вяземский, с которым она дружна. «Dis-moi, qui sont tes amis, et je te dirai, qui tu es» – «Скажи мне, кто твой друг…»
Вот что я вам отвечу. В этом пассаже подмечено нечто очень важное: сейчас изменилась сама жизнь женщин нашего круга, и чтение здесь сыграло едва ли не ключевую роль. Чтение романов «из другой жизни» порождает в наших бедных женских умах действительно «самые глупые мысли», – оно разрушает привычные представления о жизненном пути, предназначенном женщине, искушает возможностями перемены участи. Да, мы теперь поджидаем какого-нибудь «льва» вместо того, чтобы смириться с мужем, которого «послал нам Бог» и которого мы в лучшем случае терпим, но не любим. Разве сама ваша знакомая не пример этого? Её муж Николай Михайлович – образец хорошего супруга, но она не любит его и ищет общества блистательных мужчин. Я слышала, у неё бывают Жуковский, Пушкин, Одоевский, – она не пропускает ни одно яркое светило на небосклоне русской словесности. И после этого она же пишет о вреде женского чтения? Вам не кажется это непоследовательным?
– Сдаюсь! – Чаадаев поднял руки вверх. – Бомарше был прав, – его Марселина говорит в «Женитьбе Фигаро»: «Когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все, как одна, готовы защищать наш бедный, угнетённый пол от гордых, ужасных и вместе с тем недалёких мужчин».
– Бомарше отлично разбирался в женщинах, в отличие от князя Вяземского, – улыбнулась Екатерина Дмитриевна. – Я рада, господин Чаадаев, возобновлению нашего знакомства. У меня есть ещё много вопросов к вам: о религии, о России, о жизни, нашей и европейской, – et ainsi de suite, и так далее. Мне бы хотелось услышать ваше мнение.
– Боюсь, что вы преувеличиваете мои способности, тем не менее, всегда готов служить вам, – поклонился ей Чаадаев.
– Так я не прощаюсь с вами, – сказала она.
– Как вам будет угодно, сударыня, – ещё раз поклонился он.
– …Победа, Кити, победа! – радостно и возбуждённо воскликнула Екатерина Дмитриевна, пробравшись к своей подруге. – Я умно поговорила с ним, и он не прочь продолжить знакомство.
– Прекрасно, Катенька! – Екатерина Гавриловна не удержалась и поцеловала её. – Завтра же направлю своего Николая Васильевича с визитом к господину Чаадаеву, а там и до проживания в нашем доме недалеко… Что же, свою задачу мы выполнили, теперь можно потанцевать. Я передам тебе кавалеров на мазурку и котильон? У меня избыток.
* * *
Новая Басманная улица, где теперь жил Чаадаев в доме Екатерины Гавриловны Левашовой, была одним из самых тихих мест Москвы. Когда-то здесь находилась ремесленная слобода, затем проживали иноземные офицеры, командовавшие солдатскими полками.
Юный царь Пётр, возлюбивший прекрасную немку Елену («Алёнку») Фадемрех из находившейся неподалёку Немецкой слободы, часто ездил туда через Новую Басманную, ибо на этой улице он чувствовал себя будто не в Москве, а в любезных ему сердцу Голландии или Германии. К тому же, на иноземных офицеров он надеялся больше, чем на русских, которых подозревал в заговорах и покушениях на его особу. Таким образом, Новая Басманная улица и вслед за ней Немецкая слобода были как бы иноземной крепостью на пути из Москвы в царскую вотчину Преображенское. Там, за рекой Яузой стоял дворец, в котором вырос Пётр, и там же был выстроен страшный Преображенский приказ, в котором царский родственник Фёдор Юрьевич Ромодановский творил расправу над всеми подлинными и мнимыми врагами государя.
Царь Пётр настолько доверял Фёдору Юрьевичу, что пожаловал ему титул «князя-кесаря» и поручал все государственные дела в своё отсутствие; московские жители боялись «князя-кесаря», как самого дьявола, и говорили, что Ромодановский «видом, как монстр; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по все дни; но его величеству верный такой, что никто другой». Вместе с царем Пётром он люто пытал арестантов в застенках Преображенского приказа, отчего по Москве пошла молва: «Которого дня великий государь и Ромодановский крови изопьют, того дня они веселы, а которого дня они крови не изопьют, и того дня им и хлеба не естся». Говорилось это, конечно, на ухо и только своим, ибо самым лёгким наказанием за подобные слова было вырезание языка по горло, битье кнутом до костей и вечная ссылка в Сибирь.
Много народа было наказано в Преображенском приказе после того, как царь завёл новую пассию в Немецкой слободе – Анну Монс. В Москве её считали высокомерной, злой и весьма охочей до всяческих земных благ, которые она и её многочисленные родственники, пользуясь слабостью к ней Петра, получали в избытке. Царь щедро одаривал «милую Анхен» подарками: начал со своего миниатюрного портрета, украшенного алмазами, и двухэтажного дома в Немецкой слободе, построенного на казённые деньги, а закончил вотчиной с 295 крестьянскими дворами в Дудинской волости Козельского уезда и ежегодным пансионом в 708 рублей, – в то время как русские министры, главы Приказов, получали по 200 рублей в год. При этом царя бесили даже малейшие намёки на злоупотребления «Монсихи», как называли её в народе, – подобное злословие тоже приравнивалось к государственному преступлению со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями.
Некоторое удовлетворение пострадавшие за «Монсиху» смогли получить лишь через тринадцать лет, когда выяснялось, что она отнюдь не любила Петра и не была ему верна. В реке Неве утонул саксонский посланник Кенигсек; в его вещах нашли любовные письма от Анны и её медальон. Эти письма относились к периоду пятилетней давности, когда Пётр на полгода уезжал в Великое Посольство в Европу. Один иностранный представитель при русском дворе написал после этого об Анне Монс: «Она, хотя и оказывала Петру свою благосклонность, не проявляла нежности к этому государю. Более того, есть тайные сведения, что она питала к нему отвращение, которое не в силах была скрыть. Государь несколько раз это замечал и поэтому её оставил, хотя и с очень большим сожалением. Но его любовница, вследствие особенностей своего характера, казалось, очень легко утешилась».
Вскоре Анна вышла замуж за прусского посланника Георга-Иоанна фон Кейзерлинга, но через несколько месяцев он внезапно скончался. Тогда она нашла нового возлюбленного – пленного шведского капитана Карла-Иоганна фон Миллера, которого одаривала ценными подарками до тех пор, пока не скончалась от скоротечной чахотки.
Резкий поворот Петра в сторону Запада кое-кто из историков объяснял именно влиянием Анны Монс, «иноземки, дочери виноторговца, из любви к которой Пётр особенно усердно поворачивал старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остаётся немножко кривошейкою». Пушкин писал по этому же поводу: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, – при стуке топора и при громе пушек. Но Россия явилась перед изумлённой Европой не как равная среди равных, но окровавленная, с искажённым от ужаса лицом».
* * *
Во времена Петра и после него Новая Басманная улица превратилась в избранный район Москвы, где поселилась как старая, но европеизированная русская знать – Куракины, Голицыны, Головины, – так и «птенцы гнезда Петрова», вроде Демидовых. Положение изменилось лишь после пожара 1812 года, когда на месте сгоревших дворянских усадеб стали строить свои дома разбогатевшие купеческие семьи Алексеевых, Прове и Мальцевых. К моменту восшествия на престол государя Николая Павловича эта старая московская улица была отчасти застроена дворянскими домами, отчасти купеческими, отчасти – доходными, с квартирами под сдачу внаём.
Такая пестрота не мешала Новой Басманной по-прежнему считаться «избранной улицей»: одним из следствий этого было освещение её уличными фонарями.
Чаадаева забавляла эта черта «избранности», ибо фонари были всего лишь её внешним признаком, не принося почти никакой практической пользы. В народе их называли «конопляники», так как в них горело конопляное масло; сила света каждого фонаря была не больше 1–2 свечей, да и зажигали их только зимой, – но всё же за год на все московские «конопляники», по сведениям Управы, уходило 11 тысяч пудов масла и 20 пудов фитиля. В числе прочих причин подобного непомерного расхода было воровство конопляного масла фонарщиками, которые тайком сливали его, чтобы добавлять в кашу. Тогда чья-то умная голова придумала заменить конопляное масло хлебным спиртом, – надо ли говорить, что расход стал ещё больше! В итоге, в хлебный спирт начали добавлять нефть, дабы отпугнуть фонарщиков резким запахом.
…Вглядываясь из окна в темноту зимнего вечера, Чаадаев решительно ничего не мог рассмотреть, кроме тусклого света фонарей, и вспоминал стихи Пушкина:
Когда Потёмкину в потёмках
Я на Пречистенке найду,
То пусть с Булгариным в потомках
Меня поставят наряду.
Нужно было знать презрение Пушкина к Булгарину, перебежчику, служившему в 1812 году Наполеону, потом жандармскому осведомителю, издателю официозной «Северной пчелы», где он воспевал правительственную идею «православия, самодержавия, народности» и ругал русскую интеллигенцию за отсутствие патриотизма, – чтобы понять, насколько мерзко было для Пушкина встать наряду с Булгариным «в потомках», а стало быть, всю остроту этих строк.
Сам Булгарин объяснял неприязнь к себе Пушкина и многих других писателей завистью к своему успеху у читающей публики. «Им завидно, когда меня не без оснований называют Вальтером Скоттом русской литературы, – говорил Булгарин, – когда мои книги расходятся тиражами по десять тысяч, а их – едва по две».
Пушкин написал эпиграмму и на эти слова Булгарина:
Все говорят: он Вальтер Скотт,
Но я, поэт, не лицемерю:
Согласен я, он просто скот,
Но что он Вальтер Скотт – не верю.
Вдобавок ко всему Булгарин хвалился высочайшим одобрением своей деятельности: тремя бриллиантовыми перстнями, полученными от государя Николая Павловича, и именным рескриптом, в котором говорилось, что его величеству «весьма приятны труды и усердие ваше к пользе общей», и что его величество, «будучи уверен в преданности вашей к его особе, всегда расположен оказывать вам милостивое свое покровительство».
Чаадаев мрачно усмехнулся: на что уж царь Александр был далёк от образа идеального правителя, но Николай… Но не будем об этом, – позже, позже..
Он снова выглянул в окно – ничего не разобрать. Пора бы ей уже приехать, она живет неподалёку, – подумал он и нахмурился от этой мысли. Когда и почему эта женщина стала небезразлична ему? Вот он с нетерпением ждёт её прихода, а ведь ещё недавно ему казалось, что женщины больше не играют никакой роли в его жизни.
Он уселся в своё любимое кресло перед большой изразцовой печью, посмотрел на стол, на котором давеча лежали её перчатки. Тонкий запах духов от них по-прежнему ощущался в комнате; интересно, где она покупает такие духи? Какой необыкновенный волнующий запах…
* * *
В дверь постучали.
– Барин, к вам госпожа Панова, – раздался голос слуги Елисея.
– Проси, – поспешно отозвался Чаадаев, встал с кресла и поправил свой домашний, но сшитый по последней моде сюртук.
– Петр Яковлевич, к вам можно? – через минуту спросила Екатерина Дмитриевна.
– Oui, connectez-vous, – ответил он и прибавил по-русски: – Милости прошу.
Она вошла, на ней было широкое кремовое платье с кружевными воротником и рукавами; он отметил, что оно пошито с большим вкусом и очень её подходит.
– Какой мороз! – улыбаясь, сказала Екатерина Дмитриевна. – Щиплет за нос и щёки и пробирает даже сквозь шубу.
– Не прикажете ли горячего чая? – предложил он. – У меня есть настоящий китайский.
– Нет, благодарю, я пила дома, – отказалась она. – Если позволите, я сяду поближе к печке.
– Сделайте одолжение, – он придвинул ей своё кресло и, дождавшись, когда она сядет, присёл возле неё на стул.
– Вот я и приехала, – весело доложила она, грея руки около печи. – В прошлый раз вы обещали рассказать мне о своей жизни, – я вся во внимании. Мы можем говорить хоть целую ночь: я сказала дома, что останусь ночевать у Кити. Мой муж дорожит этим знакомством и не стал возражать.
– Как вы с ним живёте? – вдруг спросил Чаадаев. – Вы счастливы?
– Какие странные вопросы! Чисто по-гусарски, – несколько принуждённо засмеялась она. – Положительно, в вас осталось что-то от гусара.
– Вы хотели сказать, – какие дерзкие вопросы, – поправил он её. – Вы правы, я нарушил законы этикета, но у меня такое чувство, будто я давно вас знаю и имею право так спрашивать на правах друга.
– А мы с вами друзья? – она быстро взглянула на него и отвела глаза.
– Ещё раз простите мою бестактность, но я отвечу вопросом на вопрос: а сами вы как думаете? – ответил он, стараясь поймать её взгляд.
– У меня тоже такое чувство, будто я знаю вас давно, – ответила она и вновь рассмеялась, на этот раз от души: – Однако какую глупость мы говорим: мы ведь действительно давно знакомы, ещё по деревне!
– И опять вы правы, – улыбнулся он. – Вы называете меня умным человеком, а я не способен понять женщину.
– Не будем торопиться, – сказала она уже серьёзно. – Я сама приехала к вам, я готова провести у вас целую ночь: вы представляете, как это могли бы истолковать в свете?.. Что касается моего мужа, я вам отвечу откровенно. Счастлива ли я с ним? Нет. Если бы я была с ним счастлива, меня не было бы здесь: женщина отдается любимому человеку вся без остатка, – если она любит, ей нечего дать другому мужчине и она ничего не хочет от него.
– Ещё раз убеждаюсь, что вы напрасно хвалите мой ум; вы умнее меня, Екатерина Дмитриевна, – он взял её руку и поцеловал.
– Итак, вы сказали в прошлый раз, что надо знать вашу жизнь, чтобы понять ваши идеи, – отведя руку, сказала она. – Перед вами внимательный слушатель, – прошу вас, начинайте.
– Последний вопрос: почему вы решили слушать меня ночью? Я не боюсь сплетен, мне нет дела до условностей, но вы – другое дело. Я не прощу себе, если вы будете скомпрометированы.
– Почему именно ночью? – переспросила она. – Ночь – лучшее время для мечтаний и бесед, ничто не отвлекает вас; я, знаете ли, вообще ночное существо. Что касается компрометации, у Кити мне нечего бояться: в её доме заведён такой порядок, что никто посторонний не узнает о наших ночных разговорах.
– Я знал, что в России была Екатерина Великая, теперь я знаю ещё двух великих Екатерин, – с усмешкой заметил Чаадаев.
– Трудно понять, когда вы говорите комплименты, а когда – издеваетесь, – сказала Екатерина Дмитриевна.
3. Усадьба Е.Г. Левашовой на Новой Басманной улице, где в 1833–1856 годах жил П. Я. Чаадаев.
– Поверьте, я глубоко уважаю Екатерину Гавриловну и вас, – возразил он. – Это всё проклятая привычка к острословию – она часто служит мне дурную службу. Celui qui aime l’esprit, il ne conna?t pas la mesure, – или, как гласит наша русская пословица, «ради красного словца не пожалеет родного отца». Извините меня, ради бога.
– Я вас уже извинила… Ну же, где ваш рассказ? – спросила Екатерина Дмитриевна с ободряющей улыбкой.
* * *
– Извольте… – поклонился Чаадаев. – Для начала скажу немного о своём детстве. Я вырос круглым сиротой, мои родители умерли, когда я был ещё в неразумном возрасте. Меня с братом взяла к себе наша тётка княжна Анна Михайловна Щербатова, – вам не приходилось с ней встречаться в свете?
– Нет, только в Алексеевском, когда вы жили там, – ответила Екатерина Дмитриевна.
– Сразу видно, что вы редко выезжаете из дома: несмотря на возраст, моя тётушка не перестает любить танцы и часто бывает на балах. Другая её известная всей Москве слабость – чрезвычайная смешливость. Ma tante Anna начинает хохотать до упаду от самых безобидных вещей: однажды её чуть не уморил до смерти лакей, который с третьего раза не мог выговорить польскую фамилию одной из наших дам «Бжентештыкевич-Пржездзецкая».
Впрочем, Анна Михайловна – милейшая женщина, исполненная благости и самоотвержения. Узнав, что наша мать умерла вслед за отцом, и мы с братом Михаилом, совсем маленькие, остались без надзора в нижегородском имении, она бросилась к нам из Москвы ранней весной, по бездорожью, и вывезла нас к себе, – позже она любила рассказывать, как едва не утонула, переправляясь в половодье через Волгу. Всю свою нерастраченную любовь tante Anna отдала мне и брату, мы были и есть счастье всей её жизни. Я запомнил из детства такой случай: находясь в церкви, мы услышала крик прибежавшего слуги: «У нас несчастье!» Оказалось, что в нашем доме случился пожар. «Какое же может быть несчастье? – спокойно сказала тетушка Анна. – Какое же может быть несчастье, когда дети оба со мной и здоровы».
Мы выросли в её доме на Арбате, в приходе Николы Явленного…
– Отчего же вы сейчас не живёте у неё? – перебила Екатерина Дмитриевна.
– Тётушка до сих пор видит во мне ребёнка; её заботы трогательны, но скоро начинают надоедать. Она непременно должна быть рядом, ей постоянно нужно видеть меня и знать всё, что со мной происходит. То же относится к брату; вот что она написала нам, – он взял со стола письмо и прочитал: – «В вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами». Увы, любовь тоже бывает докучной, – можете счесть меня неблагодарным, но я предпочитаю навещать тётушку Анну, чем жить с ней под одной крышей, – сказал Чаадаев.
Екатерина Дмитриевна кивнула в знак того, что понимает его.
– Нашим опекуном был дядя Дмитрий Михайлович, брат тётушки Анны, – продолжал Чаадаев. – Он сохранил наше состояние, насчитывающее две тысячи семьсот восемнадцать душ и почти миллион рублей ассигнациями.
– Я не представляла, что вы так богаты, – удивилась Екатерина Дмитриевна.
– Был когда-то: гвардейская и гусарская молодость, а после жизнь за границей съели почти всё моё богатство, остались лишь жалкие крохи, – усмехнулся Чаадаев. – Но я продолжу с вашего позволения… Тётушка нас баловала и попустительствовала нам решительно во всём: из-за неё я рос своевольным ребенком. Дядюшка не препятствовал этому: он сам был донельзя своенравен, самолюбив и чрезвычайно капризен; прибавьте особое барское великолепие, которое встречается только в России, а также большой ум, – и вы поймёте, что я многое заимствовал от него.
Не надо забывать, что он принадлежал к тем людям екатерининской эпохи, для которых идеи французского Просвещения были жизненный энергией, основой и смыслом существования. Сама матушка-императрица до известных событий во Франции, когда чернь уставила площади гильотинами и с них посыпались просвещённые дворянские головы, была расположена к своим друзьям-просветителям. Дидро жил при её дворе в Петербурге; по совету Дидро она пригласила к себе Фальконе, создавшего «Медного всадника». С Вольтером, Даламбером, Гриммом она переписывалась в перерывах между своими альковными забавами, присоединением новых земель и усмирением крестьянских бунтов; внимательно читала Ивана-Якова Руссо, не допуская его, однако, до русской публики.
Сына Павла ей не дала воспитать в просвещенческом духе императрица Елизавета Петровна, взявшая на себя заботу об этом нашем взбалмошном императоре, но зато Екатерина воспитала своих внуков Александра и Константина, как она того хотела. В то время мы присоединили Крым и мечтали уже об освобождении Константинополя; по замыслу Екатерины, Александр должен был воссоздать великую империю своего тёзки Александра Македонского, а Константин, подобно Константину Великому, воцариться в Константинополе.
Но, конечно, им надлежало быть просвещёнными монархами, философами на троне, а для этого следовало соответственно воспитать их, – откуда же, как не от просветителей, можно было заимствовать правильную программу воспитания? Екатерина собственноручно написала её, не забыв ни умственные, ни физические упражнения, но главным образом уделив внимание развитию благородных чувств. Именно в благородстве чувств в сочетании с естественными порывами Дидро, Вольтер, Руссо и иже с ними видели залог воспитания высокой личности; всё что мешало осуществлению этой задачи надо было решительно отбросить, невзирая на укоренившиеся предрассудки. Самым большим предрассудком, самым большим злом в деле воспитания была порка… Вас пороли в детстве, Екатерина Дмитриевна? – спросил Чаадаев.
– Меня? – удивилась она этому вопросу. – Нет. Меня оставляли без сладкого или заставляли сидеть одну в комнате.
– Вот видите! – сказал Чаадаев. – Мы с вами оба принадлежим к «непоротому поколению», а ведь мало кто из наших предков может похвастаться тем же. Во времена наших отцов детей пороли нещадно, в хижинах и дворцах, – и никому не приходило в голову, что это плохо. Напротив, общепринятое мнение гласило, что от порки дети делаются умнее и лучше, что розга и ремень изгоняют из них всё плохое. Екатерина в числе первых стала утверждать обратное; не довольствуясь словами, она категорически запретила пороть своих внуков, – наказания для них не должны были унижать человеческое достоинство, не должны были оскорблять и озлоблять детей. «Насилие по отношение к ребёнку не может быть оправдано никогда и ничем», – повторяла она слова просветителей, а заодно воспоминала рассказ Руссо о том, как порка в детском возрасте вызвала у него сладострастные чувства, сродни тем, которые описал маркиз де Сад, – только наслаждение происходило не от причинения, а от получения наказания. В екатерининский век наслаждения всякого рода были широко известны в обществе, поэтому ей не надо было пояснять, о чём идёт речь, – таким образом, вред порки был очевиден.
Подражая императрице и проникнувшись просвещенческими идеями, все образованные люди перестали пороть детей; порка ушла даже из учебных заведений, где она была введена указом Петра Великого в обязательном порядке по средам и субботам, вне зависимости от вины, «чтоб учение крепче было». Правда, указы Екатерины не касались низших сословий: мужиков продолжали бить кнутом, рвать им ноздри и выжигать клеймо на лбу. Полусумасшедший Павел тем полюбился народу, что запретил рвать ноздри, а кнут заменил плетьми; народ горько жалел о его смерти, хотя послабление, надо заметить, не столь большое.
Знаете, мне кажется, что в нашем народе есть что-то нездоровое, того же рода, что сладострастие от получения наказания, описанное Руссо, – сказал Чаадаев, скрестив руки на груди. – Некий молодой писатель из литовцев, – не помню его фамилию, заканчивается как-то на «ский», – уверяет, что можно испытать наслаждение, когда кнут ложится на вашу обнажённую спину, рвёт кожу и брызгает кровью. Мне думается, что этот писатель точно уловил одну из глубинных сущностей русского народа, который любит мучения и наслаждается ими.
Но не будем забегать вперёд… Да, мы принадлежим к «непоротому поколению», отсюда – не только из-за этого, но в том числе, – благородство душ, «высокие порывы», как написал Пушкин…
– О, я помню это стихотворение! Александр Сергеевич вам его посвятил! – воскликнула Екатерина Дмитриевна.
– Я горжусь этим, – кивнул Чаадаев, – но мы снова забегаем вперёд: о Пушкине, о нашей молодости, о нашем служении России мы ещё поговорим…
Всего одно непоротое поколение, а сколько славных деяний, сколько великих свершений, – одна выигранная война с Наполеоном чего стоит! – сколько высоких помыслов! Сейчас всё не так, – вздохнул он. – Подлость и низость видим мы повсюду, а детей снова бьют и считают это полезным. Недавно я имел разговор с молодой дамой: она жаловалась мне на своего сына, – мальчик, де, умный, но шаловливый, приходится его часто пороть, чтобы привести к порядку. «Что же вы надеетесь из него вырастить?» – спросил я. «Порядочного, хорошего человека», – ответила она. «Если вы достигнете этой цели, вы будете первая, кому это удалось с помощью розги», – сказал я. Она удивилась и не поверила, а я понял, что выпал из времени.
***.
– Но я говорил о своём дядюшке, – продолжал Чаадаев. – Его целью было дать нам обширные и глубокие знания, в чём он весьма преуспел. От своего отца, моего деда, – президента Камер-коллегии, тайного советника, сенатора, историка, экономиста, философа, моралиста, естествоиспытателя, энциклопедиста и вольнодумца, – дядюшка получил в наследство огромную библиотеку в пятнадцать тысяч книг. Они стали моими первыми учителями, а дядюшка дополнял моё образование своими беседами, удивительно чёткими и стройными по существу и форме.
Вскоре он нанял нам с братом для занятий немца Иоганна Буле, выпускника Гёттингенского университета и ординарного профессора Московского университета. Буле читал в университете лекции по истории философии, естественному праву, философским системам Канта, Фихте и Шеллинга, логике и опытной психологии, по истории и теории изящных искусств, греческой и римской литературе. Занятия с ним были духовным пиром, вроде пира Платона. Благодаря этому учёному немцу, философия перестала казаться нам скучной наукой, она стала для нас праздником ума и орудием постижения мира. Остаётся добавить, что Буле был неплохим репетитором в языках: он хорошо знал греческий, латинский, еврейский и владел всеми новоевропейскими языками. Надо ли удивляться, что мы без труда выдержали вступительные экзамены, и уже в четырнадцать лет я стал студентом Московского университета, моей alma mater, вскормившей меня духовной пищей.
Моими однокурсниками были Александр Грибоедов, Николай Тургенев, Василий Перовский, но ближе всех я сошёлся с Иваном Якушкиным, кузеном нашей милой хозяйки Екатерины Гавриловны. Мы были с ним друзьями в университете, вместе воевали с Наполеоном, вместе состояли в тайных обществах, которые были разгромлены нашим нынешним императором и о которых теперь запрещено вспоминать. Кто бы мог подумать, что Иван меня предаст, а сам будет гнить на каторге! – вздохнул Чаадаев. – Но здесь я опять опережаю своё повествование, – не будем спешить, вернёмся назад…
Помимо учёбы, второй моей страстью был высший свет – всё что с ним связано. Наверное, это можно назвать тщеславием, но я поставил себе целью лучше всех одеваться, танцевать, полностью освоить принятую манеру поведения. Мне это удалось – скоро меня стали называть самым блестящим из всех молодых людей московского большого света… Жаль, что вы не захотели потанцевать со мной на балу в Благородном собрании, – право же, я не ударил бы лицом в грязь и не посрамил бы моё поколение в глазах молодёжи! – гордо произнёс он.
Екатерина Дмитриевна улыбнулась:
– Надеюсь, мы с вами ещё потанцуем.
– Будем надеяться, – сказал Чаадаев. – …Студенческие годы промчались быстро; мне предлагали остаться в университете, прочили в будущем профессорскую должность. В другое время, возможно, я остался бы, но в воздухе уже ощущалось приближение военной грозы, и вместе с братом я поступил на службу в лейб-гвардии Семёновский полк. Там раньше служил наш дядя, – он сделал нам протекцию и нас взяли подпрапорщиками.
Военная подготовка полка была слабой: мы больше готовились к парадам, чем к войне, – сказал он с горечью и досадой. – Батальонные и полковые учения проводились исключительно с расчётом на парады: по приказу государя Александра Павловича батальонные учения следовало проводить один раз в семь дней, полковые – один раз в пятнадцать дней, делая упор «на твёрдость шага и красоту передвижения шеренги». Полк в любой момент должен был выступить по тревоге… как вы думаете, для чего? Для войны? Отражения угрозы неприятельского вторжения? Вот и нет: для того, чтобы по прибытии высоких иностранных гостей блеснуть в парадном строю.
Лишь после позора Аустерлица стали проводится регулярные учения по стрельбе и действиям полка в атаке и обороне, – да и то они отменялись всякий раз, когда нужно было приготовиться к очередному параду. Последнее я видел своими глазами: в начале двенадцатого года перемен было мало…
Однако война двенадцатого года – это отдельная тема, а мне всё кажется, что вы устали, – Чаадаев взглянул на Екатерину Дмитриевну.
– Да нет же, – с досадой ответила она. – Откуда у вас такое неверие в интерес к себе? С одной стороны, вы гордитесь собой, с другой – постоянно принижаете себя.