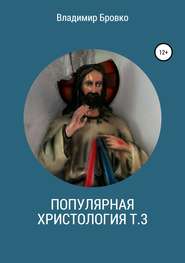
Полная версия:
Популярная христология. Т. 3
Пилат еще не забыл ту неприятную историю и не хотел новых неприятностей.
Иерусалимские вожди были в курсе всех финансовых «секретов» римского прокуратора, поскольку имели свою «агентуру» в окружении Пилата.
Очевидно, что у этих вождей был «компромат» на римского прокуратора. Последний крайне боялся, что этот «компромат» попадет к Тиберию – последовательному борцу с коррупцией и злоупотреблениями римских чиновников.
Еврейские вожди умели обеспечить нужные им лжесвидетельства. На допросе у первосвященника они добились ложных показаний, согласно которым Иисус якобы планировал разрушить Иерусалимский храм.
На суде у Пилата они сказали прокуратору, что Иисус якобы объявил себя царем Иудейским. Также они оклеветали его, сказав: «Он возмущает народ». Там же у Пилата они нагло заявили: «мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю». Как известно, Христос незадолго до этого судилища четко ответил людям, посланным от фарисеев: «отдавайте кесарево кесарю». Все это показывает, что иудейские вожди были коварными лжецами.
Кроме того, они прекрасно умели управлять настроением простого народа. Мы помним, что Понтий Пилат предложил «амнистировать» Христа: согласно бытовавшему обычаю, разрешалось на праздник еврейской пасхи отпустить одного из узников. Однако еврейские вожди буквально за несколько минут сумели убедить народ отпустить не Христа, а разбойника Варавву: «Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву».
Наконец, иудейские вожди прекрасно владели оружием шантажа. Вспомним, что окончательно сломили Понтия Пилата следующие слова иудейских вождей, адресованные прокуратору: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю».
Иудейские вожди выбирали самые «чувствительные точки», когда оказывали давление на Понтия Пилата. Заметим, что Понтий Пилат, как прокуратор, прежде всего отвечал за то, чтобы с подконтрольной ему территории регулярно и в полном объеме поступали налоги в римскую казну.
Присвоение Христу титула «Царь Иудейский» могло в Риме быть воспринято так: в Иудее начинается борьба против уплаты налогов Риму под предводительством очередного местного бунтаря.
Именно так началось во II веке до н.э. в Иудее восстание Маккавеев, которые требовали не какого-то абстрактного «политического суверенитета» и независимости от империи Селевкидов, а активно призывали не платить налоги сирийскому царю. А это предположение усиливалось лживым утверждением иудейских вождей, что Христос «запрещает давать подать кесарю».
Напомним, что в совете у первосвященника Каиафы было принято решение «взять Иисуса хитростью».
Поэтому был задействован весь арсенал «грязных» приемов и технологий для решения поставленной задачи. Надо напомнить, что первое «грязное» средство, которое было использовано иудейскими вождями против Христа, – подкуп Иуды Искариота, который за 30 сребреников предал Иисуса Христа в руки этих вождей. Кстати, не лишне напомнить, что эти самые сребреники первосвященники взяли из казны храма. Вполне вероятно, что лжесвидетельства, необходимые для суда, они также получали с помощью подкупа.
Впрочем, могли использоваться и методы запугивания. Вспомним, например, историю со слепым от рождения, которого исцелил Христос. Фарисеи начали проводить расследование этой истории и вскоре вышли на родителей слепорожденного.
Они начали допрашивать их, однако родители испугались фарисеев и фактически отказались отвечать, ссылаясь на то, что ничего не знают. «Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги».
Итак, мы назвали основные «технологии», которые позволили иудейским вождям на суде у Понтия Пилата добиться быстрого принятия нужного им решения и исполнения его руками римлян.
Иисус Христос был распят римскими воинами, а иудейские вожди формально оказались в стороне и от принятия решения о смертной казни, и от его исполнения. Не помогло даже эффектное заявление Пилата в конце спектакля под названием «суд», что он «умывает руки».
Данная история, кстати, позволяет лучше понять, почему на протяжении многих веков еврейские вожди столь успешно оказывают давление на государственные власти разных стран и добиваются исполнения принимаемых властями решений чужими руками, но в своих интересах.
На поразительное сходство в поведении Понтия Пилата и современных политиков обращают внимание многие авторы.
Например, английский писатель и журналист Дуглас Рид писал применительно к политикам своего времени (период между Первой и Второй мировыми войнами) следующее:
«Римский правитель Пилат всячески пробовал то одним, то другим путем уклониться от настойчивых требований “старейшин”, чтобы Христос не был предан смерти. Он был, однако, прототипом нынешних британских и американских политиков и боялся могущества еврейской секты больше всего другого. Как и политики девятнадцать столетий спустя, Пилат понимал, что, не выполнив требований секты, он впадет в немилость у своего правительства и будет смещен.
Есть большое сходство между Пилатом и британскими губернаторами в Палестине периода между Первой и Второй мировыми войнами».
Вот такое мнение В.Ю, Касатонова! При этом обращаю ваше внимание уважаемый читатель, что книга вышла в 2013 г. а очерк Кирила Коликова в 2011 г. Но по многим вопросам из мнений совпадают на 100%, хотя приоритет конечно принадлежит Коликову, а вот полнота и главное достоверность и объективность изложения за Касатоновым. Изложения
Теперь я предлагаю читателям ознакомится и с еще одной частью из книги В.Ю, Ксатонова.
Раздел называется «Бизнес Иерусалимского храма: видимая часть»
А после его прочтения я надеюсь, что читатели сами убедятся в том, что вышеприведенные мною отрывки из четырех синоптических евангелий, показывают нам что их авторами не являются апостолы –современники Христа, и эти» книги» были написаны в лучшем случаями учениками-учеников Христа ибо эти люди никогда не жили в Иерусалиме и не посещали его Храм.
Который кстати ко времени написания вышеуказанных Евангелий вследствие новой иудейско-римской войны был полностью вместе со всем городом Иерусалимом римлянами сожжен, разграблена затем почти полностью и разрушен.
И так внимательно читаем:
«Помимо «фискальных» доходов, поступавших в казну храма, финансовая олигархия Иудеи также получала «коммерческие» доходы, которые, судя по всему, в казну храма не поступали и официальному учету не подлежали. Для этого вокруг храма была организована коммерческая деятельность, которую условно можно разделить на две части:
а) видимая;
б) невидимая (или по крайней мере не афишируемая).
О видимой части бизнеса Иерусалимского храма мы узнаем из Евангелий, в которых говорится об изгнании Иисусом Христом торговцев и менял из храма. Это торговля животными и птицами и обмен денег.
Сначала о торговле.
В течение года в Иерусалиме происходило несколько праздников (главный из них – Пасха), на которые стекалось громадное количество людей – как из Иудеи, так из других стран и регионов.
На этом стечении народа зарабатывали все или почти все жители Иерусалима, предлагая паломникам прежде всего пропитание и кров. Кроме того, паломникам необходимы были животные (коровы и овцы) или птицы (голуби) для жертвоприношений в храме. Поэтому как в самом Иерусалиме, так и на подступах к нему разворачивалась торговля животными и птицами.
Впрочем, основная торговля живностью почему-то осуществлялась не в городе, а на территории самого храма, что превращало место молитвы в шумный базар.
Финансовые олигархии стремились монополизировать торговлю жертвенными животными и птицами, держать ее в своих руках.
Торговля на территории храма была полностью им подконтрольна.
Но цены на живой товар на территории храма были крайне высокими по сравнению с теми, которые существовали в городе.
Почему же паломники покупали такой дорогой товар?
– Все очень просто: служители храма проводили проверку приводимого или приносимого извне живого товара на «кошерность», т.е. его соответствие стандартам качества (отсутствие дефектов).
Чужой товар после проверки крайне редко получал положительное заключение. Приходилось покупать товар здесь же в храме, но втридорога.
Например, пара голубей, которая за пределами храма стоила один сикль, в храме стоила в двадцать раз больше. Это был неприкрытый грабеж бедных и скромных паломников, которых фактически шантажом принуждали покупать животных для жертвоприношения в храмовых лавках.
Теперь об обменных операциях.
Паломники прибывали в Иерусалим со всех концов света и привозили самые разнообразные монеты (более двадцати разновидностей) – в основном римские и греческие.
Преимущественно серебряные, но изредка среди них попадались и золотые. Этими монетами нельзя было осуществить уплату храмовой подати, т.к. они содержали языческую символику. Так, самой распространенной монетой в Палестине во времена Христа была серебряная монета антиохийской чеканки – тетрадрахма, приравненная по весу к 4 динариям римской чеканки.
Изображение кесаря, а также надпись на антиохийских и римских монетах, в которой он именовался «TI. CAESAR DIVI. AVG. F.» – «Тиберий Цезарь, сын божественного Августа», делали эти деньги непригодными для прямых взносов в ветхозаветный храм.
Их надо было поменять на монеты еврейской чеканки – единственные деньги, которыми можно было уплачивать храмовую подать. Количество таких монет было ограничено, в свободном хождении их почти не было.
С 15 по 25 число месяца, предшествовавшего пасхе, официальные менялы устанавливали лотки в главных городах Палестины для обеспечения паломников монетами еврейской чеканки.
После этого десятидневного периода менялы перебирались в Иерусалим и начинали устанавливать свои столы в пределах ограды храма.
Учитывая дефицит монет еврейской чеканки, обменные операции были очень выгодными для менял, соответственно – грабительскими для паломников.
По разным оценкам, комиссия при размене составляла 30-40 процентов, а при размене монет крупного номинала – и того больше. Существовало что-то наподобие прогрессивной шкалы по комиссионным платежам.
В Талмуде сказано: «Нужно, чтобы каждый платил за себя полсикля и потому, если кто придет разменять сикль на два полсикля, он должен оставить меновщику какую-то прибыль».
Известный английский комментатор Нового Завета Уильям Баркли говорит, что комиссия менял равнялась 1/12 сикля с каждого полсикля.
Получается комиссия в размере 1/6.
При монете большего номинала комиссия увеличивалась: за каждые полсикля сдачи удерживалось еще 1/12 сикля.
Таким образом, если приходил человек с монетой эквивалентной стоимостью в два сикля, он должен был уплатить 1/12 сикля за размен и еще 3/12 сикля, чтобы получить сдачу в 3 полсикля.
Всего с предъявителя монеты удерживалось 4/12 сикля, что в те времена равнялось среднему дневному заработку.
Таким образом, для человека, предъявившего монету в 2 сикля, комиссия была фактически равна 2/3 по отношению к величине храмовой подати.
У. Баркли пишет, что «по-гречески эти комиссионные назывались коллубос, а меновщики денег – коллубустай.
От этого слова произошло имя Коллибос в греческой и Коллибус в римской комедии, что значит почти то же, что Шейлок в английском».
Давайте теперь посмотрим, каковы были общие обороты торгово-разменного бизнеса в Иерусалиме.
Для этого нам надо представить, сколько людей стекалось на праздники в храм. Сошлемся на Иосифа Флавия.
Он рассказывает, что однажды при Нероне священники сосчитали людей, которые явились на праздник пасхи в Иерусалим.
«Священники сосчитали 256.500 жертвенных агнцев. А за каждым столом за одним агнцем сидело не меньше десяти человек. Бывало и так, что за таким столом сидело до двадцати человек. Но если даже считать на одного агнца десять человек, то мы все же получаем 2.700.000 душ».
Если исходить из этой оценки, то получается, что на праздник Пасхи приходил примерно каждый третий из общего числа проживающих в Римской империи иудеев.
Предположим, что из тех, кто приходил в Иерусалим, платил храмовую подать лишь каждый пятый (взрослый мужчина, остальные – женщины, дети, старики). Это с одной стороны.
Но с другой, каждый приходивший в Иерусалим мог платить не только за себя, но также за своих родственников, соседей, друзей, которые по тем или иным причинам не смогли пуститься в путешествие.
Полагаем, что в казну храма во время праздника поступали подати по крайней мере за 1 миллион человек. Это как минимум полмиллиона сиклей.
Если даже взять консервативную оценку комиссии по обменным операциям равную 20 процентам, получим сумму комиссионного дохода менял равную 100 тысячам сиклей.
Если пересчитать в таланты, то получим сумму податей равную 200 талантам, а сумму комиссионного дохода менял – 40 талантам.
Надо иметь в виду, что и торговцы, и менялы получали лишь часть своих баснословных доходов.
Они должны были «отстегивать» часть полученного тем, кто давал им место на территории храма, т.е. финансовым олигархам Иерусалима. Нам неизвестно, какова была эта доля, но полагаем, что львиная.»
А теперь о главном. В каком же месте в Иерусалиме происходил обмен римских и греческих денег на иудейский полусикль?
В.Ю. Касатонов утверждает:
«С 15 по 25 число месяца, предшествовавшего пасхе, официальные менялы устанавливали лотки в главных городах Палестины для обеспечения паломников монетами еврейской чеканки.
После этого десятидневного периода менялы перебирались в Иерусалим и начинали устанавливать свои столы в пределах ограды храма.»
Итак, мы узнали, что древние иудейские торговцы и меняли, не располагали на территории Храма, а только в пределах его первой ограды.
Ну и раз так-то давайте и вникнем и в вопрос как же был построен на Храмовой горе Второй иудейский храм.
Вот исторически (на основании археологических раскопок) представлены на фото проекты реконструкции Храма и прилегающих к нему территорий.
И вот что написано в одной из самых известных мировых энциклопедий о Втором Храме и его дворе https://ru.wikipedia.org/wiki/Второй_Храм
Двор Храма
«За внешней стеной простирался двор, поражавший язычников своей величиной. Сюда сгонялись для продажи жертвенные животные, здесь же устраивались меняльные конторы, особенно перед праздниками. Площадь (Рэхават а-байт) была вымощена камнем и имела много фонтанов.
Как внешние галереи Храма, так и площадь называются у христианских писателей двором язычников, поскольку доступ сюда был открыт всем, включая язычников.
Кроме язычников, сюда могли входить и евреи, которые находились в состоянии нечистоты и даже те, кто подвергся отлучению (херем). У Флавия внешний двор носит различные названия: внешнее, нижнее, первое святилище, в Талмуде он называется «мирским двором» (Хель).
Итак, я надеюсь, что вы уважаемые читатель сами внимательно рассмотрели и макет реконструкции Второго храма и прочли статью в энциклопедии и теперь точно знаете, что никаких менял или торговцев живым товаром в помещение собственно Второго иерусалимский храм не допускалось!
Все торговые операции происходили во внешнем дворе храма куда имел доступ любой человек в том числе и не иудей!
И это место не считалось связанным поскольку было собственно рабочей и деловой частью Храма, а по сути было одним большим храмовым рынком!
Все жертвы и молитвы приносились только в самом Храме, куда уставно допускались одни ортодоксальные иудеи из числа мужчин.
Для иудейских женщин, которых изначально не допускали в Храм при нем был специальный двор, где они и приносили свои жертвы…
И отсюда мы видим, что иудейские историки верно утверждают о том, что не мог Иисус Христос изгнать из Храма торговцев и менял, ибо их там не было.
Теперь так же я надеюсь, что читатель сам убедится и в грандиозности ( как на то время) сооружения Второго храма, особенно величине его «Внутреннего двора» и сам может легко представить себе, сколько там перед Пасхой собралось приехавших в Иерусалим иудеев и тех лиц в том числе и менял, что там после 25 числа установили свои меняльные столы!!!
А представив, я надеюсь, что вы уважаемые читатели теперь поняли, что ни самому Иисусу Христу, ни даже если бы ему в этом помогали все его 12 апостолов, было бы не под силу изгнать всех торговцев и менял из внутреннего двора Храма.
Поскандалить с одним, двумя, но не более 5-10 торговцами и менялами Иисус Христос, используя свою теоретичную подкованностью в иудейских законах (если верить Евангелиям) теоретически конечно мог, мог кое кого и толкнуть (но не ударить, ибо это уже было уголовное преступление!), и даже в пылу споров с оппонентами опрокинуть пару меняльных столов, но не более этого!
После, чего я думаю в конфликт сразу бы вмешалась храмовая стража, привыкшая не особенно церемонится с разными религиозными спорщиками, и он был бы прекращен!
Но, это я так думаю, а специалисты по древней иудейской истории это все показывают в ином более правильном виде!
Далее я подаю подробный рассказ о том, как работал иудейский Храм и можно ли было при этом Иисусу Христу выгнать торговцев и менял из Храма!?
«Администрация u служба в храме.
– Всеми текущими делами второго X. заведовала администрация, состоявшая из 15 выборных священников (). В Мишне названы следующие имена священников, занимавших официальные должности при X., по-видимому, незадолго до его разрушения:
1) Иоханан бен-Пинхас, хранитель печатей; он принимал плату от жертвоприносителей за вино и елей и выдавал в получении ее расписку или печать, которая затем предъявлялась надзирателю за вином и елеем;
2) Аггия заведовал возлияниями;
3) Матития бен-Самуил распределял по жребию храмовую службу между священниками; 4) Петахия следил за помещениями жертвенных птиц;
5) Бен Ахия, врач при X., следил за физическим состоянием священников, особенно за болезнями пищеварительных органов;
6) Нехуния заведовал колодцами, доставлявшими воду паломникам на больших дорогах, ведших к Иерусалиму;
7) Гебини (Габиним) громким голосом выкрикивал различные извещения;
8) Бен-Гебер следил за воротами, их своевременным отпиранием и запиранием;
9) Бен-Баби доставлял фитили для храмовых ламп;
10) Бен-Арза руководил музыкантами-левитами;
11) Уграс бен-Леви обучал их пению;
12) священническая семья Гарму занималась приготовлением хлебов предложения;
13) семья Абтинас славилась своим умением готовить кадильный порошок;
14) Элеазар заведовал завесами;
15) Пинхас был ризничим (Шек., V, 1; ср. Маймонид, Jad, Kele ha-Mikdasch, VII, 1; см. Пинехас).
Храмовыми сокровищами заведoвали три особых казначея () и семь доверенных лиц ().
Во дворах находились 13 ящиков (Шек., VI) для добровольных денежных приношений.
Взносы в 1/2 сикля за публичные жертвоприношения взыскивались, начиная с 1-го Адара (ib., I, 1, 3).
В особом помещении, так называемом Lischkat Chaschaim ("секретная камера"), делали свои взносы лица, желавшие остаться неизвестными; из этих взносов составлялся фонд для благотворительных целей.
В камере сосудов лежала посуда, пожертвованная храму; один раз в месяц ее пересматривали казначеи X. и частью непосредственно отдавали для храмового употребления, частью продавали, и вырученные деньги обращали на ремонт храма (Шек., V, 6).
Высшими должностными лицами священнической касты были первосвященник, его заместитель () и два помощника, "католики" ().
Ежедневно сторожевую службу в X. носил отряд, состоявший из трех священников и 21 левита.
Священники сторожили в трех местах: в здании Автинаса, в бет га-Ницоц (камера искр) и в бет га-Мокед (камера для очага); левиты имели посты у всех ворот и углов внешней и внутренней ограды, а также у камеры жертвоприношений, камеры завес и, наконец, последний пост позади помещения Святая Святых (каппорет).
"Начальник храмовой горы" ( ) обходил посты, делал замечания за небрежность, спящих бил палкой и имел даже право поджечь им платье (Мид., I, 1—2).
Внутреннюю службу в X. выполняли священники, делившиеся на 24 смены и менявшиеся еженедельно.
Они помещались частью в "камере искр", главным образом, в "камере для очага"; обе камеры находились в северной части внутреннего двора.
Камера для согревания была очень вместительна, со сводами, имела двое ворот, одни с внутреннего двора, другие с вала (хел); сама камера передней частью своей выступала из линии внутренней ограды на прилегающий вал;
внутренняя часть считалась освященной, и здесь священникам нельзя было ни садиться, ни спать;
наружная же часть была неосвященная; здесь старшие священники ложились на ночь спать на лавках вдоль стен, а молодые спали на земле, на коврах, со священнической одеждой у изголовья, прикрываясь собственными покрывалами.
Камера была соединена подземным ходом с купальней, в которую священник уходил после случайных осквернений.
Совершив омовение, он возвращался наверх и согревался у огня, который здесь всегда горел.
Старшие священники держали у себя ключи X. и клали их на ночь за мраморную плиту под полом; плита подымалась прикрепленным к ней кольцом; священник бодрствовал или спал на этой плите.
К нему рано утром, на заре, приходил дежурный священник, заведовавший службой (мемуне), и стучал в двери. Вся очередная смена совершала омовение и жребием решала, кому участвовать в службах этого дня.
Вновь избранные священники с факелами в руках проходили двумя группами по-восточному и западному портику внутреннего двора, осматривая все на своем пути; обе группы встречались на юге у камеры приготовления хабитин (ежедневной мучной жертвы).
Здесь метали жребий, кому готовить хабитин, и выбравшие жребий принимались за работу. Также решали жребием, кому чистить жертвенник.
Взявший жребий не приступал к исполнению своей обязанности, прежде чем не освящал рук и ног у умывальника. Он входил один в подземелье, и вскоре товарищи его слышали шум от тяжелого механизма, которым накачивалась вода из цистерны (механизм первосвященника Бен-Каттина наподобие врота; Иома, III, 10; Тамид 28б).
Умыв руки и ноги он подымался на вершину жертвенника с серебряной лопаткой, , разгребал уголья, набирал полную лопату золы и, сходя вниз, складывал золу на пол, в определенное место. Тогда к нему присоединялись его товарищи. Очистив жертвенник, они разводили новый огонь на восточной стороне алтаря и клали на него оставшиеся от прошлого дня несгоревшие куски мяса.
Выбрав лучшие смоковные дрова, они устраивали второй костер для курения на западной части алтаря. Снова приступали к жеребьевке, чтобы определить, кому зарезать животное для утреннего жертвоприношения, кому кропить его кровью алтарь, кому снимать пепел с семисвечника и с внутреннего курительного жертвенника, кому вносить на кевеш (наклонная плоскость, примыкающая к алтарю) те или другие части животного, муку, хавитин и вино.
После этого мемуне приказывал кому-нибудь выйти и смотреть, не настало ли время для заклания. Взобравшись на возвышение, священник смотрел положение солнца и когда замечал, что освещался весь восток до Хеброна, он говорил: "Свет!".
Тогда, по приказу мемуне, священник приносил ягненка из камеры ягнят; из камеры сосудов приносили 93 серебряных и золотых сосуда, из золотой чаши поили ягненка и, хотя он был накануне осмотрен, его осматривали еще раз при свете факелов. Священник, которому по жребию досталось утреннее жертвоприношение (tamid schel schacharit), привязывал ягненка к жертвеннику, а те, кому выпадало снимание золы с внутреннего жертвенника и семисвечника, подходили с золотой корзинкой (тени), золотым кувшином (куз) и двумя ключами, которыми они открывали "большие ворота" гехала.
С громким скрипом отворялись тяжелые ворота ("Шум был слышен в Иерихоне", – говорит предание), и этот шум был сигналом для закалывания ягненка. Священник принимал кровь в сосуд и кропил ею во все стороны жертвенника, а другие снимали шкуру и разрезали на части жертву.
Части животного вместе с мучной жертвой после соления складывались на кевеш. А в это время в гехале чистили золотой алтарь, удаляли пепел со светильников и зажигали потухшие огни.
Затем вся смена направлялась в каменную палату ( ), где под руководством мемуне читали славословия, десять заповедей и "шема" и благословляли народ, а по субботам прибавлялось еще одно благословение уходящей смене священников.

